Текст книги "Литературоведческий журнал №35 / 2014"
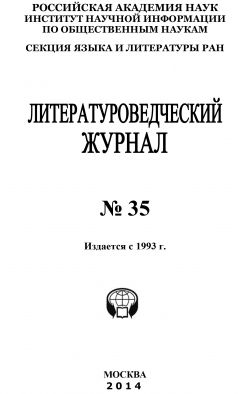
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Фантастическое у Лермонтова 4444
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, Проект № 12-34-10216 «М.Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь».
[Закрыть]
Ю.Н. Сытина
Аннотация
В творчестве Лермонтова фантастическое представлено в разных жанрах. Зачастую оно основывается на фольклорных образах и бродячих сюжетах. Фантастическое придает изображаемым событиям метафизический и вселенский смысл, философское звучание. Наличие сверхъестественного никогда не поясняется автором. Недосказанность создает особую мистическую напряженность, ведет к символизации образов, порождает многоплановость их интерпретации.
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, фантастическое, мистическое, сверхъестественное, фольклор, олицетворение.
Sytina U.N. Fantastic in the Lermontov’s work
Summary. In the Lermontov’s work fantastic is presented in different genres. Often it is based on folk stories and wandering plots. Fantastic gives depicted events metaphysical and universal sense, philosophical sound. The presence of the supernatural is never explained by the author. Innuendo creates a special mystical tension, leads to symbolize images, generates diversity of their interpretation.
Мистический колорит и фантастические мотивы характерны для русской литературы первой половины XIX в. Ими наполнены многие произведения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского и др. У М.Ю. Лермонтова фантастическое появляется в отдельных произведениях, мистическое же мироощущение пронизывает все его творчество. «Вещее зрение» [6, 76] и пророческий дар, присущие поэту, позволяют говорить о метафизических основах его художественного метода, связанных с «постижением глубинных сверхчувственных причин явлений бытия» [5, 69].
В творчестве Лермонтова фантастическое представлено в разных жанрах. Зачастую оно основывается на фольклорных образах и бродячих сюжетах, однако по большей части почерпнутых поэтом не из первоисточников, а из литературной интерпретации народного творчества европейскими романтиками, В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным и др. Лермонтов поздно непосредственно познакомился с русским фольклором, по собственному признанию поэта, в детстве он «не слыхал сказок народных» [VI, 387]4545
Здесь и далее ссылки на произведения М.Ю. Лермонтова даны по изданию: Лермонтов М.Ю. Соч.: В 6 т. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957. Римскими цифрами указаны номера томов, арабскими – страниц.
[Закрыть].
Центральными мотивами, выражение которых Лермонтов находит, прибегая к фантастическому, становятся любовь, мистика человеческих отношений и власть одной души над другой. В раннем стихотворении «Жена Севера» (1829) возникает образ прекрасной, таинственной, требующей поклонения девы, органически связанной с дикой природой «полуночной страны» [I, 58]. За встречу с «женой Севера» простой смертный платит неизбежной гибелью. В позднем стихотворении «Тамара» (1841) вновь появляется образ женщины, наделенной «всесильными чарами» и фантастической «непонятной властью» над сердцами случайных путников [II, 202]. Но северный пейзаж сменяется южным, и присущий раннему стихотворению аскетизм уступает место подчеркнутой чувственности. Однако тайна женщины, загадочность участи смертных, встретившихся у неё на пути, остаются неизменными.
Сила любви, клятвы в ней и неизбежная кара, настигающая клятвопреступника, становится темой стихотворения «Любовь мертвеца» и баллады «Гость». Любовь превыше смерти, для нее нет преград: «Пускай холодною землею // Засыпан я, // <…> Любви безумного томленья, // Жилец могил, // В стране покоя и забвенья // Я не забыл» [II, 180], – говорит возлюбленной мертвец. И угрожающе добавляет: «Ты мертвецу, святыней слова, // Обручена» [II, 181]. В балладе «Гость» девушку, легкомысленно презревшую клятву верности погибшему на войне возлюбленному, настигает страшное возмездие – мертвец является на свадьбу к изменнице и увлекает ее с собой под землю. Но и после смерти не найти упокоения их душам, – когда живые спят, две призрачные тени бродят по пустым комнатам.
Иначе фантастический мотив возвращения мертвеца раскрывается в стихотворении «Воздушный корабль». Призраком вновь движет любовь – любовь к Родине. Это чувство оказывается не менее сильным и исполненным страсти, чем любовь к женщине. Каждый год в канун смерти Наполеона оно поднимает спящего вечным сном императора из могилы и на волшебном корабле мчит его к «Франции милой» [II, 152]. Вид родной земли наполняет сердце мертвеца трепетом, воспламеняет очи огнем. Но напрасно зовет он своих соратников и наследника-сына – ночь отвечает безжалостной тишиной. Конец стихотворения – апофеоз бессилия некогда могущественного императора. Наполеон сдается и, горестно махнув рукою, пускается в обратный путь, чтобы через год возвратиться во Францию опять. Тайна Наполеона, загадочность этой по-своему эпохальной личности глубоко волновали Лермонтова на протяжении всей жизни. В стихотворении «Воздушный корабль» мистика истории органически вплетается в фантастический фон повествования. Прибегая к фантастическому, Лермонтов подчеркивает, с одной стороны, страстность и мятежность души великого человека, с другой же – его бессилие.
Мотив возвращения мертвеца на землю появляется и в юношеском стихотворении Лермонтова «Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами…»). Здесь благодаря фантастическому создается напряженная атмосфера, помогающая поэту с особой силой передать муки неприкаянности и одиночества, размышления о смысле жизни, бренности бытия, несчастном людском жребии, заключающем неизбежные ошибки, самообманы, слепоту. В этом стихотворении фантастическое получает рациональное объяснение с помощью мотива сна – пробуждение спасает лирического героя от нестерпимого отчаяния и возведения хулы на Небо. Возвращение души умершего на землю оказывается кошмаром, что, однако, не умоляет остроты переданных эмоций и поставленных вопросов.
В творчестве Лермонтова сопричастной происходящим событиям и чувствам героев зачастую оказывается природа. Для поэта характерно натурфилософское ее восприятие как «откровения» [5, 115] и чуда. Иногда Лермонтов прибегает к олицетворению природы – для раскрытия сердечных переживаний и людских трагедий («Дары Терека», «Тростник»), философских раздумий над историей («Спор», «Два великана»). В стихотворении «Спор» поднимаются вопросы противостояния природы и неизбежно наступающей на нее цивилизации, роли России в процессе мирового развития. Олицетворение могучего Казбека и Шат-горы предает «Спору» особый драматизм и остроту, вызывая сопереживание не абстрактным идеям, но «живым», пусть и фантастическим, существам.
Еще один характерный для творчества Лермонтова фантастический мотив – любовь между простым смертным и мистическим созданием («Русалка», «Морская царевна», поэмы «Демон», «Азраил»). Мотив этот берет истоки в народном творчестве и имеет богатую традицию литературной интерпретации. Лермонтов обращается к устойчивым бродячим сюжетам и фольклорным образам, но наполняет их своим содержанием. По замечанию В.Э. Вацуро, для поэта характерно не столько «освоение фольклора как определенной художественной системы», сколько «использование арсенала его образов и тем» [1] для передачи собственных духовных исканий, чувств, настроения.
Соприкосновение двух миров у Лермонтова «неизбежно катастрофично, чревато трагизмом взаимного непонимания и неузнавания» [4, 286], неравная любовь несет неминуемую, хотя и нежеланную смерть одному из возлюбленных. Русалка в одноименном стихотворении «полна непонятной тоской» оттого, что любимый ею витязь, «добыча ревнивой волны» [II, 67], спит на морском дне непробудным сном и не отвечает на ее ласки. В стихотворении «Морская царевна» уже человек невольно губит морскую царевну. Красавица, которую он торжествующе выносит из воды, оказывается «чудом морским с зелёным хвостом» [II, 211]. Однако, спасшись от губительных объятий русалки, витязь не чувствует радости – его пугает «непонятный упрек», звучащий в устах умирающей на суше царевны, – «Будет он помнить про царскую дочь!» [II, 211]. Фантастическое передает здесь ощущение обманчивости окружающей действительности, характерных для нее неожиданных метаморфоз. Поступки героев непреднамеренно и внезапно оборачиваются злом, несут другим невольную гибель, навсегда оставляя глубокий след в душах остающихся жить.
В фантастических поэмах Лермонтова «Демон», «Азраил», «Ангел смерти» нечеловеческое происхождение главных героев подчеркивает их одиночество, придает изображаемым событиям, помимо конкретного, метафизический и вселенский смысл, философское звучание.
Важное место в фантастическом наследии Лермонтова занимает образ демона. Этот образ связан с христианской культурой (Библия, апокрифы, житийная литература, святоотеческие труды), западноевропейской традицией (Дж. Мильтон, И.В. Гёте, Дж. Байрон, А. де Виньи, Т. Мур), русской литературой (прежде всего, А.С. Пушкин). У Лермонтова образ демона появляется в 1829 г. – в первых редакциях одноименных стихотворения и поэмы «Демон». Обращаться к этому герою Лермонтов будет на протяжении всего творческого пути. Причем наравне с трагической трактовкой образа у поэта есть и комическая – стихотворение «Пир Асмодея», где фантастическое предстает в форме сатирической аллегории.
Поэма «Демон» за годы ее написания претерпела немалые изменения, коснувшиеся и изображения фантастического. Из некой абстрактной экзотической страны действие переносится на Кавказ – в край, хорошо знакомый и самому поэту, и его читателям как место военных действий и лечения целебными водами. Кавказ предстает сказочной страной, овеянной тайной и легендами, но, в то же время, страной действительно существующей – фантастикой, воплощенной в мире реальном. В изображение величественной природы Кавказа органично вписывается мистический образ Демона. Он появляется в разных ипостасях. Лермонтов постепенно «развенчивает видимое величие зла, справляется с его обаянием» [5, 22]. Сумрачный «печальный <…> дух изгнанья» [III, 183], стремясь к любви, превращается в «вечер ясный: // Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..» [III, 195]. Но «старинной ненависти яд» оказывается сильнее желания «с Небом помириться» и «веровать добру» [III, 208]. В последней сцене «адский дух» появляется в своем истинном обличии: «Каким смотрел он злобным взглядом, // Как полон был смертельным ядом <…>, // И веяло могильным хладом // От неподвижного лица» [III, 215]. Благодаря фантастическому Лермонтов «подвергает анализу само персонифицированное Зло» [3, 93], изображает духовную реальность, силы, борющиеся в человеческой душе, посредством художественных образов. Демону в творчестве поэта противостоит Ангел – средоточие света, небесной гармонии, любви и всепрощения. Он появляется и в поэме «Демон», и в лирике поэта («Ангел» («По небу полуночи ангел летел…»), «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою…»)).
На «кавказские» произведения Лермонтова («Демон», «Тамара», «Дары Терека», «Спор») большое влияние оказал фольклор народов Кавказа. Отразился он и в «турецкой сказке» «Ашик-Кериб» – литературно обработанном Лермонтовым сюжете, широко распространенном в Средней Азии, на Кавказе и в Закавказье. Язычество славян и русский фольклор в фантастическом ключе преломились в отрывке из юношеской поэмы Лермонтова «Олег» (1829), где появляется мифологический образ Стрибога.
Особую роль в фантастическом наследии Лермонтова играет повесть, условно называемая исследователями «Штосс» (1841). Она во многом порождена атмосферой, царящей в петербургском литературном кругу (Карамзины, В.Ф. Одоевский, В.А. Жуковский, Е.П. Ростопчина), в который Лермонтов вошел с осени 1838 г. Большое место здесь занимали религиозные споры, разговоры о мистике, науке, возможном рациональном объяснении сверхъестественного.
Действие «Штосса» начинается в светском салоне. Фантастические элементы вкрадываются в повествование постепенно, подспудно вырастая из самой гущи реальных событий. Мистический тон задает баллада Ф. Шуберта на слова И.В. Гёте «Лесной царь». Как только музыка умолкает – начинается действие. Лугин сам заявляет о своем сумасшествии Минской. Сбивчивые признания героя в зрительных и слуховых галлюцинациях, его странное поведение, мучительные предчувствия и их неожиданное ирреальное воплощение – и все это на фоне болезненного, оглушающего Петербурга – постепенно нагнетают атмосферу суггестивности, незримо нависшей над героем угрозы.
Одним из центральных в повести является мотив игры, понимаемой как поединок с самой Судьбой. Мистика карт и карточной игры часто появляется в литературе 1830-х годов – у А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского. У Лермонтова игра в карты занимает важное место в «Маскараде», «Фаталисте», «Тамбовской казначейше». Ключевая роль принадлежит ей в «Штоссе». Лугин не находит в реальной жизни применения своей энергии, за картами же он превращается в рыцаря, сражающегося с персонифицированными в образе старика темными силами. Ставка в такой игре – идеал, олицетворенная в воздушной красавице мечта художника о «фантастической любви» [VI, 361], которую он не может ни найти в реальной жизни, ни выразить в искусстве.
Открытый финал и резкий обрыв повествования дают возможность различного толкования фантастического. С одной стороны, оно объясняется болезнью главного героя, сошедшего с ума от осознания недостижимости идеала. С другой – «Штосс» предстает как собственно фантастическая повесть с «живым» приведением. Возможность рационального объяснения событий все время ставится Лермонтовым под сомнение. Он нарочито подчеркивает нездоровье Лугина, однако в самой этой болезни есть что-то фантастическое – желтыми герою кажутся только лица, слуховая галлюцинация оказывается сообщением действительно существующего адреса и т.д. Балансировать на грани фантастического и реального, все время ставя под сомнение то одно, то другое, Лермонтову во многом позволяет ирония. В повествование вкрадывается тонкая пародия на типичные приемы «страшных» историй (неведомый голос, таинственный портрет, поединок с приведением и др.). Однако та же ирония, лишая повествование романтической экзальтации, углубляет серьезность и трагизм переживаний Лугина, делает рационально-материалистическое объяснение сверхъестественного неприемлемым.
Традиция готических романов, проявившаяся в «Штоссе», нашла отражение и в раннем прозаическом опыте Лермонтова «Вадим». По замечанию Эйхенбаума, «рембрандтовское освещение», построенное на ярких контрастах света и тьмы, сообщает «Вадиму» «характер мрачной фантастики», «роднящий роман Лермонтова с романом ужасов (в том числе и с Гюго)» [7, 132]. Другое произведение Лермонтова, тесно связанное со «Штоссом», – повесть «Фаталист». Здесь также появляются темы вызова Судьбе, карточной игры, таинственных предчувствий, рокового совпадения событий. Неоднозначность толкованию происходящего вновь придает ирония, с одной стороны, лишая патетики философско-мистические размышления героя, с другой же, ставя под сомнение доводы здравого смысла.
Лермонтов был убежден в «неисчерпаемости внутреннего мира, невозможности постигнуть его при помощи рассудка» [4, 280]. Произведения поэта наполняют мистическое мироощущение, религиозно-философская рефлексия. Когда речь заходит о тайнах мироздания и человеческой души, связи мира земного и потустороннего, о высшей, духовной реальности, в произведениях Лермонтова нередко появляется фантастическое. Оно органически вплетается в ткань повествования, носит визионерский характер, его наличие никогда не поясняется автором. Зачастую без объяснения остаются и причины изображаемых событий. Умолчание и недосказанность создают особую мистическую напряженность, ведут к символизации образов, порождают многоплановость их интерпретации.
1. Вацуро В.Э. М.Ю. Лермонтов <и фольклор> // Вацуро В.Э. О Лермонтове: Работы разных лет. [Электронный ресурс]. URL: http://www.flibusta.net/ (дата обращения: 29.12.2013).
2. Вацуро В.Э. Последняя повесть Лермонтова // Вацуро В.Э. О Лермонтове: Работы разных лет. [Электронный ресурс]. URL: URL: http://www.flibusta.net/ (дата обращения: 29.12.2013).
3. Касаткина (Аношкина) В.Н. «Демон» – поэма М.Ю. Лермонтова // Христианские истоки русской литературы. Сборник научных трудов. – М.: Изд-во МПУ «Народный учитель», 2001. – С. 98–111.
4. Кедров К.А., Щемелева Л.М. «Морская царевна» // Лермонтовская энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1981. – С. 285–286.
5. Киселёва И.А. Творчество М.Ю. Лермонтова как религиозно-философская система: Монография. – М.: МГОУ, 2011. – 314 с.
6. Мочульский К.В. Лермонтов (Из книги «Русские великие писатели XIX века») // Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов. – М.: Русскiй мiръ, 1999. – 288 с.
7. Эйхенбаум Б.М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки. – Л.: Гос. изд-во, 1924. – 168 с.
«Чёрствый» Печорин: об одном эпизоде и об авторской позиции в романе «Герой нашего времени»
А.М. Ранчин
Аннотация
Статья посвящена анализу и интерпретации одного из эпизодов в романе «Герой нашего времени» (последней встречи Печорина с Максимом Максимычем). Доказывается, что господствующее представление о проявленных Печориным «черствости» и «бессердечии» не соответствует истине: авторская оценка Печорина в этом эпизоде не формулируется, а утверждение повествователя о «черствости» главного героя является ироническим.
Ключевые слова: «Герой нашего времени», поэтика, интерпретация, авторская позиция, повествователь, ирония, система персонажей.
Ranchin A.M. The «callousness» of Petchorin: About one episode and the position of the author in the «Hero of our time»
Summary. The paper is devoted to the analysis and interpretation of one of episodes in the novel «Hero of Our Time» (Petchorin's last meeting with Maxim Maksimych). It is proved that the dominating idea of «callousness» shown by Petchorin doesn't correspond to truth: еру author's assessment of Petchorinin isn't formulated in this episode, and the statement of the storyteller about «callousness» of the main character is ironical.
Эпизод из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», о котором пойдет речь, находится в главе-повести «Максим Максимыч». Это встреча Печорина со штабс-капитаном – былым добрым знакомым. Эпизод запоминающийся, в частности, благодаря тому, что поведение центрального персонажа получает выразительную характеристику – оценку со стороны повествователя, обыкновенно именуемого «странствующим офицером», причем эта оценка, как правило, признается не только субъективной точкой зрения повествователя, но и одной из граней авторской позиции. Представляется, однако, что в действительности все обстоит намного сложнее.
Вчитаемся еще раз в описание краткой встречи и в изложение мыслей «странствующего офицера» по ее поводу: Максим Максимыч «хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.
– Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? – сказал Печорин.
– А… ты… а вы?.. – пробормотал со слезами на глазах старик… – сколько лет… сколько дней… да куда это?..
– Еду в Персию – и дальше…
– Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались…
– Мне пора, Максим Максимыч, – был ответ.
– Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?..
Мне столько бы хотелось вам сказать… столько расспросить… Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..
– Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь.
– А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять… А Бэла?..
Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся…
– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно зевнув…
Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. “Мы славно пообедаем, – говорил он: – у меня есть два фазана, а кахетинское здесь прекрасное… разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта… Мы поговорим… вы мне расскажете про свое житье в Петербурге… А?..”
– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч… Однако прощайте, мне пора… я спешу… Благодарю, что не забыли… – прибавил он, взяв его за руку.
Старик нахмурил брови… Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. “Забыть! – проворчал он: – я-то не забыл ничего… Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться…”
– Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески: – неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога… Удастся ли еще встретиться – бог знает!.. – Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи»4646
Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Ред. коллегия: В.А. Мануйлов (отв. ред.), В.Э. Вацуро, Т.П. Голованова, Л.Н. Назарова, И.С. Чистова. Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 4. Проза. Письма / Ред. И.С. Чистова. – Л., 1981. – С. 221–222. Далее роман М.Ю. Лермонтова цитируется по этому изданию с указанием страниц в скобках в тексте статьи.
[Закрыть].
Повествователь, выступая в роли «сочувственника» жестоко разочарованного и обиженного штабс-капитана, резюмирует: «Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими… Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется…» [с. 224].
Мнение об этой сцене как о «суде» над Печориным давно высказала такая тонкая исследовательница, как Л.Я. Гинзбург, признавшая, впрочем, что все трое участников события – главный герой, Максим Максимыч и повествователь – демонстрируют в ней неспособность понять другого: «“Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости”. – Это суд над Печориным. Но в этой сцене все три действующих лица показаны в своем непонимании смысла происходящего. Печорин показан в ограниченности и ослеплении эгоцентризма. Максим Максимыч – в ограниченности своих бытовых понятий, в силу которой он поведение Печорина может объяснить только светским фатовством: “Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда… а после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату…” Рассказчик в этой сцене для того и существует, чтобы не понимать Печорина: “Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. И отчего? Оттого, что Печорин, в рассеянности или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею”. “Причину”, по которой Печорин холодно протянул руку старому штабс-капитану, может объяснить только автор, хотя прямая авторская речь ни разу не звучит в романе. Он объясняет это совокупностью произведения, вмещающего и Максима Максимыча со всей узостью и чистотой его понятий и Печорина, запутавшегося в собственной иронии»4747
Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова. – Л., 1940. – С. 171–172.
[Закрыть].
Безусловно приняла оценку холодности Печорина как истинную Е.Н. Михайлова: «Конфликт рождается в случайной дорожной встрече Максима Максимыча и Печорина. Нет надобности пересказывать весь этот трогательный, безжалостный и щемящий душу эпизод встречи. Кто не помнит бедного старика с его восторженным ожиданием и горделивой уверенностью, что Печорин “сейчас прибежит”, как только узнает о его присутствии, его терпеливое игнорирование холуйской презрительности печоринского лакея, его пожертвование в первый раз в жизни служебными делами ради собственной надобности, затем его беспокойные подозрения, душевную удрученность, бессонницу и, наконец, после длинных проволочек, в последнюю минуту, долгожданное свидание… и грубый, незаслуженно-обидный удар по его лучшим человеческим чувствам. Но в чем смысл этого эпизода? Кого в нем обвиняет и кого оправдывает Лермонтов? С Максимом Максимычем он или с Печориным?».
Для Е.Н. Михайловой истинный ответ не составляет проблемы: «Интонация лермонтовского повествования не оставляет сомнений, – она вся пронизана глубоким состраданием к оскорбленным человеческим чувствам Максима Максимыча. Всем распределением красок в новелле Лермонтов подчеркивает правду, красоту, человечность переживаний Максима Максимыча и оскорбительную, возмущающую сердце несправедливость нанесенных ему обид. Тема разработана в аспекте гуманистического сострадания к обиженному “маленькому” простому человеку в духе пушкинской (“Станционный смотритель”) и особенно гоголевской традиции. Несмотря на близость к Пушкину объективно-повествовательной, спокойной и простой манеры, Лермонтов в изображении попранной человечности больше использует гоголевские традиции. От Гоголя идет терзающая острота антитез, безжалостное подчеркивание жестоких “истязующих” моментов. Эти “жестокие” контрасты не оставляют места сомнениям: в эпизоде дорожной встречи Лермонтов на стороне Максима Максимыча и против Печорина».
Вина Печорина подробно изъясняется: «В чем же виноват Печорин? Если Максим Максимыч весь обращен к другому человеку, весь раскрыт ему навстречу, то Печорин – весь замкнут в себе и не жертвует для другого ничем, даже самым малым. Наоборот, у него не дрогнет рука принести в жертву своему спокойствию душу другого. Лермонтов разоблачает в Печорине эгоцентризм, который все соотносит с “я”, все подчиняет этому “я”, оставаясь безучастным к тому, как его поведение отразится на другом человеке. Дело даже не в том, что Печорин не принес для Максима Максимыча столь малую “жертву”, как небольшая задержка в пути ради маленького праздника с фазаном и кахетинским, чтобы побаловать старого ребенка. Дело в том, что он не почувствовал всей высоты и чистоты человеческого обаяния старого штабс-капитана, не ощутил человечески большого содержания его чувств настолько, чтобы свободно, без “жертв” и насилия над собою ответить на эти чувства. Печорин настолько замкнут в себе, что теряет способность, забыв о себе, проникнуться хотя бы ненадолго волнением, тревогами, запросами души другого человека. В маленьком эпизоде дорожной встречи прав не умный и волевой Печорин, с его эгоистической сосредоточенностью на самом себе, но простодушный, ограниченный капитан, умеющий так бескорыстно и беззаветно привязываться к другому человеку. Так, в “Герое нашего времени” впервые при столкновении выдающейся личности с человеком обыкновенным правым оказывается этот последний. Критика эгоизма Печорина, ощутимая еще в “Бэле”, здесь выступает отчетливо и глубоко: там от Печорина требовалось жертвовать правдой и свободой чувства, – здесь “жертва” не обязывала ни к какой утрате духовной самостоятельности и все-таки принесена не была.
Однако Печорин и по своим личным качествам, и по своему мировоззрению представляет более высокий тип и уровень развития. Он, а не Максим Максимыч, – лермонтовский герой (хотя и “нуждающийся в поправках”); его, а не Максима Максимыча, противопоставляет Лермонтов мелкому и пошлому обществу. В выборе между двумя типами мироотношения: активным – Печорина или пассивным – Максима Максимыча, сознательным или стихийным, протестующим и критическим или покорным и всеприемлющим, Лермонтов на стороне Печорина. Критикуя индивидуализм, Лермонтов не отвергает утверждения личного начала, которое несет с собою Печорин <…>»4848
Михайлова Е.Н. Проза Лермонтова / Отв. ред. С.А. Андреев-Кривич. – М., 1957. – С. 282–284.
[Закрыть].
Интересно, тем не менее, что исследовательница далее указывает на обстоятельства, поведение Печорина почти что извиняющие. В частности, это бестактное напоминание Максима Максимыча о Бэле, гибель которой главный герой пережил очень тяжело и от вины в ее смерти едва ли избавился: «Встреча Максима Максимыча и Печорина у Лермонтова – это не только конфликт воплощенной доброты и человечности с эгоцентризмом и жестокостью. Лермонтов видит в ней и безвыходность положения личности незаурядной и сложной, одержимой неизлечимым внутренним недугом, которая подвергается атакам со стороны человека, стоящего в развитии несравненно ниже. Внешняя холодноватая приветливость Печорина и его уклончивость по существу как от прямолинейно-навязчивых вопросов Максима Максимыча, так и от продления свиданья, – это стоическая выдержка человека, делающего хорошую мину при плохой игре, человека, к тайной ране которого поминутно бесцеремонно прикасается милейшее, простодушнейшее, но совершенно ограниченное существо. На бестактные вопросы Максима Максимыча о Бэле (Печорин при этом “чуть-чуть побледнел и отвернулся”), на его расспрашивания о петербургской жизни, о том, “что поделывал” Печорин, последний совершенно бессилен ответить. Если вспомнить примитивность мышления Максима Максимыча, объясняющего “английскую моду” на разочарование тем, что все англичане – пьяницы, можно представить себе, сколько душевной оскомины и раздражающей боли он мог причинить Печорину своими суждениями, – пустись Печорин действительно в откровенность. Уклончивость Печорина и его быстрый отъезд – это способ (правда, жестокий, которого следовало избежать) как можно скорее ликвидировать мучительно-нелепое положение. Сознание Печориным невозможности для него иного выхода явствует и из утешений им Максима Максимыча, где Григорий Александрович даже пытается проявить некоторое участие: “Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески: – неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога”.
Отсюда следует и еще один вывод: несмотря на нравственную правоту Максима Максимыча, несмотря даже на превосходство его над Печориным в отношении моральном, он настолько далеко отстоит от него по своим понятиям, что требовать от Печорина удовлетворенности обществом Максима Максимыча было бы невозможно»4949
Там же. – С. 284–285.
[Закрыть].
Истолкование эпизода, принадлежащее Е.Н. Михайловой, повторил У.Р. Фохт, огрубив социальную составляющую этой интерпретации: «При всей привлекательности образа Максима Максимыча, при всем том, что его естественность и простота несомненно импонировали Печорину, его простоватость и наивность, его смирение, полное отсутствие у него какого бы то ни было критицизма к общественной действительности того времени до известной степени объясняют холодное, даже грубое отношение к нему Печорина, невозможность для него внутренней близости с Максимом Максимычем.
Но, с другой стороны, при несомненном превосходстве Печорина над Максимом Максимычем обращение его с этим так расположенным к нему стариком говорит о его полной замкнутости в самом себе, о его эгоизме и даже черствости»5050
Фохт У.Р. Лермонтов: Логика творчества. – М., 1975. – С. 170.
[Закрыть].
Но в позднейших исследованиях романа эта, полная оговорок и нюансов, интерпретация эпизода развития не получила; восторжествовало мнение, что здесь выявляется лишь эгоизм центрального персонажа – и только. Так, даже И.И. Виноградов, решительно «реабилитирующий» Печорина как личность, пребывающую в напряженных и глубоких философских исканиях, от «плоского» моралистического осуждения, характеризует эпизод совершенно однозначно: «эта возмущающая нравственное чувство сцена прощания Печорина с бывшим товарищем, где Печорин выказывает такое чудовищное бессердечие, такую оскорбительную душевную черствость…»5151
Виноградов И.И. Философский роман Лермонтова // Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. – М., 2005. – С. 29.
[Закрыть]. Таким образом, в исследованиях советского времени возобладала точка зрения, впервые высказанная еще в 1840 г. С.О. Бурачком – критиком с репутацией «патентованного реакционера». Как с иронией писал этот рецензент: «Зато как мил и как велик “герой”, стоя рядом с Максимом Максимычем, который принял его в свою пустыню как друга, ласкал, как брата, ухаживал за ним как отец; а тот? Тому все это было смешно, несносно… Только что не наделял он Максима Максимыча, за любовь его, щелчками по носу… Жаль, что автор не воспользовался этим для полноты трескучих эффектов»5252
Бурачок С.О. «Герой нашего времени», М. Лермонтов. Две части. – СПб., 1840 (Разговор в гостиной) // М.Ю. Лермонтов: Pro et contra: Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей / Сост. В.М. Маркович, Г.Е. Потапова, вступ. ст. В.М. Марковича, коммент. Г.Е. Потаповой и Н.Ю. Заверзиной. – СПб., 2002. – С. 55.
[Закрыть].









































