Текст книги "Литературоведческий журнал №35 / 2014"
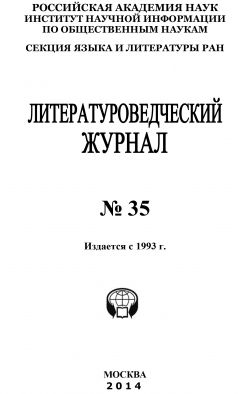
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
На интерпретацию исследователями сцены встречи Максима Максимыча с Печориным во многом влияет суровая оценка бессердечия главного героя «странствующим офицером». Как правило, его повествование воспринимается и трактуется либо как эхо авторского голоса, либо как совершенно прозрачная линза, позволяющая точно, объективно, без каких-либо малейших искажений рассмотреть реальность. Между тем не только поведение Печорина в эпизоде последней беседы со штабс-капитаном хотя бы отчасти может быть если не оправдано, то понято, но и его оценка «странствующим офицером» совершенно не обязательно отражает авторскую позицию. Мало того – эта оценка даже в пределах кругозора повествователя, возможно, не лишена своего рода иронии. Л.Я. Гинзбург категорически утверждала, что ирония повествовательному пласту, приписанному этому персонажу, абсолютна чужда: «<…> Оба лермонтовских рассказчика совершенно не склонны к иронии, – не только Максим Максимыч, с его простодушием и просторечием, но и скромный “путешествующий офицер”, который ближе к Ивану Петровичу Белкину, чем, скажем, к образу автора в “Сашке”»5353
Гинзбург Л. Творческий путь Лермонтова. – С. 186.
[Закрыть]. Однако это неверно. На примеры иронических высказываний, принадлежащих «странствующему офицеру», справедливо указал Б.М. Эйхенбаум. Ирония охватывает самые принципы повествования: «Рассказ о Бэле подан читателю как “путевые записки”, где фигура Максима Максимыча не менее важна и интересна, чем Печорин; автор кончает обещанием рассказать о новой встрече с Максимом Максимычем, как будто именно он, а не Печорин, является настоящим героем романа. Вместо ожидаемых размышлений по поводу рассказа о Печорине и Бэле автор обращается к читателю с неожиданным вопросом: “Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?” Читатель, заинтересованный Печориным, менее всего подготовлен к этому вопросу; он даже имел полное право забыть о Максиме Максимыче как о совершенно условном рассказчике. Тем более неожиданной кажется следующая за этим вопросом фраза, превращающая Максима Максимыча в героя всей повести: “Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ”. В действительности дело, конечно, все-таки в Печорине, но это обнаруживается только в предисловии к его “Журналу”»5454
Эйхенбаум Б. Литературная позиция Лермонтова // М.Ю. Лермонтов. – М., 1941. – Кн. I. (Лит. наследство. Т. 43/44). – С. 65. То же он писал и ранее: «<…> Сам Максим Максимыч превращен из традиционного, всегда более или менее условного рассказчика, в литературный персонаж: его положение укреплено как тем, что он участник событий, связанных с личностью Печорина, так и тем, что ему приданы определенные психологические черты, контрастирующие с личностью основного героя. Точно подчеркивая это, Лермонтов в конце новеллы выдвигает Максима Максимыча на первый план, делая его чуть ли не главным героем: “Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ”. Это – характерный “ложный конец” (термин В. Шкловского), которым на самом деле подчеркивается, что Максим Максимыч – лицо подсобное, традиционный рассказчик, роль которого на этот раз специально мотивирована и укреплена для того, чтобы сделать скрытым обычный прием и добиться, таким образом, “естественности”». – Эйхенбаум Б.М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки. – Л., 1924. – С. 150–151.
[Закрыть].
Есть основания утверждать, что ирония «странствующего офицера» распространяется не только на собственную повествовательную стратегию, но вторгается и в сферу оценок. Так, он цинично (наподобие самого Григория Александровича Печорина) относится к чужому счастью. Такое отношение проявляется в диалоге с Максимом Максимычем5555
По замечанию Б.М. Эйхенбаума: «“Да, они были счастливы!” – говорит Максим Максимыч. “Как это скучно!” – цинично восклицает (несомненно вместе с читателем) его слушатель». – Эйхенбаум Б.М. «Герой нашего времени» // Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. ст. / Сост. и подгот. текста И. Ямпольского; вступ. ст. Г. Бялого. – Л., 1969. – C. 295. Но должен ли читатель разделять этот цинизм повествователя? Это не очевидно: стратегия чтения выбирается читающим свободно, а не под диктатом «странствующего офицера».
[Закрыть] – штабс-капитан рассказывает историю Печорина и Бэлы:
«– Да, признаюсь, – сказал он потом, теребя усы: – мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.
– И продолжительно было их счастье? – спросил я.
– Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!
– Как это скучно! – воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. – Да неужели, – продолжал я, – отец не догадался, что она у вас в крепости?
– То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось…
Внимание мое пробудилось снова» [с. 201].
Столь же цинично отношение «странствующего офицера» к чужой жизни и смерти – оно определяется исключительно его прагматическими интересами: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением» [с. 224].
Можно возразить: цинизм – не ирония, процитированные высказывания повествователя иронии чужды. Однако это не так. «Странствующий офицер» настолько непосредственно и «бесстыдно» выражает свое отношение к чужому счастью и к смерти другого, что неизбежно возникает подозрение в нарочитом, напускном характере его цинической откровенности. И потому – подозрение, что в глубине своей этот цинизм несерьезный, исполненный самоиронии.
Но более показательно иное высказывание повествователя и мнимого автора – на сей раз относящееся как раз к несчастному Максиму Максимычу, жестоко обиженному черствым Печориным. Штабс-капитан «наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.
Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, – он ничего не отвечал.
Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался…
– Не клопы ли вас кусают? – спросил я.
– Да, клопы… – отвечал он, тяжело вздохнув» [с. 219].
Как ни суди, но чудовищная реплика о клопах стóит печоринского бессердечия по отношению к «несчастному» Максиму Максимычу. Причем если своему бывшему сослуживцу и приятелю штабс-капитан неуместно напомнил о покойной Бэле, то «странствующего офицера» он никак не задел и дикий вопрос о клопах как причине бессонницы и беспокойства уже совершенно не поддается извинению. Эта реплика не может быть не исполнена злой иронии: ведь повествователь понимает причину беспокойства своего попутчика и даже смеет осуждать Печорина, нанесшего старику столь жестокую рану. И не просто осуждать: «странствующий офицер» решается морализировать по поводу печоринского поступка. Но чем лучше он сам?
Таким образом, право повествователя как морального судьи подвергается сомнению, а его собственные рассуждения о бессердечии Печорина оказываются подсвечены иронически: скорее это не самоирония повествователя, а уже авторская ирония, демонстрирующая, что ни у кого нет бесспорного морального права судить другого. Не уместнее ли вспомнить о бревне в собственном глазу и оборотиться на себя?
Но проявил ли Печорин действительное бессердечие в сцене с былым сослуживцем? Все намного сложнее. Предупрежденный о приходе Максима Максимыча, Печорин реагирует живо и заинтересованно («быстро отвечал»): «Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему: “Если вы захотите еще немного подождать, – сказал я, – то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем…”
– Ах, точно! – быстро отвечал он: – мне вчера говорили; но где же он?» [с. 221].
До встречи с бывшим сослуживцем Печорин не торопился в путь, но, обменявшись с ним лишь парой реплик, торопится уехать, ссылаясь на недостаток времени. Предлог, очевидно, надуманный, ибо теперь Григорий Александрович в отставке и странствует уже не по казенной надобности. Но причина этой неожиданной поспешности, конечно, не в том, что Максим Максимыч ему неинтересен: в таком случае главному герою было бы все равно – что побыстрее уехать, что чуть задержаться. Для Печорина встреча оказывается мучительна как напоминание о недавнем прошлом.
Поведение во время краткой беседы со штабс-капитаном говорит скорее не столько о бессердечии Печорина, сколько о парадоксальном сочетании совершеннейшего равнодушия с заинтересованностью и даже некоторой участливостью по отношению к собеседнику. Печорин протягивает руку «довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой» – что здесь перевешивает: холодность этикетного жеста или радушие и расположение? Приветливая улыбка – напускная или искренняя? При напоминании о Бэле «Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся», затем «принужденно» зевнул. Он отворачивается, не желая, чтобы сторонний человек заметил его чувства, принужденный зевок также призван эти чувства скрыть – он отнюдь не выражает равнодушие к Максиму Максимычу. Прощаясь, Печорин берет штабс-капитана за руку, потом «дружески» обнимает. Казалось бы, что это, как не проявление искреннего чувства, настоящей симпатии?
Нужно помнить: во-первых, Печорин скрытен, во-вторых, он не способен на искреннюю дружбу. И в этом не его вина, а его беда. Собственные переживания центральный персонаж романа скрывает даже от себя самого. Так происходит, когда он описывает слезы отчаяния, вызванные потерей Веры, которую не смог догнать, загнав своего коня: «Попробовал идти пешком – ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.
И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хлоднокровие – исчезали как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.
Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? – ее видеть? – зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.
Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок» [с. 301–302].
Причиной слез, причиной душевной слабости не были, конечно, «расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок». Но признаться себе в этом Печорин не хочет.
Внешние проявления Печориным сердечности и дружбы ничего не значат; точнее, они – знак отсутствия истинного расположения и хоть какой-то привязанности. «Мы обнялись» [с. 237] – так он ведет себя при встрече с Грушницким. А настоящие отношения таковы: «Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. <…> Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать» [с. 238].
Зато доктор Вернер Печорину действительно близок, и его симпатией главный герой по-своему дорожит – настолько, насколько может дорожить чувствами другого человека. Но прощаются они холодно и отчужденно: «Он на пороге остановился, ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден как камень, – и он вышел» [с. 302].
Печорин не просто не способен на истинную дружбу, он отметает самую ее возможность, ибо не верит в равные отношения, считая дружбу господством одного над другим: «<…> Я к дружбе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается <…>» [с. 243].
Философское и моральное кредо героя романа выражено отчасти в признании, содержащемся в повести «Княжна Мери»: «<…> Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви» [с. 265].
Простодушный и недалекий Максим Максимыч для Печорина, естественно, не может стать ни предметом живого интереса, ни объектом изощренного и жестокого психологического эксперимента, целью которого являются господство, подчинение или месть и уничтожение (как это по-разному проявляется по отношению к княжне Мери, Вере, Бэле или Грушницкому). Для Печорина даже минимум расположения, проявленный при последней встрече со штабс-капитаном (с которым связаны тяжелые воспоминания о горькой судьбе Бэлы), значит уже много. Кажется, здесь мы встречаемся с редкой ситуацией, когда Печорин действительно выражает естественное, хотя и слабое расположение к собеседнику – как «эхо», отклик живейшего, но несколько навязчивого дружеского настроя со стороны штабс-капитана. На Максима Максимыча печоринские поведенческие стратегии господства-подчинения не распространяются. Впрочем, по-видимому, нельзя не учитывать и присутствия при беседе «странствующего офицера»: фигура непрошеного соглядатая так или иначе не может не модифицировать поведение Печорина, неизменно стремящегося ускользнуть от стороннего взгляда и от попытки стать объектом наблюдений и разгадывания.
Как известно, и характер, и даже портрет Печорина сотканы из отчетливых противоречий. При этом образ центрального персонажа романа вбирает в себя многие признаки, присущие другим героям, но не уподобляется ни одному из них5656
О параллелях между Печориным и другими персонажами см.: Герштейн Э.Г. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. – М., 1976. – С. 72–84; Hansen-Löve A. Pečorin als Frau und Pferd und andreres zu Lermontovs «Geroj našego vremeni» // Russian Literature. 1992. Vol. XXXI–IV. P. 491–544; Vol. XXXIII–IV. P. 431–469; Ранчин А.М. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова: Семинарий // Литература. – 1999. – № 25.
[Закрыть]. По справедливой мысли И.А. Гурвича, «структура “Героя нашего времени” не просто допускает возможность предположительных, вариативных истолкований изображаемого характера – это допущение доведено до эстетической непреложности»5757
Гурвич И.А. Загадочен ли Печорин? // М.Ю. Лермонтов: Pro et contra. – С. 799.
[Закрыть]. Эпизод последней встречи Печорина с былым сослуживцем и начальником эту мысль подтверждает. И, что по крайней мере несомненно, не дает оснований для однозначных морализаторских и упрощенных заключений о характере центрального персонажа романа.
В.Г. Белинский и лермонтовское направление в русской литературе 1840-х годов
А.С. Курилов
Аннотация
В статье делается вывод о том, что Белинский, говоря о существовании в русской литературе особого направления, связанного с творчеством Лермонтова, не только не определил его сущность, но фактически приписал Гоголю «лермонтовскую» составляющую «натуральной школы».
Ключевые слова: литературное направление, теория литературно-художественного развития, литературный процесс, «реальная поэзия», национальное своеобразие литературы.
Kurilov A.S. V.G. Belinsky and the Lermontovian trend in the Russian literature of the 1840th
Summary. The article deals with the views of Belinsky on Lermontov. It is argued that Belinsky when he had been spoken about the Lermontovian trend in the Russian literature did not define its meaning and associated with Gogol the contribution to the «natural school» that had been done by Lermontov.
Понятия «литературное направление» во времена Белинского не было. Было понятие «направление в литературе», означавшее «стремление литературы… выражать предназначенную ей идею», которая «давала характер всем или, по крайней мере, весьма многим произведениям ее в известное, данное время». Когда кончался «период одного направления, когда выражена предназначенная идея, тогда часто случается, что первый могучий смельчак указывает литературе направление новое»5858
Полевой Кс. О направлениях и партиях в литературе // «Московский телеграф». – 1833. – № 12. – С. 595–596: Полевой Н.А., Полевой Кс.А. Литературная критика. – Л., 1990. – С. 466–467.
[Закрыть].
Это была оригинальная теория литературно-художественного развития, которую изложил Кс.А. Полевой в статье «О направлениях и партиях в литературе» и на которую в своей деятельности опирался Белинский: другой теории процесса литературно-художественного развития в науке о литературе тогда не было. И говоря о «лермонтовском направлении», мы, согласно этой теории, будем иметь в виду именно «направление», какое «указал» нашей литературе поэт. Правда, Белинский в этом отношении более категоричен: не «указал», а «дал», как, впрочем, «давали» нашей литературе и другие «могучие смельчаки», начиная с М.В. Ломоносова.
Вопрос о «направлении», связанном с творчеством Лермонтова, у Белинского возникает спустя три года, после гибели поэта, и занимает его сравнительно недолго – с декабря 1844 по декабрь 1845 г., к тому же не непосредственно с самим Лермонтовым, а в связке с Гоголем и Пушкиным.
Так, в декабре 1844 г. Белинский скажет: «…последнему периоду нашей литературы… тон и направление дали Гоголь и Лермонтов». Они изменили бытовавшее тогда представление о литературе как «средстве к приятному препровождению времени», показав, что «литературное достоинство» определяет не развлекательность, а серьезное содержание, «мысль, направление, мнение, истина, выражение действительности»5959
Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. – Т. 7. – М., 1981. – С. 216–217. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страниц.
[Закрыть].
Однако определить и как-то отметить характер и степень участия каждого из этих двух «могучих смельчаков» в формировании «тона и направления», обозначенного периода русской литературы, Белинский даже не пытается. Какова роль Гоголя в этом процессе, он для себя тогда еще не решил. Что же касается Лермонтова, то Белинский находит тому оправдание: «Если б сказали Лермонтову о значении его направления и идей, – он, вероятно, многому удивился бы и даже не всему поверил; и немудрено: его направление, его идеи были – он сам, его собственная личность, и потому он часто высказывал великое чувство, высокую мысль в полной уверенности, что он не сказал ничего особенного». Оставляя в стороне вопрос о личности Лермонтова, критик уподобляет его силачу, что «без внимания, мимоходом откидывает ногою с дороги такой камень, которого человек с обыкновенною силою не сдвинул бы с места и руками» [7, 204]. Но это сравнение ничего не говорит о сущности собственно лермонтовской составляющей в том «тоне и направлении» литературы, что дали ей Гоголь и Лермонтов.
В январе 1845 г. Белинский скажет: гении, «подобно Пушкину и Лермонтову, делаются властителями дум своего времени и дают эпохе новое направление…» [7, 523]. И ни слова о том, что же это были за «направления».
Июль 1845 г. «Гоголь, – заметил критик, – дал направление прозаической литературе нашего времени, как Лермонтов дал направление всей стихотворной литературе последнего времени» [7, 612]. И опять не раскрывает, что же это были за «направления».
А в декабре того же года он уже по-другому оценивает роль Пушкина и Лермонтова в процессе развития отечественной литературы, вообще отказывая им в способности как-то повлиять на этот процесс. Совершить переворот в литературе и дать ей «новое направление», утверждает Белинский, «не мог бы сделать ни Пушкин, ни Лермонтов». Только Гоголь, вооруженный юмором – «этим сильным орудием… мог дать новое направление литературе…», такое, какое отвечало ее «стремлению… сделаться вполне национальною, русскою, оригинальною и самобытною…» И «направление» это, считает критик, «обнаружилось с 1836 года, когда наша публика прочла “Миргород” и “Ревизора”» [8, 16].
Несколько странным, казалось бы, звучит утверждение, что только благодаря «юмору» наша литература могла сделаться «национальною, русскою, оригинальною и самобытною». Но ничего странного в этом не было. К тому времени у Белинского сформировалось свое, особое понятие о сущности «юмора», начало которому было положено еще в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». «Гумор» (юмор), писал он там, «состоит в верном взгляде на жизнь», который позволяет писателям «извлекать поэзию жизни из прозы жизни» [1, 175, 169]. «Юмор» тогда для Белинского чуть ли не синоним «реальной поэзии», во всяком случае самая показательная ее черта. И спустя десять лет критик сохраняет такое же представление о сущности «юмора» как «верном воспроизведении явлений жизни» [8, 125], но теперь полагая его уже важнейшей составляющей, фактически синонимом «натуральной школы» – школы художественного познания российской действительности, ведущего «направления» отечественной литературы 40-х годов XIX в.
Движущей силой этого «направления» было стремление «возбуждать в читателе созерцание высокого и прекрасного и тоску по идеале изображением низкого и пошлого жизни» [7, 49]. А это возможно, полагает критик, только при торжестве «юмора», «посредством которого поэт служит всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о них, но только верно воспроизводя явления жизни, по их сущности противоположные высокому и прекрасному, – другими словами: путем отрицания достигая той же самой цели, только иногда еще вернее, которой достигает и поэт, избравший предметом своих творений исключительно идеальную сторону жизни» [8, 125]. Это, считает Белинский, определило национальное своеобразие нашей литературы, и она становится «русской, оригинальной и самобытной».
Вместе с тем критик отметит, что «юмор» предполагает не только «верное изображение отрицательных явлений жизни», но и вообще «воспроизведение жизни и действительности в их истине» [8, 191, 190]. Под это последнее уточнение сущности «юмора» подходили и «Горе от ума», и «Евгений Онегин», и «Повести Белкина», созданные до «Миргорода» и «Ревизора»: и Грибоедов, и Пушкин «воспроизводили жизнь и действительность в их истине». Почему же Белинский начало «нового направления», переворот в нашей литературе связывает исключительно с Гоголем, отказывая в этом и Пушкину, и Лермонтову, даже не упоминая о Грибоедове?
С точки зрения Белинского Пушкин просто не мог дать нашей литературе «нового направления»: он был призван решать другие задачи. К такому выводу критик пришел, выясняя роль, какую сыграл Пушкин в процессе исторического развития отечественной литературы: он «дал нам поэзию, как искусство, как художество» [6, 492].
Создание «на Руси поэзии как искусства», было той предназначенной для нашей литературы идеей, стремление выразить которую определяло направление ее развития, начиная от В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова до Пушкина, от «искусства слагать вирши» до «истинной поэзии» [6, 219–221]. У истоков этого «направления» не было «могучего смельчака», давшего его нашей литературе, что, впрочем, вписывалось в теорию литературного направления, сформулированную Кс. Полевым. Согласно этой теории, в основе «направления» могла лежать и «идея времени», каковой для нашей литературы XVIII – начала XIX в. и была идея обретения ею художественности. И Пушкин воплотил эту идею в жизнь: «направление» в движении русской поэзии к художественности получило в его творчестве блестящее завершение. Кончилось время «слагателей» стихов, настало время «истинной поэзии» и подлинных поэтов.
Сделав великое дело, дав «нам поэзию, как искусство, как художество», Пушкин исчерпал свой творческий потенциал, и его гений уже не мог распознать и определить очередную идею, какая была предназначена для выражения русской литературой. Особенно после того, как поэзия у нас стала и искусством, и художеством. «И потому, – заключает Белинский, – он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства» [6, 492].
Кроме «направления» к обретению художественности, в нашей литературе существовало тогда еще одно. На него Белинский выходит, отталкиваясь от убеждения, которое сформировалось у него еще в период «Литературных мечтаний», что «русская литература есть не туземное, а пересадное растение», что «идея поэзии была выписана в Россию по почте из Европы и явилась у нас как заморское нововведение», и что «ее история, особенно до Пушкина… состоит в постоянном стремлении – отрешиться от результатов искусственной пересадки, взять корни в новой почве и укрепиться ее питательными соками» [6, 81–82]. Укрепиться и напитаться, чтобы затем сделаться самобытной, оригинальной, самостоятельной, национальной, собственно русской по своему характеру и содержанию.
Это «стремление» являлось движущей силой «направления», которое было нацелено на «выражение», реализацию «предназначенной» для отечественной литературы идеи: стать не только художественной, но и сблизиться с жизнью России, российской действительностью.
В 1835 г. Белинскому показалось, что у нас появился «могучий смельчак», сумевший обозначить главную задачу литературы – «извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни». Такого «смельчака» он увидел в Гоголе, чьи повести, помещенные в «Миргороде» и «Арабесках», выделялись среди других и своим содержанием как бы указывали нашей литературе верное «направление» в ее движении к самобытности и оригинальности, сразу сделав в глазах критика писателя «главою литературы»: «…Он, – заявил Белинский, – становится на место, оставленное Пушкиным» [1, 169–183].
Указать-то гоголевские повести новое «направление» указали, и Белинский даже разрабатывает теорию такого «направления», подводя его под понятие о «реальной поэзии» и подчеркивая, что это – «поэзия жизни, поэзия действительности», что она и есть «истинная и настоящая поэзия нашего времени» [1, 145]. Но уже год спустя, после появления «Ревизора», пересматривает свое отношение к сущности такого «направления», самого принципа «реальной поэзии» – «извлекать поэзию жизни из прозы жизни», отказывая ей в способности превратить нашу литературу из подражательной в самобытную, оригинальную и отрекается от этого «направления» и отвечавшей ему теории6060
См.: Курилов А.С. В.Г. Белинский в жизни и творчестве. – М., 2012. – С. 62–63, 119.
[Закрыть].
В течение пяти последующих лет ничего примечательного Гоголь не публикует и в глазах Белинского фактически перестает быть «главою литературы». Но вот выходят из печати «Герой нашего времени» и сборник стихотворений Лермонтова, и Белинский начинает склоняться к тому, что именно Лермонтов может стать новым «главою» нашей литературы, занять место, оставленное Гоголем, и дать нашей литературе новое «направление».
Публика, пишет Белинский в декабре 1841 г., встретила Лермонтова «как представителя нового периода литературы, хотя и видела еще одни опыты его…». Но судьба распорядилась иначе… «Лермонтова, – грустно заметил критик, – уже нет… Гоголь давно ничего не печатал…» И «современная литература, – сетует он, – много теряет от того, что у ней нет головы…» [4, 320]. А значит, в ее развитии нет и никакого «направления», которое, согласно существовавшей тогда теории направления, может дать только писатель действующий, активно выступающий в печати – «могучий смельчак», увлекая за собою «многих или весьма многих» собратий по перу, автоматически при этом становясь «главою литературы».
Лермонтов стать таким вот «главою» не успел, хотя призван был им стать и «выразить своею поэзиею, – в чем был уверен Белинский, – несравненно высшее, по своим требованиям к характеру, время, чем то, которого выражением была поэзия Пушкина» [6, 79–80].
Однако без «головы» наша литература оставалась недолго. Уже в мае 1842 г. выходит из печати первый том «Мертвых душ», и в глазах Белинского отечественная литература опять обрела «голову»: на пустовавшее несколько лет место возвращается Гоголь. И перед критиком сразу же встает вопрос о «направлении», какое теперь должна была получить наша литература. Но чтобы это понять и определить, ему понадобилось три года.
В этих поисках решающую, можно сказать, роль сыграло уже существовавшее у нас и незамеченное литературной общественностью «направление», начало которого восходило к «Горю от ума» и «Евгению Онегину». Героев этих произведений одолевало то, что Белинский позднее назовет «тоскою по жизни»: Чацкий рад служить, но прислуживаться ему тошно, Онегиным «овладело беспокойство, охота к перемене мест». И т.д. «Тоска по жизни» была движущей силой этого «направления», а самым ярким его представителем, по сути его олицетворением, стал Лермонтов.
Правда, Белинский не выделяет это «направление» в качестве особой составляющей современного ему литературного процесса, а вот его движущую силу он определил точно: «тоска по жизни». Такое определение этой «силы» появляется у критика в начале 1840 г. и было связано не с произведениями Грибоедова и Пушкина, где эта «тоска» получила свое первоначальное отражение, и даже не с «Героем нашего времени», не с Печориным, который «бешено гоняется… за жизнью, ища ее повсюду» [3, 146], а со стихотворениями Лермонтова. И тоже не сразу.
Так, поначалу отметив в его «Думе» «превосходное выражение» противоречия, которое порождает «неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни», Белинский находит ее «исполненной благородного негодования» и «могучей жизни» [3, 136], а не «тоски». Но уже рецензируя «Стихотворения М. Лермонтова», вышедшие в 1840 г., отнесет «Думу» с ее «благородным негодованием» к произведениям, «внушенным нашему поэту» уже собственно «тоской по жизни» [3, 238]. К таким стихотворениям Белинский причислит и «Поэта» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), и «Не верь себе», и «И скучно, и грустно…».
Возникновение «тоски по жизни» Белинский связывает с «неслыханной прежде жалобой на жизнь», что появилась в «эпоху пробуждения нашего общества к жизни». И «это новое направление литературы, – скажет он, – вполне выразилось в дивном создании Пушкина – “Демон”» [3, 257]. Так Белинский вышел на «могучего смельчака», давшего, как он посчитал, нашей литературе «направление», вызванное «тоской по жизни».
Однако «тоска по жизни» у пушкинского «Демона» была выражена не прямо, а от противного – глобальным неприятием той жизни, какой тогда жило все человечество, до какой оно дошло к тому времени. Он, искушая Провидение, над ней издевался, язвил и на нее «неистощимо клеветал»:
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
«Тоска» пушкинского Демона, как видим, носила обобщенно-философский характер. Не так у лирического героя Лермонтова, который выступал от имени поэта. У него «тоска по жизни» была очень конкретной, продиктованной не философским воззрением на человечество, а современной ему российской действительностью, реальным состоянием русского общества.
Поначалу эта «тоска» носила ностальгический характер, определяя в выражающем ее «направлении» соответствующее «ностальгическое течение». Белинский обратил на него внимание, называя, согласно понятиям того времени, «направлением».
Человек, «обогащенный опытом жизни», писал он, «часто случается, что обращается… к старому и, в досаду всему новому, только в прошедшем видит хорошее… Настоящий момент русской литературы, – отметит критик, – ознаменован именно этим направлением. Повсюду слышатся жалобы на настоящее, похвалы прошедшему» [3, 180].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































