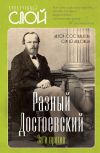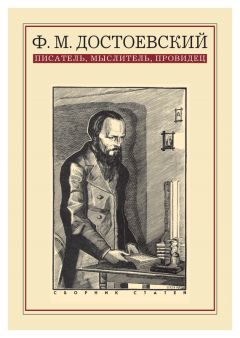
Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Почему, кстати, так отличаются подготовительные материалы и канонический текст романа «Бесы»? Центральная идея подготовительных материалов – «Слово плоть бысть» (11; 112, 113, 117, 126, 168, 179, 184) – почти не находит выражения в каноническом тексте. Я бы прибег здесь к формулировке самого Достоевского по поводу повести «Двойник»: «идея светлая» уже была, но художественной формы ее воплощения он еще не нашел (26; 65). Хотя, оговорюсь, только воплощения. Ибо тема безуспешной подмены Христа человеческой личностью, выдающейся или заурядной, с добрыми или злыми намерениями, гораздо более явственно выражена в этом романе (Ставрогин, Кириллов, Петр Верховенский) – что характерно, – нежели в предыдущем, в романе «Идиот».
Ставрогин в пространстве романа встречается с образом Христа во время своего ночного визита к Кириллову и затем к Марье Тимофеевне (у обоих зажжена лампадка перед образом), а потом у Тихона – и это каждый раз тоже оборачивается бунтом: после встречи с Марьей Тимофеевной он бросает деньги Федьке, понимая, что тот воспримет это как санкционирование убийства, а во время визита к архиерею ломает распятие (в соответствии с так называемым Списком главы «У Тихона» А.Г. Достоевской – 12; 114) и уходит от Тихона в бешенстве (11; 30). Знаменательно, что главное преступление Ставрогина – «с отроковицей» (11; 25) – совершается в той же Гороховой улице, где у Рогожина висит копия картины Гольбейна, а потом у мертвого тела Настасьи Филипповны лежат две жертвы ее земной красоты – Мышкин и Рогожин.
В романе «Бесы», как и в предыдущих романах, главных героев четверо (Раскольников, Свидригайлов, Соня и Дуня; Мышкин, Рогожин, Настасья Филипповна и Аглая; Ставрогин, Степан Трофимович, Лиза и Хромоножка). Выше я говорил, что Ставрогин впускает бесов, но ведь отец Петруши Верховенского, Степан Трофимович, не случайно называет себя «главным учителем» (10; 483): он являлся воспитателем и Ставрогина, и своего сына Петра, и Лизы; он видит себя во главе бесов, вошедших в свиней и бросившихся с утеса в море (10; 499). Он тоже, как и Мышкин, проповедует женщинам и детям («удивительно, как к нему привязывались дети» – 10; 59), которым он «хорошо рассказывал». Он, как и Мышкин, «полон чистою любовью» (10; 266). Он верует в Бога «как в существо, себя лишь во мне сознающее» (10; 33) – и при этом признается, что он не христианин, а язычник. Именно в то воскресенье, которое Степан Трофимович хотел бы вообще отменить (10; 98–100), в город и врываются главные бесы – Ставрогин и Петр Верховенский, своего рода «обезьяна» первоверховного апостола Петра. Литургию – «общее дело» по-гречески – они заменяют своим «общим делом» (10; 315, 416, 418, 439, 463), которое в итоге оборачивается убийством Шатова. В числе других святотатств они порождают и глумление над образами: обкрадывание, осквернение, даже разрубание их. Но Христос появляется раньше, уже в самом начале, в эпиграфе, взятом из Евангелия от Луки, – и тем самым задается тон всему роману: бесы победимы. Закольцовывается эта тема в конце, где эпизод из Евангелия от Луки, читаемого Софьей Матвеевной, книгоношей, повторяется, преображая Степана Трофимовича. Но перед тем следует сцена, в определенной степени пародирующая первую встречу Раскольникова с Соней. Степан Трофимович тоже предлагает Соне (Софье Матвеевне) «вместе пойти», ибо «предызбрал ее в будущий путь», тоже падает перед ней на колени («упал перед ней на пол… и целовал полы ее платья»), (10; 495–498), то есть пытается христианский союз мужчины и женщины для обретения Бога подменить романтическим союзом избранной пары учителей человечества. Но и здесь София – Премудрость Божия – становится преградой подобным планам. Важно, что перед окончательным обращением и Раскольникову, и Степану Трофимовичу во сне предстает видение ада: Раскольникову – его знаменитое видение мира, где каждый человек считал себя носителем истины, а Степану Трофимовичу – страшная пасть с зубами (на средневековых церковных барельефах ад нередко изображался в виде пасти дракона, откуда Христос выводит людей). Здесь, правда, не следует забывать, что преображение Степана Трофимовича происходит не только после чтения Евангелия, но и после причастия. Опять-таки сошлюсь на молодую исследовательницу Елизавету Тихонову, которая (в частном разговоре с автором этих строк) отметила не акцентируемое Достоевским (по свойственному ему религиозному целомудрию), но очень важное значение причастия в его романах: преображению Раскольникова предшествует причастие, то же происходит и со Степаном Трофимовичем и Маркелом, братом Зосимы, в «Братьях Карамазовых». Любопытно, кстати, сопоставление Ипполита и Маркела – двух смертельно больных юношей. Один спас целую семью доктора – и погиб, умерши в злобе и отчаянии, так и не найдя близкого себе человека («мне надо было человека» – 8; 323), а другой физически никого не спас, но уже при жизни оказался в раю и приобщил к раю и родных своих, и брата Зосиму. Равно как на пути спасения находится Раскольников, еще только направляющийся в Иерусалим (духовно), и погибает Ставрогин, который «заезжал в Иерусалим» (10; 45) (физически). В романе «Идиот» причастия нет вообще, оно заменяется псевдоевхаристией – «потреблением» Мышкина всеми окружающими его, что, впрочем, не приносит спасения ни им, ни самому князю.
Загадки «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского
В. Н. Катасонов д-р филос. наук, профессор
Но дважды два четыре – все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре – ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица.
Ф.М. Достоевский. «Записки из подполья», IX
I. Проблема
1. Главный вопрос. Небольшой рассказ «Сон смешного человека» был опубликован Ф.М. Достоевским в 1877 году в рамках очередной тетради «Дневника писателя»[36]36
Мы пользуемся текстом рассказа в рамках Полного собрания сочинений в 30 томах издательства «Наука». Рассказ находится в 25-м томе (в дальнейшем ссылаемся на это издание Достоевского следующим образом: ПСС, указание тома и страницы).
[Закрыть]. Современная ему критика почти не обратила внимания на этот рассказ, однако в дальнейшем, в особенности в начале XX века, к рассказу не раз обращались многие русские мыслители[37]37
См., например: Розанов В.В. О Достоевском: Биографический очерк. М., 1893; Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968 (переиздание работы 1923 года). Нельзя обойти вниманием и работу М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», в которой разбираются жанровые особенности «Сна смешного человека» (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. Особенно с. 251–263).
[Закрыть]. В чем же притягательность этого рассказа, чем он интересен и по сегодняшний день, смеем даже сказать: что в нем позволяет причислить его к лучшим произведениям философской прозы великого писателя? Сюжет рассказа несложен. Герой рассказа, «русский прогрессист и петербуржец», типичный «человек из подполья» Достоевского, доведенный до предела бессмысленностью своего существования, задумывает совершить самоубийство. Но неожиданно он засыпает и видит сон о «золотом веке» человечества, о роде человеческом, не совершившем грехопадения и счастливо живущем на Земле[38]38
Достоевского в свое время поразила картина французского пейзажиста Клода Лоррена (1600–1682) «Пейзаж с Акисом и Галатеей», которую он считал как бы изображением золотого века человечества. О «земном рае человечества» где-то на Греческом архипелаге говорит и Версилов в «Подростке», рассказывая о своем сне, и опять вспоминает картину Лоррена (ПСС. Т. 13. С. 375). Именно в такой связи мы говорим об изображении Золотого века в «Сне смешного человека». В самом рассказе термина золотой век нет.
[Закрыть]. Любовь, пронизывающая все отношения этих людей, глубоко трогает и главного героя, он буквально «молится на них». Однако его испорченная нравственная природа берет верх и он «развращает» всех этих людей, всю эту цивилизацию. Появляются ложь, зависть, рабство, сладострастие, убийства, ложные и человеконенавистнические теории и т. д. Главный герой пытается проповедовать о прежней жизни, пытается объяснить всем, что это он виновник деградации человеческого рода, хочет принести себя в жертву, но его никто всерьез не слушает. Тут он просыпается и, одушевленный идеалом золотого века, виденным им образом жизни людей, построенной на любви, во-первых, изменяется сам, а во-вторых, начинает активную проповедь в пользу старой истины, «…которую биллион раз повторяли и читали…»: люби других как самого себя – и тогда вернется золотой век!.. «Главное – люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться»[39]39
Достоевсий Ф.М. Сон смешного человека // ПСС. Т. 25. С. 119.
[Закрыть]. Все это прекрасно, но есть одно затруднение, никак не позволяющее считать рассказ еще одним образцом банальной утопической литературы. Главный вопрос, который встает перед внимательным читателем, это: почему главный герой развратил всех людей золотого века? Произошло ли это машинально, просто по заразности греха, или же потому, что в этом золотом веке чего-то не хватало, чего-то, что по своей ценности перетягивает даже всю их счастливую и лучащуюся любовью жизнь?.. В пользу последнего говорит постоянно подчеркиваемое героем обстоятельство: после падения, говорит главный герой, «я… любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны»[40]40
ПСС. Т. 25. С. 117.
[Закрыть]. Какая же ценность может возвышать падший мир над миром счастья и любви? Какая ценность может быть в страдании? Интересно то, что Достоевский нигде в этом рассказе не дает прямых ответов на эти вопросы. Более того, его герой идет проповедовать не мир страдания, а именно тот мир счастья, который предвиделся ему в его сне! Именно тот мир, который он любил меньше и который он развратил?!.. Попытаемся приблизиться к разгадке – не скажу разгадать – этой загадки.
2. Нигилизм. Герой «Сна смешного человека», как мы уже сказали, типичный для Достоевского человек из подполья, а это значит – и идеолог, для которого задача нахождения смысла жизни принципиальна. Если обычный человек может как-то имитировать жизнь, то герои-идеологи у Достоевского не могут позволить себе подобной роскоши. Они идут до конца: «Если Бога нет, то все дозволено! Если нет смысла в жизни, то с ней надо кончать!» Вот и герой «Сна» с раннего возраста открывает для себя ужасную истину нигилизма: «…это постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно»[41]41
Там же. С. 105.
[Закрыть]. Это всеравенство значит прежде всего отсутствие фундаментальных ценностей в жизни, и в первую главу отсутствие Сверхценности, Святыни, Бога. Другими словами, это ницшеанское «Бог умер!», только лишенное своего громогласного пафоса и еще более ужасное в своей обыденной безысходности… Поразительно то, как не раз показывает Достоевский, что эта внутренняя пустота, внутреннее отчаяние может быть совместимо с внешней активностью, страстными спорами и столкновениями. Герой «Сна» знает это по себе, видит это и в других. Именно последнее позволяет ему снисходительно относиться к насмешкам над собою и воздерживаться от участия в спорах. Ему все равно. Но он видит, что и спорящим также все равно, они только делают вид, что это для них очень важно, а на самом деле, если они трезво посмотрят на себя, как это и сделал однажды он сам, они вдруг увидят, что им все равно и на самом деле не о чем и спорить, и нет причины горячиться. Он так и говорит им прямо: «Господа, ведь вам, говорю, все равно»[42]42
ПСС. Т. 25. С. 105.
[Закрыть]. В ответ только смех… Это отсутствие высот и низин в жизни поначалу тяготило героя, но постепенно он привык. Он понял, что не только сейчас все равно, но и раньше, в прошлом, также было все равно. Также и в будущем, всегда будет все равно. И перед лицом этого мертвящего свинцового равенства жизнь теряет все свои краски, теряет яркость, радость, теряет смысл: жить или не жить становится одинаково равно, и мысль о самоубийстве естественно проскальзывает в душу. Она уже не страшит, а притягивает к себе: все что-то новое… хотя, впрочем, и это иллюзия, ведь все равно.
3. Наука (рассудок) и корни нигилизма. Откуда берется это всеравенство? Каковы его корни? Ведь есть же детство, юность, когда жизнь кажется таким многообещающим предприятием, когда каждый день несет новые открытия и новые обещания. Достоевский последнего десятилетия своей жизни глубоко убежден, что генезис нигилизма тесно связан с пафосом научной истины. Наука второй половины XIX столетия вдохновляется успехами математического естествознания, механики. Методы последней стремятся перенести и на всю науку, на исследование живого, и человека, в частности.
Господствует материализм Бюхнера и Молешотта. Человека стремятся понять просто как часть природы. Согласно материалистической философии, вся духовная составляющая человека должна быть объяснена в лучшем случае в духе позитивизма. Человек есть такое же место игры безличных природных сил, как река, камень, лягушка. Социальные силы также поддаются-де позитивистскому истолкованию. Марксово определение человека как совокупности социальных отношений подводит черту: для человеческой экзистенции просто не остается места в культуре. Эту антигуманную сущность новой культуры чуткие души уловили уже в начале XIX века. Ж.-Ж. Руссо, романтизм, С. Киркегор были реакцией на тот духовный погром, который несла новая научная цивилизация. В России Н.Н. Страхов, многолетний близкий знакомый Достоевского, последовательно развивал критику узко материалистического, или позитивистского, понимания науки. «Мир есть целое, имеющее центр, – писал Страхов, – именно он есть сфера, средоточие которой составляет человек. Человек есть вершина природы, узел бытия»[43]43
Страхов Н.Н. Мир как целое. М., 2007. С. 67.
[Закрыть]. Достоевский по-своему также участвует в этой традиции, продолжает ее критику. Он основывает ее на том, что само понимание истины потеряло экзистенциальное измерение. Истина человека, сведенная к математической формуле, не может никого подвигнуть на самопожертвование или подвиг. Формальная истина науки обесценивала все человеческие чувства и эмоции, любовь, мужество, благоговение. Если последняя истина мира только движение материальных частиц в пустом пространстве, если последняя правда о человеке обнаруживается его вскрытием на анатомическом столе, то теряют смысл все нравственные понятия – зло, добро, грех, преступление, – все это только человеческие, «слишком человеческие имена», все это только лишь эпифеномены.
Достоевский всем своим творчеством – как художественным, так и публицистическим – восставал против подобного понимания. И дело не в том, что он не признавал достижений науки. К науке нужно относиться трезво и видеть, что она предприятие развивающееся, никогда не говорящая своего последнего слова. Но совершенно недопустимо, исходя из последних теорий естествознания – которые и сами-то еще отнюдь не всем научным сообществом приняты, – пытаться устранить всю вековую гуманитарную культуру, дающую смысл человеческому существованию, гарантирующую полноценную социальную жизнь.
Еще более опасна идеология науки, вера в науку, которая считает, что все знание человеческое должно быть представлено в научной форме, которая от всего требует доказательств. Эта научная идеология беспощадно разрушает все традиционные ценности, на которых веками стояла человеческая жизнь, и прежде всего религию, веру христианскую. Но нельзя все доказать и все вывести, как подчеркивал еще Б. Паскаль, один из основателей новоевропейской научной традиции, и отсутствие доказательств отнюдь не повод для отказа от традиционной системы ценностей. И вообще, как глубоко осознала это философская критика в XX столетии, само существование науки тесно связано со множеством недоказанных предпосылок и так называемых предрассудков[44]44
См., например: Гадамер Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. Особенно с. 317–364.
[Закрыть], а ценностные системы утверждаются в человеческой культуре совсем по другим принципам, чем истины математического естествознания в науке. Как показывала жизнь и как нередко демонстрировал своими героями Достоевский, эта вера в науку могла прекрасно совмещаться с дилетантством, с высшей степени поверхностным знанием самой этой науки. Немало страниц у Достоевского посвящено критике этой полунауки, научной идеологии, сформировавшейся нередко только лишь под влиянием газетного чтения. Шатов в «Бесах» говорит об этом: «Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешняго столетия. Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему»[45]45
ПСС. Т. 10. С. 199.
[Закрыть]. Научная идеология, распространяемая во времена Достоевского через газеты и журналы, а позже и через другие средства массовой информации, безжалостно и безрассудно разрушала веру людей в традиционные, в частности религиозные, ценности. Если человек сам не занимался всерьез наукой и не мог оценить ее действительных успехов и ее границ, то он оказывался в ситуации, когда все абсолютные ценности были разрушены пафосом научного скепсиса, а те ценности, которые оставались, были в атмосфере этого преклонения перед научным доказательством предельно релятивизированы. Все становилось относительным – мораль, религия, добро, зло, – все таким же относительным, как относительно само научное знание… Но если все относительно, начинали сомневаться наиболее проницательные, вроде тех идеологов – одиночек, которых мы встречаем на страницах Достоевского, то, может быть, и вообще нет никаких иерархий, никакой разницы между высоким и низким и все равно?.. Так, вера в науку убивала веру в традиционные ценности и даже веру в жизнь. И хотя параллельно с развитием науки шла несомненная нравственная деградация европейского человечества, о которой предупреждал еще Руссо и которая принесла столь очевидные плоды уже в наши дни, тем не менее вера в науку была непоколебима. В «Сне смешного человека» жители воображаемой планеты после своего грехопадения (развращения), осознавая всю трагичность своего положения, говорят: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья»[46]46
ПСС. Т. 25. С. 116.
[Закрыть]. «Вот что говорили они, – пишет Достоевский, – и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал»[47]47
Там же.
[Закрыть].
4. Нравственный опыт как сингулярность. Наука не постигает всех глубин человеческой жизни, которые открываются через непосредственный духовный опыт человека, убежден Достоевский. Вот и в обсуждаемом рассказе герой его, уже, казалось бы, дошедший до самых безжизненных глубин нигилизма, все испытавший и во всем изверившийся, прямо решившийся ближайшей ночью застрелиться из заранее приобретенного револьвера, оказывается вдруг остановлен неожиданным обстоятельством: проснувшейся в нем жалостью к плачущему ребенку. «Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая (напомним, на улице ноябрьский петербургский дождь. – В.К.), но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать… Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: “Мамочка! Мамочка!”… Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме»[48]48
ПСС. Т. 25. С. 106.
[Закрыть]. Герой прогнал девочку от себя, более того, накричал на нее, однако отогнать мысли о ней уже не может. Контрапунктом к этим его мыслям за тонкой перегородкой, отделяющей его бедную чердачную комнату от соседей, «идет содом». Живущий там отставной капитан уже третий день пьет водку, играет в карты и время от времени дерется со своими сотоварищами. Но все это не задевает нашего героя, почти незаметно проходит мимо его сознания. Герой «Сна» уже очень далек от позиции, в которой высказывают какие-либо моральные претензии к себе или к окружающим. Ведь ему все равно: «…капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады»[49]49
Там же. С. 107.
[Закрыть]. Но вот от мыслей о девочке, которую он оттолкнул, которой он не помог, наш герой никак отвязаться не может. Почему? Речь идет совсем не о жалости к этой бедной девочке, жалости, на которую герой способен, как он и сам признается, но дело не в этом. Его мучает отнюдь не раскаяние за свой поступок, что он оттолкнул эту несчастную. Все это, так сказать, эмпирия жизни, которая хотя и существует в душе героя в определенной степени, но, однако, уже давно переоценена: ведь на самом деле все равно. Героя мучает не эмпирия, а онтология происходящего, упрямый чисто теоретический вопрос: как на фоне этого господствующего всеравенства вообще возможно чувство жалости, или чувство раскаяния?.. Этот умственный эксперимент, который герой рассказа проводит на самом себе, усугубляется еще и тем, что он, размышляя об этом в своей чердачной комнате, под пьяный шум, доносящийся из-за перегородки, уже твердо решил этой ночью покончить с собой. «…Неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет»[50]50
Там же. С. 108.
[Закрыть]. Причем, подчеркивает Достоевский, речь идет не просто об уничтожении одного самосознания в результате самоубийства. Ведь решающих аргументов против солипсизма не нашел никто, не знаем и мы их сегодня. Может быть, мир зависит от меня не только как восприятие, но и онтологически: и если меня не будет, то и мира не будет. И неужели вся эта онтология бессильна перед мыслью о «слезинке ребенка»?.. Умственный эксперимент героя переходит в новую фазу. Он задает себе вопрос: а что, если бы я на Луне или на Марсе совершил бы «какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок», был бы там за него поруган и обесчещен, то потом, живя на Земле, на которой по условию не было бы никакой связи с прежней жизнью на других планетах, было ли бы мне стыдно за этот проступок, или же было бы все равно?[51]51
Сравните, тождественное по смыслу рассуждение Ставрогина в разговоре с Кирилловым в «Бесах» (ПСС. Т. 10. С. 187).
[Закрыть] Герой остро ощущает видимую праздность этих вопросов перед тем шагом, на который он решился. Это бесит его, это отдаляет решающий момент самоубийства, утомляет героя, и он, неожиданно для самого себя, засыпает. «Одним словом, – говорит он впоследствии, – эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел»[52]52
ПСС. Т. 25. С. 116.
[Закрыть].
Что же происходит? В жизни героя с почти нулевой нравственной температурой, во всем этом всеравенстве, не нарушаемом даже решением убить себя, вдруг обнаруживается, говоря языком физики[53]53
Который нередко столь подходит к умственным экспериментам Достоевского. См. рассуждения об евклидовом уме в «Братьях Карамазовых» (ПСС. Т. 14. С. 214–215).
[Закрыть], сингулярность, не сводимая к той нравственной нейтральности, вне которой, кажется, уже ничего и не существует. И эта закатанная в асфальт нигилизма жизнь вдруг обнаруживает способность давать новые ростки. Правда, лишь чахлые и хилые поначалу. Ведь чувство жалости к девочке, которое герой испытал, не подвинуло его на то, чтобы помочь ей. Однако оно сразу же породило реакцию его разума: как это возможно, если все равно? Как на фоне этой полной однородности нигилизма возможна сингулярность нравственного движения?.. И разум его, как хирург-патологоанатом, рассекающий еще почти живые ткани, в недоумении анализирует и разлагает этот невозможный факт душевной жизни: как возможно, будучи нравственно мертвым, еще оставаться живым?.. Вывод один: значит, разум лжет, вывод о всеравенстве поспешен, значит, есть опыт сердца, опровергающий это самоубийственное безразличие жизни. Как позже говорил известный русский философ В.С. Соловьев, близкий знакомый Достоевского в последнее десятилетие его жизни: «Стыжусь, значит, существую!»[54]54
Соловьев В. С. Оправдание добра // Соч.: В 2 т. T. 1. М., 1988. С. 125.
[Закрыть] И этот вывод есть прелюдия «сна», который видит наш герой, сна, обнаруживающего новые глубины опыта сердца. Так ли уж важно, что мы видим во сне? «Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь![55]55
ПСС. Т. 25. С. 109.
[Закрыть]»
5. «Сны моего сердца, мечты моего ума…» Герою «Сна» снится, как он выстрелил себе в сердце, как его похоронили, как он пришел в себя, похороненный в гробу, – мы еще вернемся ниже к анализу этих мест. Но вот он чувствует, как могила его разверзлась и он был взят из нее «каким-то темным и неизвестным существом». Таинственное существо это несет его через пространства в неизвестные дали вселенной, но вот вдруг герой обнаруживает, что они приближаются к нашей Солнечной системе и к Земле, на которой он различает уже знакомые очерки континентов. Таинственный спутник оставляет героя и он оказывается… на нашей Земле, но с единственным отличием: в ее истории люди не совершили грехопадения, – оказывается в «Золотом веке». Писатель не жалеет красок для описания этой жизни безгрешного человечества. «О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескалось о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость»[56]56
ПСС. Т. 25. С. 112.
[Закрыть]. В обществе их господствовала любовь, они любовались друг другом, слагали песни друг о друге, «…это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая и всеобщая»[57]57
Там же. С. 114.
[Закрыть]. Эта любовь изливается и на нашего героя: «Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего»[58]58
Там же. С. 112.
[Закрыть]. Эта любовь отражалась и в сердце нашего героя: «Я… целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами»[59]59
Там же. С. 113.
[Закрыть].
Достоевский подчеркивает то, что в этом золотом веке не было науки в нашем понимании. Герой рассказа поначалу даже не понимает, как это возможно. Но вскоре ему становится ясно, «…что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле… Знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания». Достоевский рисует мир, в котором знание, наука имеют интуитивный характер, характер прямого проникновения в сущность вещей, без дискурсивных построений, без доказательств[60]60
Сверхрассудочное познание, о котором говорят мистики всех времен.
[Закрыть]. Люди золотого века понимали растения, животных, как бы зная их язык, и даже «…соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем»[61]61
ПСС. Т. 25. С. 113.
[Закрыть]. Герой все более осознает это внутреннее проникновение этих людей в тайны жизни и бытия, но понять его не может. Для выражения этой полноты жизни Достоевский часто употребляет здесь слово восполненный, из церковно-славянского языка, которое почти и не используется в современном русском: восполненное знание, восполнившийся восторг, восполненная радость и т. д. У человечества золотого века была любовь, у них рождались дети, которые становились новыми участниками в их блаженстве, но не было ссор и ревности, и «…никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и каждого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества»[62]62
Там же.
[Закрыть]. Старики их умирали тихо и спокойно, здесь не было скорби, «.. а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного»[63]63
Там же. С.114.
[Закрыть]. Слова прекрасных песен, которые поют жители этой новой (старой?) земли, нередко непонятны герою, не позволяют ему проникнуть в полноту их значения, но сердце его все более открывается этому миру, видя в нем воплощение своих самых заветных надежд. «Я часто говорил им, что я все это давно уже предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившей подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего…»[64]64
Там же.
[Закрыть] Наш герой, проповедующий нравы «Золотого века» и подвергаемый насмешкам, готов даже и согласиться, что все это было лишь сном, детали которого он сам потом и выдумал, но сон этот имеет такое высокое нравственное значение, что он просто не может не рассказывать о нем: «Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю. Пусть это сон, но все это не могло не быть»[65]65
Там же. С. 115.
[Закрыть].
6. Свобода и подполье. Вот мы и добрались до главного вопроса нашей статьи, объявленного вначале: почему же герой «Сна», столь восторженно поклоняясь явленному ему образу «Золотого века», обожая чистых и безгрешных людей этого мира, тем не менее «… развратил их всех!»[66]66
ПСС. Т. 25. С. 115.
[Закрыть]. Само это событие понимается героем как некое откровение, несомненно свидетельствующее о своей истине. Более того, вероятно, свидетельствующее не только о значимости сна, но и о том, что все происшедшее действительно произошло, а не просто приснилось. «Знаете ли, я скажу вам секрет, – говорит наш герой, – все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды!»[67]67
Там же.
[Закрыть] В чем же состоит эта ужасная правда? В том ли только, что зло имеет корни в нашем же человеческом сердце и что сердце испорченное отравляет все и вокруг себя, «…как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства»?[68]68
Там же.
[Закрыть] <…> В том ли, что зло не пришло к нам извне, а всегда воспроизводится в глубине нашего же человеческого сердца и передается от поколения к поколению? Все это несомненно верно, но почему же герой наш, развратив целый мир, восклицает: «Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, полюбил их, может быть еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе (курсив мой. – В.К.)»[69]69
Там же. С. 117.
[Закрыть]. Чем же эта оскверненная земля, эти развращенные люди могут быть дороже, могут вызывать большую любовь, чем жизнь золотого века?.. Попытаемся ответить на эти непростые вопросы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?