Текст книги "Живые и мертвые"
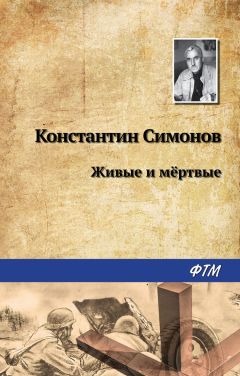
Автор книги: Константин Симонов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Глава одиннадцатая
Школа связи, в которой Маша Артемьева училась уже три месяца – с середины июля, размещалась на дачах бывшей лесной школы, на тридцатом километре старого Калужского шоссе.
Под вечер 16 октября Машу и ее подругу Нюсю Журавскую отпустили переночевать в Москве, чтобы взять дома кое-что из носильных вещей. Вещи могли понадобиться им в тылу у немцев.
Было холодно и ветрено; обе женщины всю дорогу проехали в кузове грузовика, шедшего в Москву за продуктами. Они лежали на соломе, натянув поверх себя толстый брезент, которым обычно накрывали груз. Маша пригрелась, и ей в темноте под брезентом казалось, что это не грузовик, идущий за продуктами в Москву, а тот ночной самолет, на дне которого, вот так же лежа в темноте, она пересечет фронт и будет выброшена с парашютом в тылу немцев. Курс занятий кончился неделю назад, и сейчас она с ночи на ночь ждала последнего инструктажа и отправки.
Она уже знала, что будет выброшена вместе со своей рацией на одну из трех возможных точек вблизи Смоленска и что ей придется потом идти в город на агентурную работу. По легенде, которая была для нее составлена в дополнение к паспорту на чужое имя, она бывала в Смоленске в детстве, вместе с матерью, а теперь, не успев уехать из Витебска, потеряв во время бомбежки мать и проскитавшись несколько месяцев в поисках пристанища, решила добраться до Смоленска, к жившей там тетке. Адрес этой тетки – живого человека, с настоящими, а не липовыми, как у Маши, именем и фамилией – и был той явкой, которую ей предстояло заучить в последний момент, перед вылетом.
Маша лежала в кузове грузовика, прижимаясь грудью к теплой Нюсиной спине, и, чуть слышно шевеля губами, повторяла: «Вероника, Вероника…»
Вероника было имя той девушки, за которую ей предстояло выдавать себя, и это имя ей не нравилось. Ей казалось, что она никогда не сможет откликаться на него так просто, без всякого удивления.
«Вероника, Вероника…» – неслышно твердили ее губы.
С той секунды, когда сегодня после вечерней поверки командир роты скомандовал: «Всем разойтись! Артемьева и Журавская, ко мне!» – Маша почувствовала, как будущее надвинулось и стало из будущего настоящим.
Она не ошиблась. Командир роты дал им увольнительные до утра, с тем чтобы они взяли у себя на квартирах в Москве «гражданское», как он выразился, платье. Это значило, что не только Машу, но и Нюсю забросят на агентурную работу: радисток, которых забрасывали в партизанские отряды, посылали в обмундировании и полушубках.
«Зря ее сюда…» – подумала Маша о своей подруге. Она думала об этом уже несколько раз. Ей казалось, что Нюся, слишком нежно воспитанная и слишком неопытная, еще ничего не видевшая в жизни, не годилась для агентурной работы. Кроме того, она слишком бросалась в глаза своей красотой, на нее могли сразу обратить внимание…
О себе Маша не думала этого. Она больше всего боялась самого полета, особенно с тех пор, как неделю назад у нее при тренировочном прыжке не раскрылся парашют и она едва успела выдернуть кольцо запасного.
Она перевернулась на соломе, прижалась к Нюсе холодной спиной и чуть приоткрыла брезент, чтобы хоть одним глазом видеть летевшее над грузовиком небо. Это было вечернее, осеннее, холодное небо, без луны и звезд, без облачков и тучек, серое и ровное, такое, что сколько ни гляди, все равно ни на нем, ни сквозь него ничего не увидишь.
«Есть же на свете люди, которые хоть что-то знают, хорошее или дурное! – подумала Маша. – Вот Нюся знает, что ее отец был в окружении, вышел и сейчас – ведущий хирург полевого госпиталя на Западном фронте; он пишет ей письма, и она пишет письма на его полевую почту… А ее брат был ранен, у него отняли ступню, и он лежит в госпитале в Казани и тоже пишет ей письма… И многие другие люди пишут и получают письма или встречают людей, которые или сами видели, или хотя бы что-то слышали про тех, о ком у них спрашивают… А я о своих не знаю ровно ничего – ни плохого, ни хорошего, ни одного слова… Не знаю про дочь, не знаю про мать, не знаю про мужа, и на мою долю остается только неотступно думать: живы они или нет?»
В первую неделю пребывания в школе она наивно, как теперь понимала, попросила, чтобы, когда пройдут курс, ее, если это возможно, использовали в районе Гродно.
– Это зачем же? – резко спросил комиссар школы. Он знал из анкеты и автобиографии все обстоятельства Машиной жизни, но считал в такую минуту ненужным и даже вредным щадить ее чувства. – Зачем? – повторил он. – Чтобы свою семью самолично спасать? Это и без вас постараются сделать, а вы своим появлением можете только погубить их, да и сами… Ничего себе идея! – сердито усмехнулся он. – Жене политрука, прожившей с мужем полтора года в Гродно, теперь возвращаться туда на подпольную работу! Вы что, из семейных соображений, что ли, к нам в школу пошли? Тогда напрасно.
– Нет, конечно, – сказала Маша, отчасти солгав, потому что нелепая надежда, что она, перебравшись через фронт, сможет если не найти мать и дочь, то хоть что-то узнать о них, тоже сыграла какую-то роль в ее решении пойти именно сюда, в эту школу.
С тех пор прошло три месяца, и в конце концов она при всем трагизме этой мысли все-таки привыкла к тому, что мама и Таня «там» и что, если они живы, она узнает о них очень не скоро; но зато мысль, что она улетит в тыл к немцам, так ничего и не узнав о муже, оставалась по-прежнему непереносимой.
В самом деле, трудно было представить себе, что тогда, в июне, на вокзале, он пожал через решетку ее руки, намотал ремень полевой сумки, вскочил на ходу в вагон… Потом, заслонив его, вскочил еще кто-то… И на этом все, абсолютно все оборвалось…
Она три раза писала запросы, на которые не получила никакого ответа, и два раза благодаря своему упорству пробивалась в политуправление: один раз – сразу после зачисления в школу, еще в июле, другой раз – уже недавно, в сентябре, специально для этого получив увольнительную на двенадцать часов.
В первый раз, в июле, ей сказали, что у них временно нет сведений о дислокации армейской газеты «Боевое знамя», в которой служит ее муж. И этот ответ не только встревожил, но одновременно и успокоил ее: они ничего не знали не только о Синцове, но и о всей редакции, а вся редакция не могла же исчезнуть! Не знают, но будут знать! Она оставила номер почтового ящика школы и просила батальонного комиссара, который принимал ее, чтобы он написал ей хоть два слова, как только будут первые известия о редакции. Батальонный комиссар обещал, но за два месяца ничего не прислал.
Кроме батальонного комиссара она оставила свой адрес жившему в их доме товарищу покойного отца – Зосиме Ивановичу Попкову. Старик Попков взял у нее ключ от почтового ящика и обещал через день наведываться к ним в подъезд и, если придет какое письмо, сразу отослать ей. Но за все это время ей не пришло ни одного письма.
Когда в сентябре она во второй раз пришла в политуправление, уже к другому батальонному комиссару, – тот, первый, ушел на фронт, – новый батальонный комиссар сказал: «Да-да, редакция «Боевого знамени» благополучно вышла из окружения и ныне действует в положенном ей месте, и редактор в ней прежний, тот же, что был до войны, Гуреев. Но, к сожалению, в ответ на запрос оттуда поступил официальный ответ, что секретарь редакции политрук Синцов из отпуска к месту службы не прибыл».
Два месяца назад Маша, наверно, стала бы убеждать батальонного комиссара, что этого не может быть, что она сама провожала мужа, когда он уезжал в Гродно… Но теперь, в сентябре, уже поняв многое из того, чего она не понимала, да и не могла понимать в июне и в июле, она только вздохнула и пошла прочь, позабыв даже проститься.
«Не прибыл из отпуска, – значит, не доехал. А что значит «не доехал»? Если бы попал в госпиталь или воевал в какой-нибудь другой части, написал бы. Значит, где-то в окружении. Что же еще?»
Так она думала, успокаивая себя, думала, стараясь быть твердой и отвергая все другие возможности. Но вместе с тем в душе ее жило щемящее чувство, почти материнское, почти такое, какое она испытывала, вспоминая о дочери. И когда она ослабевала и давала волю этому чувству, муж – большой, сильный, широкоплечий человек – казался ей меньше малого ребенка…
И земля и война казались ей тогда невообразимо огромными, и на этой войне затерялся один, никому не известный, никому не нужный, кроме нее, маленький человек – ее муж… И то, что из этого огромного далека какая-то нить вдруг свяжет его, затерянного там, с ней, оставшейся здесь, в такие минуты казалось ей чудом.
Это чувство испытывала она и сейчас, глядя в медленно движущееся над грузовиком низкое серое небо. Это небо не хотело ответить ей ни на один ее вопрос, хотя, казалось, знало все. Маша не знала, но ведь кто-то же знал, где сейчас он, что он делает, где лежит, что думает. Главное, где он?
«Любовь… – вдруг подумала Маша. – А что такое любовь? Что нам было хорошо с ним или что я тоскую о нем и, бывает, плачу ночами? Что не хочу смотреть ни на кого другого? Или что пишу ему письма, которые некуда отправлять? Да, все это так, и все-таки все это так мало по сравнению с тем, что я чувствую, что хочу и не умею сказать! Не знаю, не знаю… А чего я хочу сейчас больше всего? – снова спросила она себя. – Больше всего я хочу…»
Она задумалась и твердо ответила себе, что больше всего она хочет сейчас быть там, где он…
«А если там страшно и меня могут убить? Все равно хочу! А если нас ранит? Все равно хочу, пусть ранит обоих! А если умрем? Все равно, пусть вместе умрем…»
И, кто знает, может, именно эти мысли и были сейчас, в пожаре войны, ответом на тот главный вопрос, задумавшись над которым она только что шептала: «Не знаю… не знаю…»
Маша опять наглухо прикрылась брезентом от задувавшего в кузов ветра и еще раз повернулась на другой бок. Мысли о муже заставили ее вздохнуть прямо в ухо подруге, и та, выпростав из перчатки руку, погладила ухо: ей стало щекотно.
– Хитрая: греешься об меня! – сказала Нюся и сладко зевнула. – Хорошо, если бы газ горел, зашли бы ко мне, помылись…
– А что же, может, и горит, – сказала Маша.
– Вряд ли. Сводка-то какая, просто ужас!..
И хотя она сказала «ужас», и хотя их обеих, так же как и других курсанток, прочитавших вчерашнюю сводку со словами «Положение на Западном направлении фронта ухудшилось», ужаснули и поразили эти слова, но все-таки всего ужаса этой сводки они еще не поняли.
Их школа жила замкнутой жизнью, жила мыслями, устремленными в недалекое и опасное будущее там, за линией фронта. Закутываясь на ночь в жесткую бязевую простыню и пегое казарменное одеяло, Маша думала всегда об одном и том же – о том, как кончатся эти тихие дни в лесной школе, с занятиями у доски, со сборкой и разборкой радиопередатчиков, с завтраками, обедами и ужинами в заведенное время, с ночными шепотами о будущем, и начнется само это будущее там, за линией фронта. Она думала о том, как в первый раз придет на явку и какими будут те люди, с которыми ей придется работать: верными, надежными или вдруг кто-нибудь из них окажется предателем? Она думала о том, что если попадется в руки к немцам, то ее будут пытать, и она, что бы с ней ни делали, должна молчать обо всем, что узнала здесь, в этих тихих домиках детской лесной школы, которая давно уже не лесная и не детская…
Логика их жизни была такова, что эти мысли о будущем порой невольно оттесняли у Маши и ее подруг мысли о том, что сегодня делается на фронте. Они прежде всего и с особенным вниманием прочитывали сообщения из-за линии фронта о том, как товарищ С. или товарищ К. со своим партизанским отрядом уничтожили в лесах столько-то фашистов, или совершили налет на фашистский штаб, или подожгли цистерну с горючим, или минировали дорогу, или сожгли дом, в котором поселился вернувшийся помещик – барон фон Бидерлинг… Их мысли больше, чем на сводках с фронта, были сосредоточены на том, что делается там, за его линией, где они скоро очутятся сами. И проявлявшаяся в этом доля эгоизма, пожалуй, была простительной, если подумать обо всем, что им предстояло…
Грузовик круто затормозил. Над самым ухом у Маши за бортом послышалась знакомая фраза: «Прошу предъявить документы». Ехавший в кабине начхоз школы интендант третьего ранга Бурылин зашелестел бумагами, потом этими же бумагами зашелестел тот, кто взял их в руки, и сухой голос, сначала приказавший предъявить документы, теперь спросил:
– А что у вас в кузове?
– В кузове двое моих военнослужащих, но я старший по команде.
– Это ничего не значит, – сказал все тот же голос.
Маша и Нюся сели, откинув загремевший над головой брезент.
Через борт грузовика заглядывал высокий лейтенант с худыми, обтянутыми скулами. За спиной его стоял не один, а целых трое патрульных.
– Ваши документы! – сказал лейтенант.
Маша и Нюся достали свои отпускные билеты и предъявили ему.
Он внимательно проглядел их, вернул и, даже не остановив взгляда на Нюсе, что было большой редкостью, отвернулся.
– Можете следовать.
– Смотри, какой сердитый! – сказала Нюся.
– Целых четверо, – сказала Маша, глядя назад.
Она снова вспомнила о вчерашней вечерней сводке со словами: «Положение на Западном направлении фронта ухудшилось». И эта сводка, и четверо патрульных вместо двоих, которые стояли здесь в сентябре, – все это тревожно кольнуло ее в сердце.
Вдоль обочин шоссе громоздились сваренные из двутавровых балок, еще не установленные противотанковые ежи. Потом грузовик проскочил мимо баррикады, оставившей на шоссе узкий проезд, только для одной машины. В последние дни в школе знали, что Москву укрепляют и даже строят баррикады, но знать было одно, а видеть эти баррикады, да еще при самом въезде в Москву, – совсем другое.
– Ложись, а то холодно. – Нюся уже успела улечься на дно грузовика.
Маша с трудом оторвала глаза от шоссе и, накрывшись брезентом, снова легла рядом с Нюсей.
Трудно сказать, к лучшему или худшему это было, но из-за того, что они, пригревшись, пролежали под брезентом еще полчаса, пока грузовик ехал от заставы до Пироговской, они так и не увидели по-настоящему ни окраин Москвы, ни того, что происходило на них в этот вечер.
Грузовик остановился.
– Ну что, здесь вас, что ли, сбрасывать? – спросил Бурылин, приоткрыв кабину и постучав ладонью по кузову.
Маша и Нюся, одна за другой, вылезли из-под брезента и, ставя ногу на колесо, соскочили с машины.
Мимо них по мостовой вразброд, не в ногу, проходила колонна штатских, вооруженных винтовками людей. Люди были разного возраста, одетые кто во что: кто в пальто и кепки, кто в ушанки и ватники. Они шли угрюмо, без песен, некоторые на ходу курили.
– Такие, девушки, дела! – не вылезая из кабины, вздохнул Бурылин. Хотя, свернув со старого Калужского шоссе, они проехали всего несколько улиц, он успел увидеть то, чего не увидели лежавшие в кузове под брезентом курсантки. – Такие-то дела, девушки! – повторил он и подумал о собственной семье: жене и двух детях, живших на том конце города, у Семеновской заставы, и о том, что надо успеть втиснуть их ночью в какой-нибудь уходящий на восток поезд. – Получу продукты на складе и завтра в семь ноль-ноль подъеду сюда, будьте готовы, ждите прямо на улице.
Грузовик уехал, оставив Машу и Нюсю одних на тротуаре, на углу переулка.
– Пойдем сразу ко мне, а! – поеживаясь на холодном ветру, попросила Нюся. – У тебя ведь никого нет.
Маша продолжала следить глазами за уходившей вдаль по мостовой нестройной колонной штатских людей и, занятая своими тревожными мыслями, не сразу ответила Нюсе.
– Ну как? – повторила Нюся.
Машин дом был рядом, за углом, а Нюсин – через пять кварталов, и Нюсе очень не хотелось идти одной.
– Нет, я сначала соберу вещи, а потом приду к тебе, – сказала Маша.
– Ладно, я подожду.
– Нет, ты не жди, иди, я потом приду.
Она отказалась сразу идти к Нюсе не из-за вещей, а из-за того, что хотела зайти к старику Попкову, узнать, нет ли ей письма. Но она не хотела объяснять этого Нюсе: объяснять – значило бы говорить о муже, о своей тревоге за него, значило бы искать душевной поддержки у человека, который сам нуждался в ней, потому что был не сильнее, а слабее ее, Маши.
– Хорошо, я пойду, – покорно сказала Нюся, робевшая перед Машиной твердостью.
Сказала, но словно все еще ожидая, что Маша перерешит, нервно закурила папироску. Она стояла перед Машей, боясь расстаться с ней, высокая, красивая и стройная даже в своей неподогнанной солдатской шинели и слишком широких кирзовых сапогах.
А Маша внимательно смотрела на нее и чувствовала рвущую сердце нежную жалость к этой Нюсе с ее красивым и, как Маше казалось, безвольным лицом, с ее длинной и гибкой – сразу и сильной и слабой – девичьей фигурой.
Глядя сейчас на Нюсю, Маша подумала о том, о чем думала уже не раз: что она старше и сильней Нюси, старше и сильней еще и тем, что она замужем, что у нее есть муж, ребенок… Да, есть, хотя она ничего не знает о них.
Глядя сейчас на Нюсю, Маша подумала о том, о чем и Нюся и другие девушки иногда вспоминали в разговорах между собой: что их ожидает, если там, в тылу, они попадут в руки немцев живыми, не успев покончить с собой? Маша чуть не вскрикнула от этой мысли, но сдержалась и вместо всего, что подумала, сказала своим чистым и спокойным, печально зазвучавшим голосом:
– Какая ты красивая, Нюся! – И вспомнила, что именно эти слова говорил ей Синцов, любуясь ею, совсем не такой красивой, как Нюся, говорил ей даже тогда, когда она вот-вот должна была родить Таню и когда она – Маша это наверное знала – была вовсе не красивая. И, вспомнив это, она с тревогой подумала уже не о Нюсе, а о себе, о своем будущем полете в тыл к немцам и, рассердившись на себя за эту трусливую мысль, резко, почти грубо сказала Нюсе:
– Ну, иди, что ты стоишь!
Сказала и пошла в свой переулок.
Минуя знакомое парадное, она мельком заметила, что двери распахнуты настежь, и вошла во двор. Во дворе не было ни души, а все окна были слепыми от черных полотнищ маскировочной бумаги. Около дальнего седьмого подъезда, где на верхнем этаже жил Попков, Маша чуть не упала, споткнувшись о выброшенный во двор тюфяк.
На лестнице было черно, как в трубе. Добравшись до верхнего этажа, она долго шарила кнопку звонка, но так и не нашла и стала стучать в дверь. За дверью не отвечали. Потом раздался хриплый голос Попкова:
– Кто там?
– Это я, Зосима Иванович, Маша.
Она до сих пор, по детской привычке, робела перед сварливым стариком.
Старик ничего не ответил, ноги его прошлепали в комнаты и обратно к дверям. Он долго возился с засовом и цепочкой и наконец открыл дверь.
– Заходи. Один я, недомогаю.
В коридоре свет не горел, и Попков сразу проводил Машу в столовую. В этой же столовой стояла большая никелированная кровать со смятой постелью. После смерти жены Попков вместе с кроватью перебрался в эту комнату, а во вторую пустил жить женатого сына.
– Садись! Чего стоишь? – Попков мимоходом оправил постель и сам первый сел за стол, придерживая у горла старую, когда-то выходную шубу с вытертым барашковым воротником, надетую прямо поверх белья.
Маша села напротив него за знакомый стол. Как она себя помнила, точно такой же стол стоял у них в квартире. Машин отец и Попков в одно время и в одном магазине купили два таких обеденных раздвижных стола, когда вместе вселялись в конце двадцатых годов в эти первые рабочие квартиры.
– Ну, что скажешь? – спросил Попков, глядя на Машу и поглаживая ладонью свою бритую голову с заметно отросшим вокруг лысины седым ежиком: в квартире было холодно, и голова у него мерзла.
– Что же я скажу? – Маша пожала плечами. – Думала, может, вы мне что скажете.
– Сказал бы, да нечего. Пустой твой ящик, вчера выходил, глядел.
Маша вздохнула так, словно задула огонек.
– Что вздыхаешь? – ворчливо сказал Попков и сам глубоко вздохнул. – Недели две ящик твой не глядел – в больнице лежал с ущемлением грыжи, – а вчера поглядел. Пустой, – повторил он.
– А где ваши?
– Уехали. Завод-то эвакуировали…
– А вы что же?
– Говорю тебе, с грыжей лежал! Малость поподымал лишнего – вот и нажил…
Попков вышел на пенсию еще три года назад, но с начала войны вернулся в цех.
– Что же теперь, за ними поедете?
Но старик покачал головой.
– Ждать да догонять – хуже нету. Где-нибудь тут пристроюсь, в каком-нибудь оставшемся заводишке мины точить. Раньше бы уехал, а сейчас душа не лежит. Беглецов из Москвы и без меня многовато. Да ты сама по улицам шла, видала. Утром вышел хлеба купить, поглядел на это бегство и плюнул: тьфу ты господи!..
Попков любил называть вещи своими именами.
– На дворе – стыдно сказать – матрацы валяются, пух летит, как при еврейском погроме. Нет, я теперь из Москвы ни шагу, из принципа! – Он закашлялся, залез рукою под шубу и потер грудь.
– Вы, по-моему, и сейчас нездоровы, Зосима Иванович.
– Так, простыл чего-то. Только выписался и разом простыл. Одно к одному… Уехал завод в город Миасс. Есть, говорят, такой город в Челябинской области, сын приходил, говорил, когда я в больнице лежал. А где точнее – хрен его знает, по карте искал-искал, так и не нашел. Вот до чего дошли! Коренной завод наш, московский, в такую дыру закинуло, что даже на карте ее нету… Ты чего прибыла-то? – поднял он глаза на Машу. – Если за письмами, так я – будут – отправлю. В бега не ударюсь, не бойся. Как в доске ржавый гвоздь, буду сидеть тут до победы и одоления… Или, думаешь, немец Москву возьмет?
– Что вы, Зосима Иванович! – Маша даже вскрикнула от неожиданности этого вопроса, и старик понял, что мысль эта не приходила ей в голову.
– А что, очень даже просто, – радуясь ее уверенности, но по привычке поддразнивая, сказал Попков. – Поглядела бы, как сегодня днем тут некоторые ходу давали! Я одного приостановил, спросил – дюжий такой мужчина: «На отъезд разрешение имеешь?» Так он за все карманы сразу схватился, бумажонками полтротуара засыпал. А кто я ему? Почему испугался? Значит, нет у него ничего за душой, кроме дрожи в поджилках!
Старик вытащил из-за пазухи руку и сердито махнул ею по столу, словно сгребая невидимый глазу сор.
– Ну, а ты? Не за письмами, так что?
– На днях на фронт нас отправляют, зашла кое-какие вещи взять, – соблюдая правила школы: ни с кем не делиться своими тайнами, сказала Маша.
– Значит, и вас на фронт? А кто же вы есть такие?
Маша молча смотрела на него.
– Ладно, не отвечай, коли не вправе! – без обиды сказал Попков. – Только в одном меня успокой: что же, у вас весь такой батальон, женский, как при Керенском? Или и мужики есть?
– Есть. – Маша невольно улыбнулась.
– Ну и слава богу! Значит, до этого дело у нас не дошло еще. – Попков вздохнул и долго молчал, словно колебался, заговорить ли ему с этой мало еще чего видевшей и знавшей в своей жизни девчонкой о том самом для него важном, о чем он неотступно думал все последнее время. Но говорить об этом сейчас, кроме Маши, ему было не с кем, а молчать он больше не мог. – Я с одним полковником в больнице лежал – хотя и с фронта, а не раненый, тоже, как у меня, грыжа просто. Оказывается, это и на фронте не отменяется. Спрашиваю я его: «Ну, скажи ты мне, что это за такая за «внезапность»? Где же вы были, я ему говорю, – военные люди? Почему товарищ Сталин про это от вас не знал, хотя бы за неделю, ну за три дня? Где же ваша совесть? Почему не доложили товарищу Сталину?»
– И что же он вам сказал? – Маша сама уже много раз задавала себе этот мучительный вопрос, но еще никогда не задавала вслух так прямо и бесстрашно, как это делал сейчас Попков.
– Чего сказал? А ничего не сказал. Нагрубил мне, старику. А тебе, наверно, все понятно? – усмехнулся Попков. – Меня тут одна молодая барышня с нашего двора в прошлом месяце за длинный язык воспитывала: все ей понятно было. А сегодня с чемоданом в руках так через двор ударилась, бедная, аж ноги подламывались. Если и тебе все про все понятно, тогда бог с тобой, лучше молчи.
– Не знаю я, Зосима Иванович. Мы ведь полтора года прожили почти на границе, в самом Гродно, и кто же из нас не думал там о войне?! Конечно, все думали! А потом как ослепление какое-то – перед самой войной маму с Таней там оставить! Я не знаю, как другие, я просто о себе и о муже думаю: как же мы могли это сделать? Не знаю. Даже теряюсь, когда думаю об этом.
– А теперь я тебе скажу, как я понимаю, – после долгого молчания строго и даже торжественно сказал Попков. – Какая такая была «внезапность», я не знаю – не моего ума дело. Когда за стенкой гости придут, на стол собирают, и то людям слышно! А как это так, чтоб под боком целое войско собрали – и не слыхать, не знаю! Но я другое скажу. Что обсчитались мы, какая у немца сила, – это верно. Что сила у него огромная, тоже верно. Потому он и пошел прямо с границы ломать нас. – Попков положил руки перед собой на стол и всем телом подался к Маше. – Ты уже не маленькая, кое-что помнишь и на своем веку. Скажи мне хотя бы про свой век: как ни тяжело нам было, а пожалели мы когда-либо чего-либо для Красной Армии? Было когда такое, что надо на Красную Армию дать, а народ бы не дал? Нет, ты отвечай! Было такое или не было?
– Не было, – сказала притихшая Маша.
– А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть! Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить! А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали? Да я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую, жил, только бы у Красной Армии все было, только б она с границы не пятилась… Почему не сказали по совести? Почему промолчали? Прав я или нет?
Маша не знала, прав или не прав сидевший перед ней и говоривший, нет, уже не говоривший, а кричавший все это Попков. Но, несмотря на всю горечь того, о чем он кричал ей, она чувствовала в его душе такую силу, которая заставляла ее и себя чувствовать сильной, готовой на все – на баланду, на восьмушку хлеба, – да что там на восьмушку хлеба! – на любой бой, на любую смерть, только бы исправить, переделать все по-другому, чтобы не немцы шли на нас, а мы на немцев!
– Ничего, Зосима Иванович! – радуясь нахлынувшему на нее чувству, почти весело сказала Маша. – Мы еще свернем им шею.
– Спасибо, разъяснила старому дураку! – недовольно отозвался Попков. – Кто в конце концов сверху будет, а кто под низом, не хуже тебя знаю! А вот почему сейчас уже какой месяц под низом?..
– Но почему, почему под низом? – сказала Маша, даже растерявшись от нового натиска старика. – Идут бои, конечно, тяжелые…
– Что идут бои, в сводках читаю, – продолжал гнуть свое Попков. – Здесь их побили, тут пленили, там остановили… И при всем том третьего дня Брянск и Вязьму отдали! Так как же это выходит: сверху или под низом, как это по-вашему, по-военному? Ты военная – вот и ответь!
Маша ничего не успела ответить ему: за окном разом близко ударили зенитки.
– А я думал: чего они сегодня припоздали? – спокойно сказал Попков и, поглядев на старые, еще дореволюционные ходики, встал и спросил: – Пойдешь в убежище?
– А вы?
– А ну его! Там как глухарь внутри котла сидишь, а сверху молотит и молотит. Решил: лучше дома быть… Так как, пойдешь или нет?
– Нет, я тут с вами пережду.
– Тогда давай свет погасим, а штору вздернем, – сказал Попков, обрадованный тем, что Маша осталась. – Я тут в прошлую ночь сидел у окошка, смотрел. Интересная картина!
Прихватив у горла ворот шубы, он дошел до выключателя, погасил свет и, шаркая в темноте ногами, поднял бумажную штору.
Маша присела на подоконник, рядом со стариком. Квартира была на верхнем этаже, дома кругом были невысокие, и перед глазами открывалось целое небо, в котором все клокотало, гремело и стучало тысячами молотков. Это небо было словно одна громадная черная, натянутая над всем городом простыня, которая каждую секунду с треском лопалась в тысяче мест, и всюду, где она лопалась, вспыхивали шарики зенитных разрывов.
Совсем близко, за домом, раскатисто била зенитная батарея, от времени до времени своим грохотом перекрывая все остальные звуки, а между ее залпами, словно в испорченном радио, обрывками слышалось высокое гудение самолетов. Несколько раз дом вздрагивал от разрывов бомб, где-то невдалеке вспыхивали и погасали языки пламени.
Потом Маша услышала, как что-то звякнуло совсем рядом.
– Осколок от снаряда, – сказал Попков. – Об балкон. – И, повернувшись к Маше, добавил: – Может, отойдешь, а то залетит, как бы стеклами не порезало…
Маша, ничего не ответив, продолжала смотреть в небо.
– Да, зенитная оборона серьезная, задаром сквозь нее не пробьешься, – проговорил в один из моментов относительной тишины Попков, и, словно подтверждая его слова, высоко в небе, между желтыми шариками зенитных разрывов, вспыхнуло большое, необыкновенно желтое пятно, потом сделалось из бесформенного пятна желтым углом, потом полукрестом и, разваливаясь на маленькие гаснущие пятна, полетело вниз, в темноту.
– Сбили! – закричал Попков.
Зенитный огонь начал затихать, желтые шарики лопались все реже и реже, а скрещенные на куполе неба руки прожекторов стали одна за другой отваливаться к горизонту.
– Одна волна прошла. – Попков продолжал смотреть в окно. – Вот так ночью кажется – Содом и Гоморра, а утром выйдешь на улицу – только кое-где курится. Здесь дом, там дом, а Москва цела!
При этих словах Попков опустил штору, и они на минуту остались в полной темноте.
– Ну ладно, война – это преходящее, – сказал Попков и зажег свет. – Может, чаю с тобой попьем?
Маша поблагодарила и отказалась. Нюся ждет и, наверное, даже волнуется. Надо скорей захватить вещи и идти к ней ночевать.
– Спасибо, Зосима Иванович! Я в другой раз как-нибудь!
– А когда в другой раз? – строго спросил старик.
Она пожала плечами:
– Не знаю.
– Ладно, иди! – Попков захлопнул за Машей дверь и загремел цепочкой.
Маша снова пересекла двор и вошла в свой подъезд. Дул ветер, и распахнутые створки дверей с подсунутыми под них кирпичами терлись и сиротливо скрипели.
И Маша подумала: а вдруг там, наверху, на втором этаже, в почтовом ящике на дверях их квартиры, за круглыми дырочками, лежит и ждет ее пришедшее не вчера, а только сегодня письмо, но это письмо не от Синцова, а о том, что он убит?..
Ощупью, держась за перила, она поднялась по темной лестнице, достала из кармана гимнастерки ключ и стала нащупывать замочную скважину. Но рука ее наткнулась на что-то неожиданно звякнувшее. Она вздрогнула, сначала отдернула руку, а потом нащупала проволочное кольцо со связкой ключей. Один ключ торчал в замочной скважине.
Маша потянула за дверную ручку, и незапертая дверь пугающе приоткрылась. Маша минуту неподвижно простояла в тишине, холодея от необъяснимого страха перед этой дверью с ключами, и, рассердясь на себя, резко распахнула дверь и вошла в квартиру.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































