Читать книгу "Если Мельпомена выбрала тебя"
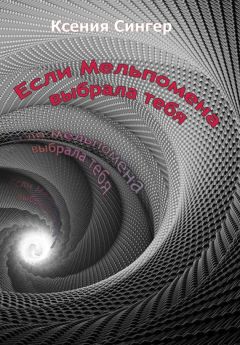
Автор книги: Ксения Сингер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– У нас есть еще почти полчаса. Мы успеем за это время привести тебя в порядок. Давай только быстро.
Мы садимся в машину, через десять минут останавливаемся у многоквартирного дома. Я чувствую волнение и фальшь, исходящие от Криса, но сегодня лекция по физике и мне очень хочется на нее попасть. Выходим, поднимаемся на второй этаж. Крис открывает дверь квартиры и говорит:
– Бегом в душ.
Я стою под душем, Крис заходит, собирает мои вещи и говорит, что закинет их прямо сейчас в стирку, через пятнадцать минут будет все готово. Помывшись, я оглядываюсь, полотенца нигде нет, кричу:
– Крис, мне нужно полотенце.
Появляется Крис, сам в махровом халате с большим развернутым полотенцем в руках. Я отворачиваюсь. Он обворачивает меня полотенцем, хватает на руки и несет. Я брыкаюсь, но он держит крепко. Кладет меня на кровать и прижимает собой. Руки у меня спеленаты полотенцем. Я абсолютно беспомощна. Его лицо близко к моему лицу.
Я умоляю:
– Отпусти меня.
– Ну уж нет. Я больше чем полгода ждал этого момента. Ты и сама этого хотела. Многие начинают в твоем возрасте. Ты увидишь, тебе это понравится.
Я понимаю, что попалась, глупая перепелка. Слезы текут из глаз. Собственно, я знаю все, что сейчас произойдет. Из-за спеленатых рук у меня начинается атака страха. Я кричу:
– Освободи мне руки.
Он смотрит настороженно и удивленно, но освобождает только ноги. Он начинает меня целовать и облизывать, пытаясь затолкать свой язык мне в рот. Это так омерзительно. Меня рвет. Он водит языком по всем местам. Он делает это, наверное, профессионально. Почти как показывают в кино. От него нестерпимо пахнет. Этот запах очень похож на запах Кони. Он начинает действия, которые приносят мне нестерпимую боль и омерзение. Я вижу его мутные глаза, вижу его экстаз. И вижу через слезы на полуопущенных ресницах объектив кинокамеры, стоящей на шкафу. Я закрываю глаза и стараюсь не смотреть в ту сторону.
Наконец-то Крис переваливается на спину. Лежит некоторое время рядом. От него непередаваемо тошнотворно воняет.
Затем снова навалившись на меня, начинает мне делать нестерпимо больно, зажав мне ладонью рот. Он говорит, что, если я не буду ласковой и послушной девочкой, будет еще больнее, а потом он сдаст меня в психбольницу, где из меня сделают идиотку. Потом встает, я слышу щелчок, наверное, выключил камеру. Наконец я могу высвободить руки.
Он сидит на стуле за столом. Я, закутавшись в то же самое полотенце, подхожу к нему и прошу:
– Крис, пожалуйста, не говори никому о том, что между нами произошло. Если ты расскажешь, я убью себя.
Он разворачивается и смотрит на меня торжествующе, цинично, с долей удивления. У меня по щекам текут слезы. Я закрываю глаза, чтобы не видеть его противного лица, осклабившегося в омерзительной улыбке. Я слышу его ненавистный голос:
– Все зависит от того, как ты себя будешь вести. Пойди на кухню и возьми свои вещи из стиралки. Они, наверное, уже готовы. Одевайся.
Я достаю мою одежду из стиральной машины, но она мокрая, хочу сказать об этом Крису, выхожу из кухни и в отражении стеклянной двери комнаты вижу, что он стоит на столе, подняв потолок шифоньера, достает оттуда коробки с кинопленками. Я быстро исчезаю на кухне и стараюсь натянуть еще мокрую одежду. Появляется Крис с пакетом в руках и с раздражением спрашивает:
– Ты что так долго копаешься?
– Одежда влажная, плохо натягивается.
– Ничего. Пока едем – высохнет. Поспеши. Мне надо еще к одному приятелю заехать.
Крис останавливается возле телефона-автомата. Пока он звонил, я приоткрыла окно в крыше машины, потому что в машине чем-то неприятно пахнет.
На одной из улиц, притормозив у обочины, Крис вылезает и стоит у машины, озираясь по сторонам. К нему подходит его приятель под стать по омерзительности Крису. Крис протягивает ему пакет; взамен получает конверт, открывает и заглядывает в него. Он что-то считает. В это время его подельник пялится на меня через окно машины. Спрашивает, тыча в меня пальцем, но проезжающий мимо грузовик заглушает часть вопроса, и я слышу только:
– А эта у тебя почем? Когда…
Крис с мерзопакостной улыбкой отвечает:
– Сам еще не наигрался.
В следующую среду мы, минуя университет, едем сразу на квартиру к Крису. Я чувствую в нем агрессивность и как бы между прочим весело говорю:
– Ты обратил внимание на Надин? Ну они от нас по левому ряду на VW ехали. Я думала, она шею свернет, когда тебя рассматривала. Хорошо мама ее аварию не сделала, а тоже на тебя пялилась.
Вижу, что это его озадачивает. Он раздраженно приказывает:
– Раздевайся
Потом больно, с жестокостью, которая ему доставляет наслаждение, меня насилует. Кончив, бьет меня по лицу. У меня из носу течет кровь. Он спешит. Я все терплю: и боль, и омерзение. Он везет меня в университет и говорит:
– Пусть тебя назад подруга захватит.
Я возвращаюсь поездом, поскольку подруги никакой и не было. Я это придумала.
Крис исчезает на четыре недели. Я езжу на лекции поездом. Но к бабушке я не захожу, мне стыдно к ней идти после того, что произошло. И еще, и это главное, она все сразу поймет и, конечно, начнет самоотверженно меня защищать, а эти двое сделают ей что-нибудь очень плохое.
В пятницу, придя из школы, я застаю дома Криса. Отступать поздно, уже не убежать. Он очень доволен, относится ко мне, можно даже сказать, ласково и начинает меня раздевать. Все происходит на моей кровати, которая не рассчитана на большой вес и вот-вот развалится. Я снова все терплю: и боль, и омерзение, и этот непереносимый запах, который исходит от него. Крис требует, чтобы я быстро привела себя в порядок и сварила кофе. Мы сидим на кухне, пьем кофе. Вот-вот должна вернуться с работы мать. Крис меня уведомляет, что в начале июня он уезжает на два месяца. Я должна поехать с ним, но матери об этом говорить нельзя. Мы уедем тайком. Я киваю. Хлопнула калитка, идет мать. Он успевает сказать, что у нас еще будет время оговорить детали. Он кидается к зашедшей матери, обнимает ее, целует. Я ухожу в мою комнату. Обдумываю новую ситуацию. До начала июня я, по-видимому, доживу, но четко осознаю, что поездка означает мой конец. Все должно решиться раньше.
В следующую среду, сначала проделав все свои гнусности надо мной, от которых мне так больно и противно, лежа рядом, он излагает план нашей поездки. Я осторожно напоминаю, что занятия в школе у нас до последней недели июня и раньше меня никто не отпустит.
– Вот именно. Я уезжаю в начале июня, а в конце третьей недели июня мы встретимся на юге Германии, а дальше на мотоцикле через Италию, Грецию, Турцию до Индии.
Я снова киваю. Он, наверное, думает, что я знаю географию так же плохо, как он, но молчу.
– Билет я куплю. Матери твоей я сказал, что купил тебе путевку в лагерь скаутов. Ты туда очень хочешь, так как туда едут твои друзья по университетскому курсу. К поездке нам надо подготовиться. Что для скаутов, собирай дома, а что для поездки со мной – здесь. Брать минимум. Мы в следующую среду сходим в магазин и все купим.
Потом сел, глядя на меня в упор, поминутно требуя, чтобы я повторяла за ним, стал назидательно говорить:
– Путевка в лагерь начинается с двадцать третьего июня. Вас везут организованно из Гамбурга на автобусах от железнодорожного вокзала в десять часов. Это значит, что двадцать третьего июня ты должна приехать до десяти часов в Гамбург с рюкзаком, в котором лежат вещи для лагеря, и прийти сюда, по дороге выбросив рюкзак, где-нибудь в контейнер. Здесь переоденешься. Одежду, в которой приехала, тоже потом выбросишь в мусорный контейнер. Вещи сложишь вот в эту сумку. И ничего больше.
Сумка меньше моего школьного рюкзака. Это не выглядит багажом для такого дальнего путешествия.
– В кармане этой сумки будут лежать билет и деньги на всякий случай. В Ульме выйдешь из вокзала с центрального выхода, повернешь налево, до первого перекрестка и еще раз налево. Там я буду тебя ждать.
В среду, которая, я очень надеюсь, последняя, мы едем, как обычно, в Гамбург. Крис настроен благодушно и всю дорогу возбужденно говорит без умолку. Он явно доволен собой в какой-то сделке. Весело мне сообщает, что сегодня обязательно мы должны купить все необходимое для поездки. Сначала заедем все купим, а потом домой. Но потом передумал и поехал к себе на квартиру. Он грубо бросил меня на кровать и начал сдирать с меня одежду. Зазвонил телефон. Он не хотел отвечать на звонок, но звонящий начал говорить на автоответчик. И тогда Крис соскочил и схватил трубку. Разговор между ними шел по-французски: об оплате и продаже. И что-то там не состыковывалось. Кто-то сбежал или что-то в этом роде. Я слышу их обоих, и все записывается на автоответчик. Не заметив этого, Крис положил трубку. Он явно был сильно раздражен. Я вся сжалось. Он глянул на меня, усмехнулся и начал одеваться. Бросил на стол сто марок, ключ и сказал:
– Пойди сейчас и купи, что надо к поездке, и занеси сюда. Ключ возьмешь с собой. Я еще заскочу к вам. Если не сумею, увидимся двадцать третьего июня в Ульме в двадцать часов.
Он притянул меня к себе, поцеловал меня в губы и ушел. Выключила красную лампочку на автоответчике, тщательно вымыла губы и прополоскала водой рот. Но и после этого противный запах и привкус после Криса все равно оставались. Пошла купила одежду. Выполнив все приказы Криса, я вернулась домой намного раньше обычного. На кровати у меня лежали новый красивый красный рюкзак, новая модная куртка красно-серого цвета, новые джинсы и еще кое-что по мелочам. Мать готовила меня в лагерь скаутов, не подозревая, что не существует никакой путевки вообще, да и лагеря-то этого, возможно, и в природе нет. Так что в этих обновках меня только в гроб положат, и то если труп мой найдут.
Июнь
Петля, наброшенная на меня Крисом, все стремительнее и туже затягивалась. Я сама не понимала, как оказалась в этой ситуации, на которую не могу никак повлиять, не могу ничего изменить. Все было подчинено Крису: и я, и мать, и обстоятельства, и даже события вокруг. Я не знала, как мне выбраться из этой ямы, которую для меня вырыл Крис, и я по собственной глупости сама прыгнула в нее. Я больше не могла так жить. Мысль, что пора уйти из этого мира, все настойчивее буравила мне голову. Оставалось немного – решиться на это. Но исполнить только самой. Мне представлялось, как Крис, замучив, прикончит меня и обезобразит мое тело, чтобы меня никто не узнал. Мне становилось от этого жутко. Или продаст в публичный дом. Я была одна во всем этом мире, и заступиться за меня было некому. Я бы давно это уже сделала, но где-то далеко, как в космосе, светлым пятнышком была бабушка, которой от этого было бы очень больно. Если бы я сейчас приехала к ней, она бы все поняла, постаралась помочь найти выход. Я это знала, и еще я знала, что эти двое накинулись бы на нее, оболгали, натравили бы на нее полицию, суд. А меня насильно вернули бы к ним назад. Да и после всего, что случилось, я не могла к ней поехать. Это был стыд и перед ней, и перед папой. Тогда бы мать никогда не понесла наказания за свое предательство. Я продолжала жить как жила: ходить в школу, учить уроки, хотя четко осознавала, что жизнь моя подошла к концу и у нее не может быть продолжения.
В тот день, когда я была совсем близка к тому, чтобы это выполнить, раздался звонок у входной двери, который своим звуком буквально пронзил меня всю. Дома, кроме меня, никого не было. Да и я только что пришла из школы. Открыв дверь, я увидела молодую женщину крепкого телосложения, у нее были сильно загорелые лицо и кисти рук. Она спросила на ярко выраженном южном диалекте мои имя и фамилию. Я, ни секунды не раздумывая, сказала, что мое имя Алина, и назвала папину фамилию. Так ко мне всегда обращались только бабушка и папа, когда он хотел сказать мне что-то важное или призвать меня к порядку. В школе и дома для всех я была Лина и носила фамилию матери. Так стояло в моем свидетельстве о рождении. Мама моей матери была датчанка, и для моей матери не было другого варианта – ее дочь должна носить фамилию матери. Папа, собственно, тоже должен был носить согласно их традициям ее фамилию, но к тому времени, когда они женились, он был уже известен в научных кругах и поэтому оставил свою.
– Тогда тебе я привезла письмо, которое я нашла в очень необычном месте, на высоте почти восемь тысяч метров. Оно лежало у отвесной скалы, прижатое камнем.
Незнакомка произнесла это, сделав ударение на слове «тебе».
– Вы были на К2?
Она пристально посмотрела на меня:
– Да. Я вернулась оттуда месяц назад. Так ты знаешь от кого это письмо?
– От папы.
– Как его имя?
Я сказала. Она замерла, а потом стала как бы оправдываться:
– Я не могла сразу привезти его. Конечно, можно было бы послать письмо по почте, но на нем под адресом стоит «Передать лично в руки», и я подумала, что, наверное, это важно, чтобы оно не попало кому-то другому.
Я уже готова была отобрать у нее письмо, но она сама подала мне его. Я буквально выхватила его. Почерк был папин. Я прижала его к себе. Я не хотела, я не могла читать его при ней. Она продолжала стоять.
– Мне трудно выразить, как я вам благодарна.
Она кивнула.
– Ну ладно, мне пора.
И пошла. Как только за ней закрылась калитка, я бросилась в мою комнату и заперла дверь.
Я осторожно распечатала конверт. Казалось, от него пахло снегом, так же как и от листа, который я вынула. Лист был исписан с двух сторон простым графитовым карандашом убористым папиным почерком. Пространство между строчек выглядело сизым, как тень того, что стояло за строчками. От этого казалось, что письмо состояло из двух матриц, наложенных друг на друга. Чтение верхней, состоящей из слов в строчках, отпирало, как ключом, вход туда, что было за ней, во второй матрице, раскрывавшей смысл всего письма, но недоступной не посвященному человеку.
Я прочитала письмо уже пять раз. По мере того как я читала и перечитывала, зияющая пустота в пространстве, оставшаяся после того, как не стало папы, будто снова стала им заполняться с бестелесной, едва осязаемой плотностью. Я ощущала его присутствие. Мне стало очевидным, что я должна жить. Мне стало ясным, как я должна жить дальше, как и что я должна делать. Обычные строчки, обычные слова, написанные два года назад, в первой матрице магически преломлялись во второй матрице, высвечивая их смысл. Суть их основывалась на актуальных событиях, произошедших максимум два месяца назад. Значит, и написаны они могли быть только совсем недавно.
– «Здравствуй, мой милый, мой бесценный ребенок, мой колокольчик Лина-Лин. Мне бесконечно жаль, что я не сказал тебе очень важное, не поговорил с тобой, не сумел предостеречь тебя. И вот теперь, когда жизни осталось совсем немного, четко осознаешь, что же в ней для тебя было главным. Кого и что трудно покинуть, чем ты жил, а что было совсем неважным, а ты тратил на это столько сил и времени, обкрадывая себя, отнимая себя у тех, кто любил тебя; отнимая от себя тех, кто был тебе бесконечно дорог. Но сейчас я должен спешить. Самое главное на свете – это дети. Для меня главным человеком на земле была всегда ты. Дети – это самое весомое, что ты оставляешь на земле после себя. Дети и есть твое счастье. Помни это всегда. Стремись к этому счастью и дорожи им. И еще. Человек, который будет за тебя всегда, что бы с тобой ни случилось, – это твоя бабушка, моя мама. Она необыкновенный человек. Я ее очень люблю. Береги ее. Будь рядом с ней. Прости свою мать, она не хочет тебе зла. Она встанет на твою сторону. Стало вдруг очень жарко. Я боюсь, вдруг растает ледник, а я должен еще отнести письмо на почту. Доченька моя, прости, что я не смог защитить тебя в этом мире. Продержись еще немного. Может быть, оттуда, из другого мира, где для меня уже открывают ворота, это будет сделать проще. Мне невыносимо больно, что я больше никогда не прижму тебя к моей груди. Хоть бы взглянуть на тебя. Услышать твой голос. Сказать тебе то, что не успел. Все думал, пусть подрастет. Ты должна быть сильной. Ты и только ты сама должна определять свою жизнь, не позволяй никому этого делать за тебя. Моей работе я посвятил больше всего сил и времени. У меня были хорошие друзья, но не было соратников. Мои наработки, мои идеи в тетрадях, которые лежат в коробке, оставленной мной в твоем тайнике. Мне их некому завещать, кроме тебя. Становится жарче и жарче, хотя я снял уже и куртку, и свитер. Мне надо спешить, чтобы успеть отправить письмо, пока есть оказия. Надеюсь увидеть тебя. Целую, папа».
Хлопнула входная дверь. Это Крис. Я слышу, как он обходит все помещения. Убеждается, что матери нет дома. Останавливается у двери моей комнаты. Дергает за ручку. Стучит. Все внутри у меня сжимается и ощетинивается. Я молчу. Я знаю, что я этого больше не допущу.
– Лина, открой. Я знаю, что ты дома. Я сегодня ночью уезжаю. Не будь злой и жестокой девочкой.
– Я не могу сегодня; у меня болит живот и голова.
– Открой, я посмотрю, вдруг что-то серьезное. Может, надо срочно к врачу.
– Нет, это обычные боли раз в месяц. Я тебе сказала, что сегодня не могу. Мы увидимся, как договорились, через две недели. Счастливого пути.
Он с еще большей энергией дергает за ручку и трясет дверь. Я готовлю на всякий случай отступление через окно и вижу, что идет мать. Его я об этом не уведомляю. Надо убрать письмо в папину коробку в шкатулку. И слышу слова, заставившие сжаться всему, что есть у меня внутри:
– Ты забыла, что будет, если ты не будешь ласковой и послушной девочкой.
Заходя в дом, мать слышит этот грохот, и я очень надеюсь, что последние слова Криса тоже. Раздается ее голос:
– Что здесь происходит?
– У Лины в комнате заклинило дверь, вот пытаемся открыть.
Я открываю дверь. Мать смотрит на меня вопросительно и растерянно, но язык у нее не поворачивается спросить меня о том, что она вдруг понимает. Она только спрашивает:
– Ты почему такая бледная?
Повторяю причины моих болей и прошу оставить меня в покое, потому что я приняла обезболивающее и очень хочу спать. Захожу в комнату, закрываю дверь и окно. Не включая света, обдумываю актуальный план действий и план на оставшуюся жизнь. Правда, в плане очень много дырок и знаков вопроса. Я вижу единственную возможность – оставить папину коробку у Рико, а самой поехать к Жанет в Берлин.
Из школы ухожу после первого урока, сославшись на головную боль. Захожу домой. Беру большую сумку, в нее кидаю несколько вещей, которые обычно ношу. Еще мне нужно лезвие или скальпель. В поисках забредаю в материну ванную комнату. Никто, кроме нее, не имеет права ею пользоваться. На глаза попадается пробирка с жидкостью, стоящая на подоконнике. Рядом лежит коробка, на которой написано «Тест на беременность». Внутри нее лежит еще одна такая же неиспользованная. Читаю инструкцию, писаю в пробирку и ставлю рядом с первой. Нахожу скальпель и кладу в карман.
В квартире у Криса на столе лежит веселое письмо, оставленное им для меня. Меня оно не интересует. Вытаскиваю кассету из автоответчика и кладу ее в сумку. Туда же перегружаю все кассеты с видеозаписями из двойного потолка шкафа. Там еще лежат две увесистые папки с бумагами, кладу их тоже в сумку. На одной из этих кассет заснято, как он это совершал надо мной. Я не знаю, на которой из них, но если бы даже знала, все равно забрала бы все, потому что на других другие жертвы, другие дети. Это не воровство, это экспроприация. Было бы правильнее, если бы это сделала полиция, но жестокие СМИ во главе с политиками, полицией, правосудием ославят и сотрут в порошок остатки и без того немилосердно измочаленной жизни. Лучше от них всех держаться подальше. Вещи и сумку, приготовленные для путешествия, кладу поверх кассет.
Закончив процедуру изъятия, режу скальпелем ладошки. Кровь льется ручьем. Ладошками оставляю вокруг пятна крови на шкафах, на постели, на одежде, на стенах; капаю на пол в ванной комнате, на кухне. Мою одежду, принесенную сейчас, тоже перемазываю кровью и раскидываю вокруг. Уже достаточно, а кровь не останавливается, заматываю раны полотенцами. В этом деянии, безусловно, присутствует элемент мести, поскольку я порчу здесь вещи с удовольствием. Основная же цель – защита других детей, которых этот паук будет выслеживать. Я хочу показать, что здесь, в этой квартире, творятся преступления, и даю большой шанс полиции поймать преступника. Я не знаю еще, что я буду делать с видеокассетами, но оставлять их здесь нельзя. Я сжигаю письмо Криса прямо на столе, здесь же оставляя пепел от него. Помыла ключ, чтобы не осталось отпечатков моих пальцев, и бросила его на стол. Теперь надо быстрее уносить отсюда ноги. Дверь оставляю полуоткрытой.
Сумка достаточно тяжелая. Наконец-то добираюсь до дому. Мать сидит на кухне, перед ней стоят обе пробирки.
– Крис?
Я киваю головой. У нее по щекам текут слезы. У меня нет. У меня внутри лед или камень, а может, и то и другое.
– Почему ты мне раньше не сказала?
– Ты была за него. И мне бы все равно не поверила.
– Что в этой сумке?
– Он записывал на видео, как меня и других детей насиловал. Я экспроприировала. Да еще билет и кое-какие вещи для побега с ним. Через две недели мы должны были встретиться на вокзале в Ульме, а дальше на его мотоцикле до Индии.
Она закрыла лицо руками, сгибаясь все сильнее, как будто громадная тяжесть пригнула ее к столу. Когда она подняла голову, лицо ее было белым, как бумага, и голос был чужой, хриплый:
– За такое не прощают, но я прошу, прости меня.
Я подхожу к ней вплотную. Долго смотрю ей в глаза. Но удовлетворения от ее раскаяния нет. Есть только жалость к себе и к ней. Я думаю: «Две глупые, безмозглые перепелки».
Но вслух произношу:
– Давай как можно быстрее уедем отсюда. Он может вернуться в любой момент.
– Возьми, что тебе особенно дорого. Также все письма, номера телефонов, адреса и все фотографии, ни одной не должно остаться. Я думаю, часа на сборы нам хватит. Нам надо спешить, ты права.
У меня все готово. Я собралась еще ночью. Собственно, и собирать было нечего. Папина коробка и так собрана. Я ставлю ее в сумку, чтобы было удобнее нести. Новый рюкзак с парой футболок, бельем и тремя громадными, толстыми книгами. Два тома из них называются «Полный курс физики», где мелким шрифтом внизу титульного листа напечатано «Рекомендовано для физических факультетов университетов», и третий – «Справочник по математике». Это были папины книги. Мать, недавно прибирая в книжном шкафу, отправила их в макулатуру. Я их оттуда вытащила и поставила в мой шкаф. Письмо бабушке, написанное ночью, отправила еще по дороге в школу. Быстро переодеваюсь в новую одежду, купленную мне матерью для лагеря скаутов. Мы еще раз обходим все комнаты, внимательно осматриваем все, не осталась ли какая-нибудь информация о ком-нибудь из близких нам людей и какие-либо фотографии.
Через час мы уже в машине. Заезжаем в школу. Мать идет выпрашивать мой годовой табель за двенадцатый класс. Табели должны быть готовы только через неделю, но ей выдают. Я не знаю, как она сумела их убедить, я ждала ее в машине.
Мы едем в сторону Гамбурга, но куда, каков наш конечный пункт, я не знаю и не спрашиваю. Это неважно. Важно, что все пока идет в соответствии с моим желанием, как можно быстрее уехать отсюда. Где-то в районе Альтоны-балкона мать высаживает меня вместе с вещами на уютной скамейке, проронив: «Ты должна меня здесь подождать. Возможно, это будет долго», – и уезжает. Я удобно устраиваюсь, достаю первый том по физике и начинаю его читать. Часа через четыре мать подъезжает на такси. Я не задаю никаких вопросов. Через несколько минут мы на вокзале Альтона. К нашим вещам добавляется еще пакет. Из него вкусно пахнет свежими булочками. Из этого же пакета мать достает и подает мне темные очки и кепи, чтобы я надела. Я выполняю все, что она говорит.
Через сорок минут мы уже едем в поезде, который везет нас на север. Не доехав немного до Фленсбурга, мы единственные, кто выходит на этой небольшой станции. Уже поздно и совсем темно. Мы ждем, пока пройдет поезд. По деревянному настилу переходим через железнодорожные пути к зданию вокзала. Но остаемся стоять снаружи в тени. Ставим сумки на пятачок, освещенный фонарем. Мать оглядывается по сторонам. Она явно кого-то ждет. Из темноты появляется фигура, которая обнимается с матерью, потом поворачивается ко мне, и я вскрикиваю от радости, узнав Виви.
Мы едем в темноту по узкой дороге. Виви лихо ведет машину, объезжая только ей видимые препятствия. Она уже в курсе всех наших событий, скорее всего, они с матерью общались по телефону. Мать рассказывает Виви, что свою машину она продала в автосалоне возле аэропорта. Отчаянно торговалась с продавцом за каждую марку. Рассказала ему, что через четыре часа она с больным ребенком улетает в Южную Америку, поэтому ей очень нужны деньги прямо сейчас.
– Я даже билетом перед его носом потрясла. Вот увидишь, он начнет искать нас. И в первую очередь возьмет в визир машину. Он очень коварный, и поэтому надо быть все время начеку. Он будет гоняться не столько за нами, сколько за этим видеоматериалом.
Виви была с ней полностью согласна. Меня стало укачивать. Я задремала. Мне трудно сказать, сколько мы ехали: четверть часа, а может быть, два. Я проснулась от слов Виви:
– Вот мы почти и прибыли.
Мы въехали то ли в ворота, то ли просто в проем каменной стены. Виви как бы извиняется:
– Две недели как из ведра лило и теперь вместо дороги у дома озеро. Здесь повыше, поэтому и дорога здесь почти сухая, но придется немного пройтись.
Дальше мы идем через старинное кладбище мимо замшелых надгробных каменных крестов и глыб по неровной каменной дорожке, освещаемой луной. Справа едва различимые в темноте руины церкви. Я тащу сумку, в которой папина коробка. Она тяжелая, но я не хочу ее отдать ни матери, ни Виви. Виви смеется:
– У тебя там что, драгоценности, золото, бриллианты?
Я молчу, я знаю, что папину коробку я не могу и не имею права доверить никому даже на секунду.
Поминутно спотыкаясь, идем дальше.
– Уже дошли.
Мы стоим между двумя глухими каменными стенами. Я наконец-то идентифицировала шелест, сопровождавший нас все время, пока мы шли, который первоначально показался мне шумом листвы, но вокруг не было видно ни единого деревца. В потоке воздуха, сквозившего между каменными стенами, улавливался запах отдаленного моря.
– Здесь должна быть где-то потайная калитка. Ах да, вот она. Попробуй найди в темноте, под которым из камней в стене спрятана эта защелка. Наконец-то, нашла.
Женщины проходят вперед. Эта узкая калитка в стене пропускает нас в небольшой сад. Я аккуратно ставлю защелку назад на место. Темным утесом высится дом. Наш вояж, похоже, подошел к концу. Оказалось, что нас здесь ждут. Мы еще не подошли к двери дома, а она уже широко открылась, освещая нам путь. Включился фонарь. Нас встречает пожилая женщина. Ее хорошо видно в свете фонаря и на фоне освещенного дверного проема. Она кажется мне не по годам статной. Одета она в очень простое темное длинное платье. Загорелое лицо ее, покрытое вязью морщин, дышит спокойствием. Она искренне рада матери и Виви. Наконец, мать представляет меня. Я подхожу к ней. Ни слова не говоря, она прижимает меня к своей груди, целуя в темя, и я погружаюсь в то спокойствие, которым дышит ее грудь.
Мы сидим в узкой длинной комнате с высоким небольшим окном в торце, в которое на нас смотрит темнота с улицы. Длинный, ничем не покрытый, тщательно вымытый стол, жесткие стулья, на которых мы сидим, да открытые деревянные полки с посудой вдоль стены составляют органичное убранство комнаты. Я не знаю диалекта, на котором беседуют женщины, но чем дольше вслушиваюсь, тем легче экстраполирую слова и начинаю потихоньку улавливать смысл беседы. Из открытой двери соседней комнаты доносятся запахи, дразнящие пустой желудок. В комнату входит большой пожилой мужчина. На нем джинсы и черный свитер ручной вязки, из круглого ворота которого выглядывает воротник фланелевой клетчатой рубашки. Борода в половину лица, аккуратно причесанная и подстриженная полукругом, делает его лицо длиннее. Виви рапортует ему:
– Батюшка, все четыре ведьмы в сборе, ждем тебя.
Он хмурит брови, грозит ей пальцем, а глаза смеются. Я встаю, потому что мне удобнее стоять в его присутствии. Остальные тоже встают. Марта для того, чтобы принести еду, Виви и мать, чтобы подойти к нему поздороваться. Но он подходит сначала ко мне, целует меня в лоб и тепло произносит:
– Добро пожаловать, дитя мое. Меня зовут Юрген, я брат твоего деда, то есть тоже в какой-то степени твой дед. А твое имя, как я понимаю, Лина?
Я отрицательно кручу головой. Он удивленно смотрит на меня, как и все присутствующие, и я твердым голосом сообщаю:
– Меня зовут Алина.
И я почувствовала себя вдруг в его присутствии защищенной и уверенной в том, что все образуется и я буду сама определять мою жизнь. После ужина мы долго сидим за столом. Разговор идет о том о сем. Иногда какими-то полусловами, полунамеками. Я вижу, все всё понимают, кроме меня. Потом разговор заходит обо мне. Мать вперемежку с плачем поведала, что мне остался всего год учебы для того, чтобы закончить абитур. С такими способностями надо идти в университет.
За весь вечер я не произнесла ни слова. И не стремилась. Мое молчание за столом никого не тяготило, включая и меня.
На следующее утро я не хочу выходить из выделенной мне комнаты. Она очень уютная, и кажется, что в ней я надежно защищена. Здесь есть все, что мне нужно, и ничего лишнего: узкая кровать, маленький стол и стул, деревянная полка на стене и рядом с ней два крючка. На полку я водрузила два тома. Третий, который начала читать, положила на стол.
Решив не ходить на завтрак, поскольку еще не проголодалась после вчерашнего ужина, стала рассматривать кассеты экспроприированные вчера. На каждой стояла надпись. Чаще это было имя. На одной было написано «Лина». Ее отличал от других большой жирный красный крест. Эту кассету я переложила в папину коробку на самый низ.
Я только села за стол, решив дочитать главу, которую не закончила вчера на Альтона-балконе, когда в дверь постучали. После моего «да-да» входит Юрген. Я пододвигаю ему стул, сама пересаживаюсь на кровать. У него в руках стопка книг. Прежде чем сесть, он трогает стену у кровати, чтобы удостовериться, что она теплая. Ночью это было для меня приятным сюрпризом. Он спрашивает заботливо:
– Как спалось?
Дома я ненавидела мою кровать – от нее всегда пахло Кони, хотя даже саму кровать сменили уже дважды, но запах оставался. Потом с ним смешался запах Криса. Это было непереносимо тошнотворно. Сегодня от кровати пахло морем. Мне так хорошо спалось в ней. Я абсолютно искренне отвечаю:









































