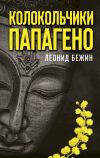Текст книги "Дневной поезд, или Все ангелы были людьми"

Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Николаша! Голубчик мой! Приехал! Дай-ка посмотрю на тебя!
– Как видите, приехал, Владимир Жанболатович.
– Студенты про Владимира уж и забыли и меня величают теперь Жан-Жак, как Руссо. Надеются, что я прощу им незнание «Исповеди» и «Новой Элоизы». – Новоиспеченный Жан-Жак нашел повод себя упрекнуть в слабости (сладости), с которой безуспешно боролся. – Впрочем, я, как всегда, слишком занят собой. Прости, ради бога. Давай о тебе. Стало быть, ты прибыл в родные места.
– И не только прибыл, – Николай был рад вставить словечко, – но успел уже купить на Невском книжку о Есенине…
– Ну-ка, ну-ка, покажи… – Жан-Жак изобразил не слишком искренний интерес.
Николай снял рюкзак, расстегнул кармашек и достал книгу, которая едва в нем помещалась.
– Вот, взгляните…
– Так это ж старая… два года как издана. А чего-нибудь поновее не было? О Есенине много чего выходит. Спохватились.
– Мне не попалось.
– Тогда, так и быть, я тебе подарю… – Жан-Жак достал с интригующим (заговорщицким) видом книжицу.
Прежде чем взять у него из рук книгу, Николай сказал:
– А еще я успел повидаться с вашим братом…
– Каким это братом?
– А разве у вас их много? С отцом Анатолием…
– Ах, господи! Все его величают отцом – вот я подчас и забываю, что он мой брат.
– Меня известить об этом вы тоже забыли? – Николай посмотрел ему в глаза.
– Ах, прости, прости. – Жан-Жак отвернулся.
– Я ведь понятия не имел о вашем родстве с отцом Анатолием. И не догадывался, что о моих письмах вы тотчас докладываете брату и их содержание становится ему в деталях известным.
– Я не то чтобы докладываю… тут есть одна тонкость, и ее следует учитывать, чтобы не ошибиться в чем-то очень важном, мой друг. И чтобы у тебя не сложилось превратное мнение. Помнишь «Обломова»? У Ильи Ильича и Ольги бурный роман, страстная любовь, свидания, признания и все такое, а она в письмах аккуратно сообщает об этом Штольцу. Значит, в уме она держит все-таки Штольца как будущего мужа и стремится, чтобы у него не возникло насчет нее никаких подозрений. И Ольга перед Штольцем чиста. Но вся штука еще и в том, что она и перед Обломовым чиста, эта бестия Ольга. Она по-женски все предусмотрела. Вот где тонкость психологическая – что твой Достоевский. Гончаров частенько соревнуется… очень точное слово, поскольку в нем и ревность, и соревнование. А в литературе все это вместе… Так Гончаров соревнуется и побивает Достоевского (а мог бы и Тургенева, и Толстого) тем, что Ольга чиста и невинна перед обоими. Вот и я перед вами чист, мой друг…
– Неужели? А я уж готовил вам страшную месть.
– Тем не менее я чист, как непорочный агнец, ведь отец Анатолий мой брат, причем он старше на два года, и я с детства привык во всем ему подчиняться.
– А я?
– Вы для меня то же, что Обломов для Ольги. Вы пришли извне, и вы явление временное. К тому же я по натуре предатель. Предатель не в моральном, а опять же в психологическом смысле. Вот так, друг мой… люди сложны. Достоевский призывал заузить человека (человек слишком широк для него), а я предпочел бы упростить. Предпочел бы очистить от всяких там мелочей, соскрести их, как накипь. – Жан-Жаку немного наскучили собственные речи. Он слишком часто произносил их с кафедры, чтобы еще и дома отдаваться потоку собственного красноречия. Поэтому он решил вместо речей обрадовать Николая неожиданным признанием: – Между прочим, я приготовил вам сюрпризон… – Жан-Жак выдержал томительную паузу, желая определить по лицу Николая, какой эффект произведут на него эти слова.
– Еще одну книгу? – Николай напоминал, что уже получил от него подарок.
– Что все книги да книги! Я приготовил сюрприз иного рода – знакомство с одной старушкой, петербуржанкой (люблю это слово), которая когда-то девушкой убирала в номерах «Англетера». И видела перед смертью Есенина. Тогда ее звали Нюрой, а сейчас она Анна Вадимовна. Впрочем, иногда она зовет себя Прохоровной – в знак особой признательности одному человеку. Что – довольны? Теперь не станете вершить свою страшную месть? А? Ха-ха-ха!
– Не может быть! – только и мог произнести в ответ Николай.
Жан-Жак воспользовался этим, чтобы изречь, причем не без некоторого апломба:
– Раз в Петербурге могут быть революции, то там все может быть, мой милый. Даже буддийские кружки. – Он обозначил голосом, что неспроста использовал это слово – «буддийские».
Тут Николай совсем растерялся.
– Буддийские, а не православные? Есенин же был православным.
– «Все пройдет, как с белых яблонь дым». Пожалуйста вам, Есенин. А ведь это чистейший буддизм.
– И Анна Вадимовна посещает такой кружок?
– Возглавляет! Впрочем, вы сами все увидите. И – услышите. Только не удивляйтесь: при встрече она прежде всего вам скажет, что вас на самом деле нет. Она и мне такое говорила. Ха-ха! Что-то я развеселился – как бы плакать не пришлось.
– Меня нет? – Николаю показалось, что он ослышался.
– Как личности. Как личности, разумеется. И еще запомните дату: второе декабря. Анна Вадимовна вас о ней непременно спросит.
– А что это за дата?
– После, после. Зная, что вы едете ночным поездом, я договорился о встрече на двенадцать. Поэтому с выстрелом пушки мы должны быть у нее. Так что и предатели могут быть иногда полезны, а? – Жан-Жак подмигнул и тотчас придал лицу самое серьезное выражение, словно подмигивать в таких случаях мог кто угодно, но только не он.
– Прошу, прошу. Заходите. Я вас давно дожидаюсь. Второй раз ставлю разогревать чайник на огонь, хотя дома и без того жарко. И пирог пришлось накрыть салфеткой, а потом еще платком от мух, чтобы они его не засрали – извините за грубое слово: оно меня дискредитирует и к тому же портит мне карму. Но бить этих мух еще хуже, поскольку, сами понимаете, ахимса – ненанесение вреда живому. А нанесешь этот вред и тем самым согрешишь. Словом, куда ни кинь – всюду клин. Я погрязла, и не столько в своих грехах, сколько в требованиях Пратимокши – дисциплинарного Устава, будь он неладен. Ах, что это я! Молчок. Я этого не говорила, а сказала противоположное: ладен, ладен. Вы ведь слышали, что я именно это сказала. Вернее, прожужжала, как муха. Я сама и есть муха – меня бы кто прихлопнул.
Гости вежливо и терпеливо выслушали этот монолог (молоток), переминаясь на пороге, и Жан-Жак сказал:
– Вот Анна Вадимовна, знакомьтесь. Молодой человек правильных православных воззрений.
– Похвально. Но почему не буддийских?
– Еще не созрел, но подает надежды.
– Созревают овощи на грядках, а человек прозревает. Вот и вы, юноша, еще прозреете и постигнете значение Четырех благородных истин. Во всяком случае, я надеюсь.
– Николай Добролюбов, – назвал себя гость, чтобы она могла обращаться к нему по имени.
– Очень приятно. Только прошу учесть, что никакого Николая Добролюбова как личности не существует, а есть поток сознания, носящий это имя. Причем сознания разорванного, клочковатого, хотя мы не всегда это замечаем. Вот я, к примеру. – Она выпрямила спину, подбоченилась и приняла позу, чтобы служить хорошим примером. – Разговариваю с вами, выслушиваю всякие там любезности, а сама поглядываю на носки моих туфель и думаю, что они запылились – надо бы щеткой провести разок-другой. При этом почему-то вспоминаю, что на даче иссяк газ в баллонах, что у меня опять завелась моль, а Платон Каратаев у Толстого сравнивает счастье с неводом: тянешь – надулось, а вытащишь – нет ничего. Никакой логики! Где ж тут моя личность, мой единый атман? – Это слово Анна Вадимовна произнесла по-французски в нос.
– Мы все рассыпаемся на дхармы, элементарные сгустки сознания, – авторитетно заверил Жан-Жак, слышавший это от самой хозяйки и поэтому уверенный, что она с ним согласится. – Я вот тоже, казалось бы, занят разговором, а в голову приходят мысли, с ним совершенно не связанные.
– Какие же, мой милый?
– Скажем, о том, что в Комарово я больше не поеду: там все опошлилось. Приглашать в оппоненты Зайцева – значит зарубить докторскую диссертацию, а докторскую колбасу не стоит больше покупать, поскольку она безнадежно испортилась.
– Да-да, мой милый. Я тоже докторскую больше не беру. А если беру, то лишь на Невском, в проверенном гастрономе – Елисеевском и больше ни в каком. С меня хватит. Однажды я ею чуть не отравилась.
– Ну и о Есенине всякие мысли… – Жан-Жак попытался вырулить в сторону Есенина, но Анна Вадимовна на это не откликнулась, поскольку была поглощена разорванностью собственного сознания.
– Ах, подождите вы с Есениным. В наших головах – хаос. Не логически выстроенные мысли, а клочки и обрывки.
– Значит, с буддийской точки зрения я прав, когда говорю студентам: «У вас каша в голове!»?
– Совершенно правы, мой милый, – произнесла Анна Вадимовна так, словно он оставался бы для нее милым, даже если б был не прав. – К этому постепенно приходит психология Запада. Кстати, она у буддизма заимствует мысль, что собственный психический опыт невозможно никакими средствами передать другому.
– Психология, но в еще большей степени литература. – Жан-Жак все еще надеялся вырулить в нужную сторону.
– Да, да, да! Литература – особенно. Буддийское понимание личности очень хорошо прослеживается в западной литературе – литературе «потока сознания». Разорванность сознания там главный принцип. Вот я вам прочту из Вирджинии Вулф. Она волшебница, волшебница!
– Анна Вадимовна, а Есенин?
– После, после. Проходите сюда, в гостиную. Сядайте, гоноровые пане. Вот послушайте. – Она достала книгу, которую носила за пазухой, в складках платья, прижатой к сердцу. – «“А если завтра будет неважная погода, – сказала миссис Рамзи, мельком взглянув на проходивших Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, – то мы выберем какой-нибудь еще день. Сейчас, – продолжала она, раздумывая над тем, что обаяние Лили заключается в ее раскосых китайских глазах на матово-бледном морщинистом личике, только не всякий мужчина это поймет, – сейчас встань прямо и дай ногу”, – потому что рано или поздно они поедут на Маяк и на этот случай надо знать, не сделать ли чулок подлиннее. В ту же минуту ее обожгла радостью прекрасная мысль – Уильям и Лили поженятся, и, улыбнувшись, она взяла пестрый шерстяной чулок с перекрещенными в его горловине спицами и примерила его по ноге Джеймса. “Милый, стой спокойно”, – одернула она Джеймса, который переминался с ноги на ногу, ревнуя ее к сынишке смотрителя Маяка и недовольный ролью манекена; если он все время вертится, то как, скажи на милость, она поймет, длинен чулок или короток». Каково? – Анна Вадимовна оглядела гостей с победоносным чувством превосходства, как будто она сама это написала.
– Да, неплохо, – согласился Жан-Жак, и согласился ровно наполовину, поскольку полное согласие с ней унесло бы Анну Вадимовну бог знает куда.
– «Неплохо». Превосходно! В одной фразе Джеймс ревнует к сынишке смотрителя, а миссис Рамзи не может понять, длинен чулок или короток. В одной фразе! А начало? Она обеспокоена тем, какая будет погода, и при этом раздумывает о раскосых китайских глазах Лили, умудряясь следить за тем, чтобы малыш стоял прямо. Вот вам разорванное сознание, иллюзия личности – чистый буддизм.
– Анна Вадимовна, а Есенин? – взмолился Жан-Жак из опасения, что она оседлает своего конька и тогда за ней не угонишься.
– Что Есенин?
– Вы ведь встречали его перед смертью?
– Ну встречала… в номере у него убирала. А он за столом что-то писал… кажется, даже кровью.
– А что потом?
– Что, что – сунул голову в петлю и повесился.
– А не могло быть так, что его сначала убили, а затем выдали это за самоубийство? – Жан-Жак посмотрел на Николая, задавая этот вопрос от его имени.
– Пустое. Никто его не убивал. – Она зевнула, пряча за пазуху книгу. – Извольте выпить чаю. Но перед этим потрудитесь ответить на вопрос. Я адресую его прежде всего вам, как православному. – Жан-Жак легонько толкнул Николая в бок, напоминая, что православный здесь он. – В какой из дней календаря православная церковь чтит память Сиддхартхи Гаутамы?
– Второго декабря, – ответил Николай, а Жан-Жан заулыбался, как учитель, довольный успехами ученика.
– Правильно. Второе декабря по православному календарю – день индийского царевича Иоасафа, будущего Будды. От имени Иоасаф происходит один из титулов Будды – бодхисаттва.
– Как интересно! – сказал Жан-Жак, стараясь не показать, что он слышал это уже не первый, а, наверное, десятый раз.
– А где в Москве расположен храм, посвященный будущему Будде? Ну-ка, кто мне скажет? Ах, как я завидую москвичам! В Ленинграде, правда, есть дацан, но такого храма нет и, увы, не предвидится. – Глаза ее слегка затуманились. – Так где же? Ну-ка, кто мне скажет? Правильно, – одобрила она ответ, которого не услышала, а лишь очень хотела (жаждала) услышать. – В основании колокольни Новодевичьего монастыря, рядом с храмом Иоанна Богослова. Хорошо им там вместе – Иоанну и Иоасафу. Уж они понимают друг друга. А Сережа, – вспомнила она наконец о Есенине, – Сережа был такой славный, добрый, красивый и стихи писал во многом буддийские, но сам, увы, не буддист. А раз так, то и убивать его не за что, – сказала она, словно убивать была причина только буддистов и никого больше.
Капитолина уже четыре часа бродила по Эрмитажу и тихонько плакала, пряча глаза от других посетителей и стараясь, чтобы ее слез не высмотрели смотрительницы, бдительно и прозорливо дремавшие на стульях. Она сама не знала, отчего плачет, но ей было так хорошо, что нельзя было обойтись без слез. И Капитолина плакала без всякой на то причины, словно у нее не было другого способа выразить то состояние блаженства, отрешенности от всего и счастливой завороженности, кое ею овладело, лишь только она переступила порог Эрмитажа.
Этот порог был на самом деле ее пороком, поскольку, к стыду своему, раньше она в Эрмитаже никогда не бывала. Да и в Ленинград ее возили всего лишь однажды, пятиклассницей на школьном автобусе, пропахшем табаком и бензином, с пустыми молочными флягами, катавшимися по полу, так что приходилось постоянно зажимать нос и задирать ноги.
Возили, чтобы лучших из лучших принять в пионеры на крейсере «Аврора». Но, когда ей повязывали галстук, у Капитолины (вот несчастье!) заурчало в желудке, она нечаянно пукнула, стала красной, как малиновый сироп, и почувствовала себя самой худшей из всех – до Эрмитажа ли ей было.
Эрмитаж им все же показали, но только издали: «Вот это, дети, Эрмитаж, но мы туда не пойдем, потому что уже поздно и у нас нет времени». Больше она в Ленинграде не была, и Эрмитаж остался для нее домом-призраком, домом-идолом, домом-истуканом, маячившим где-то в недосягаемом далеке.
И хотя Капитолина – слава богу, не дурочка (но и дурочка тоже) – прекрасно знала, что Эрмитаж – один из музеев Ленинграда, он почему-то (по детской склонности выдумывать собственные слова, а невыдуманным приписывать самые фантастические значения) представлялся ей похожим на большой аквариум с прозрачными стенами или на застекленную веранду, где все предавались праздным увеселениям.
И вот теперь оказалось, что Эрмитаж не аквариум и не веранда, а анфилада залов с картинами, по которым хочется ходить и ходить, не чувствуя под собою ног и шарахаясь от смотрительниц, опасливо огибая их стороной. Ведь этих напудренных старушек специально здесь посадили для того, чтобы они следили – не за картинами, а за тем, как бы кто-нибудь из дурочек не нарушил закон земного притяжения и не улетел бы от счастья куда-нибудь за облака.
Поэтому самых ретивых старушки время от времени предостерегали многозначительным покашливанием, если они слишком близко наклонялись к картинам, или принимали по отношению к ним позу настороженного внимания, дабы дурочки, улетая, не прошибли головой потолок или не истерли до лысины паркет, шаркая по нему туда-сюда.
Капитолина их, разумеется (чур меня, чур!) ни о чем не спрашивала. Не хватало еще самой совать голову под топор. Но один разок она все же опростоволосилась и спросила: «Простите, а где тут Айвазовский?» – и смотрительница воззрела на нее такими ужасными глазами, что Капитолина от смущения готова была окаменеть, превратиться в мумию или сквозь землю провалиться. «Девушка, это вам не Третьяковка!» – возмущенно рыкнула она, словно более жутких мест, чем Третьяковка, не было на свете.
Словом, Айвазовского в Эрмитаже она так и не обнаружила, хотя, не поверив смотрительнице, долго пыталась его отыскать. Зато остальные картины заворожили ее настолько, что Капитолина могла подолгу их разглядывать, то приближаясь, то отдаляясь, заходя с разных сторон, поворачиваясь спиной и даже затылком улавливая исходящие от них покалывающие токи.
Ей казалось, что каждая из них – чудесное окошко в другой мир, где люди иначе выглядят, иначе одеты, по-другому себя ведут и, наверное, думают иначе. И Капитолине нравилось сопоставлять себя с ними и вести себя так, будто она сама – картина или вписана в нее искусным художником.
– Почему-то я так и думал, что тебя здесь встречу. – Николай всегда так говорил, если ему не хотелось признаваться, что встреча с кем-то была для него полнейшей неожиданностью.
Услышав за спиной знакомый голос, Капитолина хоть и не сразу, но все же обернулась (из вежливости), поскольку вообще не оборачиваться было нельзя.
– А, это ты…
– Тоже решил приобщиться, как видишь. А ты мне совсем не удивилась.
– Чему я должна удивляться?
– Ну, я не знаю. Нашей неожиданной встрече.
– Это называется: не успели расстаться. Ну и как тебе здесь? – спросила она, чтобы не молчать и в то же время не давать ему повод слишком долго распространяться, отвечая на этот вопрос.
– Офигенно! – Он решил быть предельно кратким.
Капитолина пожала плечами, не собираясь запрещать ему говорить все, что вздумается (у нее не было на это права), но все же обозначая сомнение по поводу некоторых его выражений.
– Рада за тебя. – Она выдавила из себя кислую улыбку, чтобы хоть чем-то доказать свою радость.
Николай понял ее улыбку как надо.
– Не сердись. Я нарочно…
– Что нарочно? – Капитолина с мнительным испугом коснулась волос и тронула платье, словно опасаясь, что первой жертвой его преднамеренных – нарочитых – действий могла оказаться ее прическа или одежда.
Николай направил ее ложные опасения по другому – верному – адресу:
– Нарочно так сказал, чтобы тебя немного позлить.
– Зачем? – спросила Капитолина, словно у нее и так хватало поводов для злости.
– А затем, что Эрмитаж – это не святыня, и не надо перед ним так уж благоговеть.
– А я, по-твоему, благоговею?
– Похоже на то. Во всяком случае, мне так показалось.
– Теперь тебе только остается лишь пожелать мне: будь проще.
Николай возразил, но не сразу, а после некоторого раздумья, призванного показать, что и ей следовало бы поразмышлять над своими словами и поступками:
– Капитолина, ты и так проста, но для чего-то изображаешь из себя… А Боб в это время распространяет о тебе грязные сплетни.
– Что? Вот уж не ожидала…
– Тем не менее это печальный факт. Я сам был свидетелем.
– В тамбуре? Когда вы утром курили?
– Какая разница когда.
– Что ж ты не дал ему в морду?
– Пусть ему в морду дает Морошкин, хотя ему, пожалуй, не до этого. Морошкину надо прах умершего сына над Финским заливом развеять, как это ему завещано, да и за тобой присмотреть не помешает.
– Ах, вот оно что! Чувствую, что обсуждение моей персоны зашло слишком далеко. Когда это вы, однако, успели?
– Капитолина, я тебе не враг. Но в своих отношениях ты сама разбирайся.
– А где тут, интересно, Айвазовский висит? – спросила она, намереваясь услать Николая подальше – на поиски отсутствующего Айвазовского.
– Напрасно стараешься. Будто я не знаю, что Айвазовский висит у Третьяка.
– У какого Третьяка?
– Вратаря нашей сборной.
– А-а, ты шутишь.
– Шучу, – сказал он, словно без сказанного не было ясно, как им обоим невесело. – Ну, не буду тебе мешать. До свидания, а свидание у нас, как ты помнишь, завтра.
– Подожди. Побудь со мной. Надо многое тебе рассказать.
– Мне рассказать?
– Да, тебе. Если я сейчас не скажу, то никогда уже не скажу. Во-первых, этот Боб изрядная скотина. А во-вторых, Эрмитаж. Эрмитаж для меня – святыня, – сказала Капитолина так, как будто до этого и не было слов Николая о том, что Эрмитаж может быть чем угодно, но только не святыней.
– Мы живем на самой окраине Одинцова – там, где, в отличие от центра, нет никаких признаков города (городка, городочка), хоть и подмосковного, но все-таки не поселка и не глухой деревни. Признаков пусть даже мнимых – вроде мороженщицы с крашеным фанерным ящиком на подшипниках, который она возит по вагонам электрички, доставая из недр, заиндевевших от искусственного льда, вафельные стаканчики, эскимо, брикеты сливочного и картонные корзиночки фруктового мороженого. К фруктовому выдается еще и палочка, похожая на ту, с помощью которой врач осматривает горло пациенту, только поменьше, но с такими же закругленными концами. А вообще, фруктовое – самое дешевое, стоит всего семь копеек и даже считается полезным, поскольку обладает хотя бы цветом малины или смородины. Кроме того, его явная польза в том, что оно не такое вредное, как всякие там пломбиры, и особенно большой пломбир за сорок восемь копеек. Одолеть большой пломбир в одиночку – наверняка заболеть ангиной. А делить на части невыгодно – лучше уж купить каждому обложенный вафлями брикет за одиннадцать копеек. Все будет дешевле, чем тратиться на большой пломбир, а затем с аптекарской дотошностью вымерять каждому по кусочку, стараясь никого не обидеть. Хотя по-честному никогда не разделишь, стоит же коробке с пломбиром немного подтаять и потечь, словно большому броненосцу, получившему пробоину, лишь перемажешь пальцы и будешь потом их облизывать.
– А ты, однако, знаток советского мороженого, как я погляжу.
– Погляди, погляди. И учти при этом, что в Одинцове мороженое – единственная замена счастью, как привычка у Пушкина: «Привычка свыше нам дана – замена счастию она».
– Знаем, знаем. Пушкина, слава богу, читали. Пушкин – не Брежнев. – Николай огляделся по сторонам: не было ли свидетеля столь рискованного высказывания.
– Не обижай старика, – сказала Капитолина с грустью единственного свидетеля. – Брежнев не личность, а иллюзия, но мы еще о нем пожалеем.
– Иллюзия? Что-то и тебя на буддизм потянуло… – Николай не стал уточнять, кого из них первым потянуло на буддизм, а кто к кому присоединился впоследствии.
– Так ты меня слушаешь? – Капитолина почувствовала, что его мысли уносит куда-то в сторону.
– Слушаю, слушаю. Продолжай.
– После рейда по вагонам электрички остатки мороженого распродавались на платформе нашей станции, чтобы затем в Москве пополнить запасы. А чуть поодаль местные старушки торговали семечками, луком и редиской, раскладывая их на столах, обитых проржавевшим кровельным железом и врытых здесь с неведомой целью. Врыть-то их врыли – они же, как это часто у нас бывает при отсутствии частной собственности, оказались ненужными. Но их по русской бесхозяйственности, помноженной на плановое хозяйство, так и не вырыли из земли. И не распилили на дрова.
– Ты перечислила мнимые признаки, но есть же и настоящие?
– Есть. В центре нашего Одинцова есть шикарные магазины с витринами и вывесками.
– Шикарные, как я полагаю, по вашим меркам…
– Разумеется, и среди них – даже трехэтажный универмаг. Долгое время – пока я не побывала в Москве – он казался мне небоскребом. Ведь трехэтажных домов в Одинцове тогда не видали. Но это, повторяю, в центре. Наша же окраина выглядела совершенно иначе – как деревня с садами, огородами и бревенчатыми домиками. До определенного времени даже телевизионная антенна, установленная на крыше, была у нас редкостью, и все смотрели телевизор с помехами – сплошной рябью по всему экрану. Трудовые будни – с помехами; приемы в Кремле – с помехами; счастливая жизнь советских людей – тоже с рябью и помехами.
– В некотором роде это даже символично!
– А то! И не роптали, мирились, довольствуясь тем, что благодаря звуку и воображению можно было самому дорисовать картину происходящего – там, за рябью. А так у меня в памяти навсегда осталось, что телевизор – это рябь. У нас в семье так и говорилось: не что сегодня показывают, а о чем сегодня рябит. Сквозь эту рябь мы умудрялись смотреть и Брежнева, и Косыгина, и Смоктуновского, и Ульянова, и про войну, и про любовь.
– Ходили слухи, что Косыгин – внебрачный сын царя Николая, недаром у него отчество – Николаевич.
– Эти слухи распространяли противники его реформ во главе с самим дядей Леней – Брежневым.
– И это тоже была своего рода привычка – замена счастию?
– Конечно. Как ты верно все понимаешь! Можно установить антенну, но… вряд ли это счастье. Чтоб быть счастливым – счастливым по-советски (а как любили, а какие песни пели!), разумеется, надо, чтобы непременно рябило. Без рябинки-то и не счастье вовсе – тоска и скукотень.
– По твоим словам чувствуется, что в Одинцове скукотень была смертная. Одним мороженым и слухами счастлив не будешь.
– Вот ты и выбрал церковь, но ведь там тоже рябь.
– Еще какая! – признал Николай, но распространяться на эту тему не стал – посчитал для себя зазорным, неподобающим званию церковного прихожанина, а вместо этого спросил: – Ну а что-то светлое в твоей жизни было? Давай о светлом. Все-таки Одинцово не Магадан.
– Светлое – это лесное шоссе специального назначения (все специальное – для войны с Америкой) и ткацкие станки, которые отец делал целиком сам и только обвязку – специальные нити для станка выписывал из Швеции, а бердо – из Иванова.
– Давай уж по порядку, – сказал Николай так, что из этого невольно напрашивался вывод: при всей его тоске по порядку сам он – образец беспорядочности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?