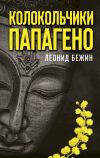Текст книги "Дневной поезд, или Все ангелы были людьми"

Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Герман Прохорович не замечал, какое прекрасное было утро в Ленинграде. Поистине июньское, ангельское, блаженное утро, с ласкающим ветерком, похожим на морской бриз, – из тех, что даже в это летнее время – время северных белых ночей – случаются редко.
Но не до ласки было Морошкину, удрученному своим горем.
Он, угрюмец, по сторонам-то и не смотрел и голову вверх не задирал. А без этого как заметишь, что солнце в небе сияет перламутром сквозь тонкую, словно папиросная бумага, слегка окрашенную розовым пелену облаков.
Оно и понятно, ведь он никогда в своей жизни не курил. Лет в шестнадцать, правда, разок попробовал. В голове помутнело, закашлялся и сразу бросил – возненавидел курение, а тем более хвастовство и бахвальство тех, кто всем напоказ (и особенно девочкам) дымит дешевой папиросой.
Поэтому какая там папиросная бумага: он ее и в руках не держал. Да и что она ему – папиросная или какая-то там еще. Ему бы опустить голову и смотреть себе под ноги – как эти самые ноги совершают свои аршинные шаги: одна, облепленная брючиной, уперлась в землю и отстала, а другую вынесло вперед, затем другая отстала, а эту вынесло.
И так шаг за шагом – до гробовой доски. Жаль, что без калош, ха-ха. Для полноты картины, знаете ли, калош не хватает. Все есть – и портфель, и капсула, и коробочка в капсуле, а вот калош не предусмотрел. Промашка вышла. А то бы с одной ноги калоша слетела, и можно было бы другой ногой ее с размаху этак пнуть, чтобы она футбольным мячом на месте завертелась.
Пнуть и при этом изречь с глубокомысленным видом, что нет ничего нового под солнцем. Вот такой уж он отчаянный футболист, гроза вратарей…
Кстати, ночью была гроза.
Герман Прохорович в то утро не знал и не хотел знать, как он все это будет делать. Знал лишь, что все это ужасно, нелепо и неправдоподобно. И старался не думать об этом, гнал от себя прочь всякие мысли и даже пускался на мелкий и дешевый самообман: вот, мол, никогда раньше на Финском заливе не был – все как-то не получалось (да и в Ленинград из Москвы редко удавалось вырваться), а теперь пришлось. И уж он воспользуется случаем, чтобы посмотреть на этот самый прекрасный залив, одно из чудес Ленинграда, полюбоваться, тем более что сын ему сказал незадолго до смерти: «Полюбуешься, подышишь морским воздухом, там ведь так красиво, а красота – везде красота».
Но обмануть себя не удавалось, и он невольно отдавался навязчивым мыслям, а заодно позволял и воображению разыграться и вопреки запрету воровски пытался представить, как отвинтит крышку капсулы, достанет коробочку, откроет крышку, а дальше?..
Дальше к горлу подкатывал ком, душили спазмы, становилось трудно дышать, и он оглядывал свои предательски дрожавшие руки, словно они принадлежали кому-то другому (может, самому Господу Богу) и старался уразуметь, что ему этими чужими руками делать – там, в катерке, когда, вспенив винтом воду, отчалят от берега.
Щепотками разбрасывать или вытрясти из коробочки, постучав для верности по донцу? Что разбрасывать? Что вытрясти? Пелеп… лепеп… – язык отказывался выговорить это слово, и он в который раз вспоминал, как у Толстого в «Анне Карениной» Алексей Александрович, потрясенный изменой жены, не мог выговорить похожее слово – пеле… пеле… перестрадал.
«Ах, как верно!» – изумлялся он гению Толстого, его прозорливости и всеведению, поскольку и сам не мог выговорить это проклятое слово – пепел.
Не пелеп, не лепеп, а пепел он будет вытрясать из коробочки. Чей? Собственного сына, который ему это и завещал – развеять его пепел над Финским заливом. И Герман Прохорович обещал – даже поклялся сыну, поскольку дело шло к тому и никаких надежд уже не оставалось (врачи бессильно разводили руками).
Получалось, что надо выполнить последнюю волю умирающего, а теперь уже умершего сына.
Сына, которого… (коего… нет, лучше все же которого) больше нет – только горстка пепла на дне коробочки. В этой коробочке жена когда-то хранила кольца, бусы, браслеты, серьги – словом, украшения, которые. (нет, лучше – для краткости – кои.) с возрастом переставала носить и берегла на черный день.
Берегла, чтобы при надобности продать или, как она говорила, снести в ломбард (уж ломбардов почти не осталось, а она все говорила и говорила).
И вот черный день наступил, но продавать ничего не надо – не понадобилось – понадобилась только сама коробочка, чтобы в нее насыпать пелеп или лепеп. Словом, он тоже пеле… пеле… перестрадал…
Смотрите-ка (это даже по-своему любопытно): у него полный разброд в мыслях, разорванное сознание, по словам сына. Разорванное, как в романах этой самой Вирджинии Вулф, которую сын всем предлагал читать для понимания, что такое у буддистов сантана – поток сознания.
Героиня думает об одном, а оказывается, что совсем о другом. Хотя и другое – лишь подмена мыслей о чем-то третьем, чего на самом деле нет, но оно тотчас появится, лишь только исчезнет другое.
Вот так и все наши мыслительные потуги: мысли рассеиваются и напрасны любые попытки собрать их вместе.
Но все-таки – хотя бы ради приличий – надо постараться. Выбрать хотя бы одну мысль и удерживать ее в сознании, не отвлекаясь, не западая на другие.
Герман Прохорович выбрал: катер. Надо добраться до того места, где будет ждать катер. Катер, катер – мысль выбрана. Как лучше добраться до катера, он намеренно ни у кого не спрашивал, хотя не раз мог бы осведомиться у любого прохожего, как он осведомлялся в Лондоне, куда его однажды послали: «Вы не скажете, как лучше добраться до Трафальгарской площади?»
При чем здесь Трафальгарская площадь? А при том, что мысли у него все же путаются, словно нитки при вязании. Сам он никогда не вязал (так же, как и не курил), но по логике вещей – убийственной логике – нитки должны путаться.
Поэтому лучше не спрашивать, а идти самому. Молча и упорно. Между прочим, во времена Чехова чаще писали: итти. Зачем здесь Чехов? А затем, что он, несчастный, умер в сорок четыре года – как и его сын.
Только сын не был несчастным, а был счастливым – с лицом сияющим, как сегодняшнее утреннее солнце (фу, какое напыщенное сравнение!).
Однако чей сын? Не Чехова же, конечно. У Чехова детей не было. Его дети – пушки и картечи, ха-ха-ха! Иными словами, повести и рассказы, романа же он так и не написал.
Поэтому идти или итти – разницы никакой. Все умирают. Человек, вообще говоря, имеет такую особенность: он смертен. Кай – человек. Значит, по неотразимой логике он умрет. И его прах развеют если не над поляной с одуванчиками, то над Финским заливом.
А уж к заливу-то ноги Германа Прохоровича как-нибудь выведут. Да и кто-нибудь подскажет дорогу, заметив, что некий прохожий (в данном случае сам Герман Прохорович) потерялся, растерянно озирается по сторонам, ищет правильный Восьмеричный путь.
Путь Будды, который сын в конце концов обрел. И его, как обретшего, отозвали, призвали, к нему воззвали – сколько слов и все в рифму!
…Однако ленинградцы все неисправимые чудаки: любят подсказывать, показывать, рассказывать (снова в рифму), подробно и обстоятельно. Главное – добраться до Васильевского острова, а там воспользоваться одним из видов городского транспорта.
Воспользоваться… одним из видов… боже, как мы засоряем и оскверняем русский язык! Какие мы, в сущности, дикари и варвары! Варварами римляне называли германцев за их язык: бар-бар.
Впрочем, при чем здесь германцы?..
Как правильно поступил Герман Прохорович, что не стал говорить хозяину катера, что он намерен делать. Пускай думает, что он хочет просто прокатиться на его катерке по Финскому заливу – безобидное занятие, этакая, знаете ли, лафа, как любят говорить студенты. Не надо его посвящать, а то ведь ему, пожалуй, и дурно станет, не по себе: человек посторонний, даже не знакомый, а знакомый каких-то знакомых.
Те оказали любезность, попросили, договорились. Тот согласился и не стал заламывать цену – взял по-божески.
После всего этого надо с ним рассчитаться, тем более что Герман Прохорович, как уже сказано, не стал его ставить в известность. Да и как скажешь, какие подберешь слова? «Я собираюсь с вашего катера развеять по ветру прах умершего сына».
Так ему, пожалуй, не то что дурно – жутко станет; его пот прошибет и нервная икота одолеет, хозяина катера, тем более что он, похоже, по натуре истерик (не путать с историком). Такие лысоватые, с клоками седины на висках и невыбритой щетиной по всему подбородку – все историки (тьфу ты, оговорился: истерики, конечно).
Хозяин катера не исключение. Наверняка бывает непредсказуем. Да и знакомые намекали – предупреждали, что иногда… словом, у каждого свои причуды. Один прозрачен, как стеклышко, другой же темен и непредсказуем.
Поэтому пусть ведет свой катер и не оборачивается, что там у него за спиной делает Герман Прохорович. Мало ли что! К примеру, готовит к установке в фарватере глубоководную мину. Или отвинчивает крышку капсулы и достает коробочку… Мало ли зачем. Это никого не касается.
Кай смертен, а у смерти свои законы и свои ритуалы. К тому же у каждого свое дело, и ему лучше не мешать и не вмешиваться.
Ага, вот и катер у причала. Покачивается на волнах. Позванивает цепью. Именно такой, как ему описывали, – двухцветный, сверху выкрашен в синее (небесная синева), а понизу желтый, монашеского цвета. Сын Прохор такие цвета бы одобрил. Он всегда придавал значение цветам и числам. В номере катера должна быть девятка.
Ну-ка, ну-ка, посмотрим, приглядимся… Так оно и есть: 379-й. По всем признакам совпадает.
Хозяин издали машет рукой – тоже его узнал, подзывает. Укоризненно постукивает пальцем по циферблату часов: мол, опаздываешь, приятель. Но кто это у него в катере? Сидит рядом с ним, закутавшись в плащ? Спина прямая, капюшон надвинут на голову, лица не различишь. Лицо словно размыто, затемнено капюшоном. Таинственный незнакомец.
В руках черные бусинки, нанизанные на нитку и похожие на четки. Кавказец? Это они, великие молитвенники (особенно по части шашлыков), любят пофорсить, пофасонить, перебирая четки…
Герман Прохорович подумал с досадой: вот это лишнее, так не договаривались. Он не любил такие сюрпризы. Герман Прохорович и в такси никогда не садился, если там уже кто-то был. Пусть даже на переднем сиденье, рядом с шофером.
Не то чтобы побаивался и опасался, но как-то неприятно. Такси не трамвай, чтобы платить по счетчику, приплачивать сверху на чай и при этом терпеть рядом еще каких-то пассажиров. А тут катер зафрахтован по такому скорбному поводу, не допускающему присутствия посторонних…
К тому же рядом с катером так же покачивается на волнах моторная лодка, а в ней – команда из четырех молодцов. Они-то откуда взялись? С неба, что ли, упали? Тоже в плащах, без лиц, одни силуэты. Похоже, сопровождают незнакомца.
Сицилийская мафия.
Нет-нет, извините, так не пойдет. Как бы им это вежливо и доходчиво втолковать?
Объяснить, чтобы не обидеть и в то же время не поступиться собственными интересами? В конце концов, он не мальчик, коего взрослые взяли с собой на рыбалку. Он зафрахтовал катер для собственных нужд, для своих целей.
Герман Прохорович, поймав наконец блуждающий взгляд хозяина (тот все озирался по сторонам – не свалится ли с неба еще какой-нибудь подарок), издали развел руками, пожал плечами и изобразил на лице недоумение. Хозяин должен был уразуметь по этим жестам, что Герман Прохорович не сядет в катер, если там уже сидят. И никаких денег тот не получит – пусть не рассчитывает.
Андрей Ефимович (так звали хозяина) всполошился. Покряхтывая, он выбрался из катера и, прихрамывая на отсиженную ногу, заковылял к нему – выяснять отношения.
Стал смущенно сопеть, хрипеть, булькать простуженным носом, утираться рукавом. Долго не мог ничего путного выговорить – только помыкивал, отсылая рукой туда, в сторону, где неподвижно сидел незнакомец.
Наконец – сквозь сопение и хрипы – заговорил. Заговорил доверительно – по отношению к Герману Прохоровичу и с суеверным страхом и почтением – по отношению к незнакомцу, коего упоминал даже не прямо, а косвенно, в третьем лице:
– Вас… вас поджидают. Сказали, что им надо встретиться с вами… Серьезный дядя.
– Откуда он взялся?
– Сам не знаю. Я к воде-то наклонился, чтобы сполоснуть канистру. Ну, минут пять набирал воды, взбалтывал, споласкивал. Выпрямляюсь – он сидит. Это ж надо было по сходням добраться до катера, ступить в него так, чтобы катер не раскачало. И сесть осторожно рядом со мной, чтобы я не почувствовал.
– Кто это? С Кавказа? Грузин? Армянин?
– Не ведаю. Зря говорить не буду.
– По-русски знает?
– Ну а как же еще? По-другому я бы не понял. По-русски, по-русски, но с акцентом. Видать, иностранец.
– Знаете что, Андрей Ефимович, ищите мне другой катер. Я с иностранцем не поеду. Задаток оставьте себе. И на этом простимся.
Хозяин задумался и решил, что его не устраивает такая перспектива.
– Подождите. Погодьте. Ведь он же вас по имени назвал: «Мне нужен Герман Прохорович». Значит, знакомый ваш. Иначе стал бы он называть вас по имени.
– Хорошо, я спрошу у него, откуда он меня знает. Но все равно с ним не поеду.
– Воля ваша. Но где прикажете вам другой катер искать?
– Это меня не волнует. Подвели вы меня. Поэтому ищите где хотите. Мне все равно.
Андрей Ефимович смекнул про себя, что ему – в отличие от строптивого пассажира – вовсе не все равно, как обернется дело. И решил повиниться, извиниться и тем самым пассажира задобрить и вновь к себе расположить.
– Я, конечно, извиняюсь. Но вы все-таки поинтересуйтесь. Мужчина солидный, представительный, себя уважает – такой просто так в чужой катер не полезет. А то, что с Кавказа… нет, непохоже. Уж их-то я знаю. Те, которые с Кавказа, черные, а это лицом весь – желт.
Андрей Ефимович предусмотрительно – с умыслом – задержался на берегу. Он походил, поплевал в воду; стянув кепку, погрел на солнце плешивую голову, подышал морским бризом, устремил взгляд куда-то вдаль, тем самым уступая дорогу смелым, первопроходцам – тем, кому назначено вершить большие дела, а себе отводя скромную, второстепенную роль (ролишку) того, кто на подхвате, подручного – старшины при важном милицейском чине.
Но раз уж ты чин, то уж будь любезен, соответствуй, выясняй, что тебе надобно. Опрашивай всяких сомнительных личностей, неведомыми путями пробравшихся на катер.
А Андрей Ефимович, хоть он и хозяин сего транспортного средства, тут, на бережку постоит, посмотрит да послушает, как у них пойдет разговор и что из этого выйдет. Иными словами (иные слова всегда на пользу, лишь бы смысл оставался тем же самым), кто при этом одержит верх, а кого опустят, как в камере уголовники опускают новичков или на армейской службе деды берут верх над неопытными новобранцами.
Морошкин, хотя и в чины не лез, посчитал нужным свой долг выполнить и поинтересоваться, что это за непрошеный попутчик у него выискался. Он по прогибающимся, поскрипывающим, пружинящим сходням дошел до катера, стараясь не оступиться и не глядеть в воду, чтобы не закружилась голова (с трудом переносил любую, даже самую малую высоту). Затем ступил на корму, поскользнулся (скользкие подошвы), взмахнул руками, но все-таки удержал равновесие и неловко спрыгнул на дно катера.
С соседней лодки за ним следили и даже ободряюще зааплодировали его успешному прыжку, что Герману Прохоровичу совсем не понравилось. Он понял, что находится под пристальным наблюдением. Незнакомец все это время с доброжелательным участием и некоторым удивлением смотрел на него.
Герман Прохорович первым делом назвал себя, не забыл упомянуть свое профессорское звание и учтиво осведомился:
– Виноват, с кем имею честь? И чем могу быть полезен?
Незнакомец встал, откинул капюшон, поклонился, сложив перед собой ладони, и скромно ответил:
– Далай-лама Четырнадцатый Тензин Гьяцо.
Морошкин сначала не поверил, принял это за шутку, посчитал, что его разыгрывают.
– Простите, кто вы? – переспросил он, рассчитывая, что шутник опомнится, устыдится и назовет свое настоящее имя.
Но тот расстегнул верхнюю пуговицу плаща, из-под которого показалось шафранового цвета одеяние, и терпеливо повторил:
– Далай-лама Четырнадцатый. Мое имя – Тензин Гьяцо. Вы должны меня знать. Мы ехали с вами в одном поезде.
– Ах, в одном поезде! Ну конечно, конечно, я вас знаю, – заверил Герман Прохорович, хотя в голове у него все настолько смешалось, что он с таким же успехом мог бы утверждать обратное: не знаю, не слышал, впервые вижу. – Вы у нас в Союзе, кажется, с официальным визитом.
– Вообще-то, с официальным, но здесь, в Ленинграде, скорее с полуофициальным, – поправил его незнакомец. – А вернее, с частным. Во всяком случае, тут я как частное лицо – любуюсь красотами Ленинграда, бывшего Санкт-Петербурга.
– Между прочим, в Питере есть буддийский храм, спроектированный архитектором Барановским, – заикнулся было Герман Прохорович, но тотчас прикусил язык, вспомнив о том, какие этот храм и буддийскую общину, опекавшую его, постигли гонения.
– Мы на Тибете и в Индии об этом знаем. Знаем и скорбим.
– М-да… – Морошкин смутился, скривился и прикусил губу из-за того, что заехал явно не туда.
– Не печальтесь слишком, мой друг. – Далай-лама впервые назвал его другом. – Вселенные рушатся – что там храм!.. К тому же в вашей стране тогда вершилось дело великого очищения, а это всегда и триумф, и трагедия, и истина, и заблуждение, и реальность, и миф. Вы не согласны?
– Как много всего вы перечислили. По поводу трагедии готов с вами согласиться, а по поводу остального.
– Вы забываете, что не люди творят революции, а революции сами выбирают своих творцов.
– Да, но какой ценой…
– Цена всему одна – накопленная в прошлых жизнях карма. Уж кто-кто, а вы должны это знать.
Андрей Ефимович на берегу надсадно забухал сухим, лающим кашлем. Оба приумолкли, обернувшись в его сторону.
– Что с вами, почтенный? – спросил Далай-лама, явно стараясь не изменить своей обычной доброжелательности и не поддаться неприязни.
– Извиняюсь, простыл. – Хозяин катера для убедительности еще раз хрипло кашлянул и похлопал себя по карманам, где на этот раз не оказалось привычного лечебного средства. – Четвертинку-то я и не захватил, раззява…
– Я вас вылечу, – внушительно пообещал Тензин Гьяцо, ставя невысказанным, но подразумеваемым условием излечения, чтобы хозяин в их присутствии меньше говорил и больше помалкивал. – Однако не пора ли нам?..
– Видите ли… – Герман Прохорович попытался возразить, но не знал, как и с чего начать, чтобы не показаться невежливым. – Есть одно деликатное обстоятельство…
Далай-лама не позволил ему договорить и вместо этого сказал сам:
– Возражения не принимаются. Я знаю, на какое обстоятельство вы намекаете и какая на вас возложена миссия. Но со своей стороны обязан заметить, что я уполномочен присутствовать при совершении сей церемонии. Откровенно говоря, это – одна из целей моего визита в Ленинград и мой священный долг, как исповедующего Дхарму верующего буддиста.
– Цель вашего визита?.. Вам известна последняя воля моего сына? – со страхом перед чем-то неведомым и таинственным спросил Герман Прохорович.
Тензин Гьяцо со значением промолчал, побуждая собеседника самому ответить на свой вопрос.
– Подождите, подождите, вы не ошиблись? – забеспокоился Морошкин. – Моего сына звали Прохор…
– Нет, прошу меня извинить, но у вашего сына другое имя.
– Уф! – У Морошкина отлегло. – Все-таки это ошибка. Там, на платформе, перед отправлением поезда я не успел об этом сказать вашим людям. Конечно, ошибка. Мой сын – самый обыкновенный молодой человек, каких в Москве и Ленинграде очень много. Хотя он и увлекался… буддизмом, и я отдаю дань его увлечению, поскольку сам читаю лекции и все прочее, но уверяю вас, самый обыкновенный…
Далай-лама выслушал его не перебивая и сказал:
– Ваш сын – великий бодхисаттва. Его истинное имя я вам открыть не могу, поскольку пока это тайна, не подлежащая огласке. Но во всех мирах нашей вселенной – среди блаженных богов, глубоко верующих людей, животных, голодных духов и даже обитателей ада – вашего сына чтут и ему поклоняются.
– Вот уж не знал, не ведал, даже не догадывался. – Морошкин совсем растерялся.
– Так я завожу? – несколько заискивающе спросил Андрей Ефимович, усаживаясь за руль и усиленно делая вид, что разговор двоих пассажиров не имеет к нему ни малейшего отношения.
– Заводите, любезнейший, заводите, – как власть имеющий, произнес Его Святейшество Далай-лама, а Герман Прохорович робко улыбнулся, словно ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться этой непререкаемой власти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?