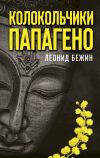Текст книги "Дневной поезд, или Все ангелы были людьми"

Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Хорошо, – согласилась Капитолина так, словно это давало ей право впоследствии с чем-то и не согласиться. – В таком случае сначала лесное шоссе. Оно начинается прямо от нашего дома, проложенное, как я полагаю, для того, чтобы подвозить грузы к воинской части. Отличное шоссе, с толстым слоем асфальта, укатанное, без трещин и ям. Мы его в детстве так и называли: Военное шоссе, и в этом было что-то таинственное, загадочное – дыхание некоей тайны. Мы даже придумали, что на заасфальтированную полосу этого шоссе нельзя ступать, иначе что-нибудь шевельнется, сдвинется, дрогнет, из-под земли вырвется ракета и поразит Америку, разнесет ее в пух и прах. Поэтому мы всегда шли по обочине – рядом с шоссе, спасая Америку от немедленного уничтожения.
– Вы истинные дети глобального противостояния.
– Ты совершенно прав. Вообще мы были дети великого противостояния двух сверхдержав – СССР и Америки. Нам всюду чудились подземные шахты с ракетами, нацеленными на страны НАТО, а уж что такое НАТО, мы знали прекрасно, не хуже лектора по современной международной политической обстановке, выступавшего в клубе.
– Ну а станки?
– Станки, сделанные моим отцом, его собственными руками, – это чудесный, заповедный, сказочный мир моего детства. Для них отвели самую большую и светлую комнату в доме. Вернее, большой и светлой она стала после того, как отец расширил узкие избяные оконца и превратил ее в студию художника, но вместо мольбертов там стояли его станки. Отец одновременно работал над двумя или тремя станками. Один из них он, по его словам, доводил, другой закладывал, третий опробовал. У Тургенева где-то сказано об одном из героев: фамилия у него была немецкая, но он был коренной русак. Вот и отец мой такой же русский с фамилией Вагнер (эта фамилия досталась и мне, хотя мама у меня Хворостухина). Фамилия обязывала отца хотя бы немного знать музыку своего немецкого однофамильца, и, запуская станок, он всегда говорил: «Ну а сейчас послушаем “Полет валькирий”». Его любимыми поэтами были, как ни странно, Тредиаковский и Мандельштам. Из Тредиаковского он многое знал наизусть, а из Мандельштама особенно охотно повторял:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вдох.
И он приходил, этот вдох, и отец радовался, словно дитя, восклицал: «Ах, до чего же верно! Как точно!» – и мизинцем смахивал с глаз слезу: Мандельштам его всегда умилял. И это появление ткани, эти станки… отец не просто был любитель их изготовления – любитель со своей причудой и блажью. Нет, для него в этом была заложена… не знаю, как назвать…
– Философия? – подсказал Николай.
– Отчасти философия, отчасти религия, отчасти некая созидательная программа – программа освоения мирного космоса, как он ее называл. В этом заключался парадокс: наше Военное шоссе, подземные шахты с ракетами, а отец… он ведь воевал… и на войне убивал… и хоронил убитых немцев, дома же, вернувшись, стал мастерить станки – как символ мирного созидания. И космос для него – тот же Вагнер…
– Отец твой философ, однако.
– И философ, и мечтатель, и энтузиаст, недаром так любил в Москве шоссе Энтузиастов.
– Это же, прости меня, официоз… – Николай изобразил нечто вроде презрения по отношению к официозу.
– Официоз, может быть, для тебя, а у отца здесь заложена некая нравственная услада. «Это не ваше Военное шоссе… Вот что надо любить и чем гордиться – энтузиазмом», – говорил он, когда мы, гурьбой набившись в дом, радовались очередной нашей победе над Америкой. Так мы и жили – под шум станков, стихи Тредиаковского и Мандельштама. Между прочим, все, что я носила, было сшито мамой из тканей отца. Из одежды мы почти ничего не покупали.
– Даже в шикарном трехэтажном универмаге?
– Даже в универмаге.
– А позволь поинтересоваться: лапотки из лыка отец тебе часом не плел?
– Напрасно смеешься. Лапотки не плел, но мои платья по всему Одинцову считались самыми модными – в том числе и подвенечное.
– Так тебе и такое сшили? Ты, оказывается, замуж собиралась?
– Сначала замуж, а потом – прямехонько в монастырь. Но меня вовремя отговорили…
– С этого момента, пожалуйста, как можно подробнее. – Николай поправил круглые добролюбовские очки. – За кого же ты собиралась выйти и кто тебя отговорил?
– Не много ли вопросов? Я тебе, между прочим, не задала ни одного.
– Я могу тебе все рассказать. У меня нет тайн от товарищей по партии.
– Ладно, не рассказывай. Я сегодня добрая. Лучше я сама тебе все расскажу. Только давай отойдем в сторонку, а то служительницы беспокоятся и на нас посматривают, – сказала Капитолина, хотя было очевидно, что посматривала в сторону служительниц и беспокоилась больше она сама, а те мирно дремали на стуле.
– Как уважающий себя мастер по изготовлению станков, отец обменивался корреспонденцией (иначе как корреспонденцией он эти письма не называл) со Швецией, откуда выписывал обвязку, а заодно и похваливал шведов за то, что те держат марку и не халтурят. Этой корреспонденцией отец особо гордился и в разговорах всегда об этом упоминал. Послания – и с русского, и на русский – ему переводил знакомый Мышкин, но не князь, а одинцовский чудак и полиглот-самоучка. Уж не знаю, насколько были верны его переводы (я всегда подозревала в них обилие самых невероятных ошибок и фантастических домыслов), но переписка держалась, иногда, правда, замирала, но потом возобновлялась, и даже с некоторым пылом и полемическим азартом. Во всяком случае, отец не упускал повода напомнить шведам о Полтаве, и эти места одинцовский чудак переводил с особым патриотическим рвением.
Переписывался отец и с Ивановом, где покупал бердо. Раза два-три за год к нам оттуда приходили письма, не только деловые, со скучным перечислением технических подробностей, но и интересные, даже захватывающие – с красочным описанием ивановских пейзажей, лунных ночей, местных обычаев и всяких курьезных случаев. До рождения двухголового теленка дело, правда, не доходило, но автор письма отваживался оспаривать самого Пушкина, утверждая, что русалка на ветвях не сидит, а плавает в воде, причем совершенно голая, облепленная тиной и с распущенными волосами. Перед тем как на это ответить, отец долго высматривал ночью русалку в одном из глиняных карьеров между Одинцовом и дачным поселком «Дубки». Но одолела его дремота, веки у него отяжелели, стали слипаться, отец уткнулся носом в замшелую кочку и проспал до утра.
Увидеть русалку ему так и не пришлось. И кто прав в споре – Пушкин или его ивановский придира, – ему не открылось. Наверное, эти русалки – перед тем как спуститься с деревьев или показать свою пленительную наготу из воды – наводят сон на нескромных наблюдателей.
Но однажды отец поведал нам, чтоб мы к лету ждали гостей – сначала из Иванова, а потом и из Швеции. «Из Швеции-то зачем к нам прибудут?» – спросили мы, не совсем понимая, что он там затеял. «Из Швеции-то? А затем, чтобы взять реванш за Полтаву», – усмехнулся отец, и мы стали затачивать сабли, чистить ружья, а главное, лить пули – рассказывать соседям, как мы будем защищать Полтаву от шведского нашествия.
И вот прибыл первый гость – Русалочник, как я его прозвала. Он был тихий, скромный, расчесанный на прямой пробор, даже несколько прилизанный и при этом – улыбчивый, во все проникновенно влюбленный: даже сорвав ягоду с куста, не мог не умилиться и не поблагодарить Бога за столь чудесный дар. Он прекрасно разбирался в ткацких станках. Видел и слышал их насквозь – мог по шуму распознать любую поломку и с ходу устранить ее, и все с улыбочкой, умилением в глазах, без особого напряжения, а так… словно само собой.
Отец лишь диву давался и был ему очень благодарен, поскольку станки у него часто ломались, а он не знал, где порча и с какого боку к ней подойти. Звали моего Русалочника Вениамин Георгиевич. Мы с ним часто сидели в уединенном уголке сада, за бочками, где грелась под солнцем вода для полива, и подолгу беседовали. Он мне признался, что по вере своей – евангелист, готовится в проповедники. И стал читать мне Евангелие, а знал он его почти наизусть, как арабы знают Коран.
Причем к написанному был взыскателен и придирчив до каждой мелочи (говорил, что мелочей в Евангелии нет) и от меня добивался, чтобы я все понимала. Требовал точности и разумения, как школьный учитель математики, и не прощал ошибок, внушая мне, что ошибка – грех.
И это понимание (разумение) было для меня так сладостно, что я влюбилась – и в Евангелие, и в Вениамина Георгиевича. Поскольку же признаться ему в этом не могла, а если бы и смогла, то все равно никогда бы себе не позволила (боялась испортить ему карьеру, хотя он был не карьерист, а ревнитель – ревнитель по Бозе), то решила… на что решаются девушки от безнадежной любви?
– Уйти в Байкало-Амурский монастырь – сокращенно БАМ, – не без глубокомысленного лукавства ответствовал Николай.
– Эка куда хватил! Мне что-нибудь попроще – обычный бабий монастырек…
– Где?
– Ну, где-нибудь в тмутаракани… А лучше всего на Тибете, чтоб меня там никто не нашел. Я даже упросила отца выткать на станке самую грубую желтую ткань, чтобы завертываться в нее наподобие тибетских монахинь. Красовалась в ней перед зеркалом, любуясь тем, как она выгодно подчеркивает очертания груди и бедер. Словом, и в этом была франтиха и кокетка. Затем стала приучать себя к грубой, невкусной и противной пище – овощам с грядки (я их терпеть не могла) и тибетской каше из гречневой, кукурузной, овсяной и манной крупы, грецких орехов, постного масла и чего-то там еще – сейчас и не вспомню. Но грубость обернулась изысканностью, поскольку… все грубое надо было именно где-то изыскивать, раздобывать и доставать. Тогда я сшила себе из холстины заплечный мешок, тайком от матери насушила сухарей и собралась бежать в Тибет. Но тут приехал гость из Швеции. Натуральный, знаешь ли, швед. И швед, и швец, поскольку в станках он тоже кое-что смыслил и разбирался. Станки-то, в сущности, везде одинаковые и, несмотря на всякие усовершенствования, со временем ничуть не изменились. Вот и он, этот наш гость, – белокурый, голубоглазый, со шкиперской бородкой, в берете сушильщика рыбы – тоже был одинаковый, похожий на своих предков, то ли промысловиков, то ли ткачей. К тому же прекрасно говорил по-русски. И не просто по-русски, но – по словарю Даля, такого же скандинава, как и он сам: я, дуреха, многих слов-то и не понимала. И мы с ним подружились, тем более что Вениамин Георгиевич к тому времени внезапно пропал, исчез, вернулся к своим ткачихам в Иваново.
– Почему к ткачихам?
– Позднее выяснилось, что были у него там преданные душой и телом слушательницы его сладких проповедей – ткачихи-евангелистки… Но сие не суть важно. Повадились мы с моим шведом – а его звали Александр – посиживать на той же скамейке, за бочками для согрева воды. Я стала его расспрашивать, что он слышал (или читал, или, может быть, даже сподобился там побывать) о Тибете. Он ответил, что бывал на Тибете с компанией отчаянных бродяг и смельчаков, хиппи и альпинистов. Но вот мне – поскольку я домоседка и такая же отчаянная трусиха – сушить сухари и завертываться перед зеркалом в грубую ткань (как он о ней узнал – загадка) еще рановато. Я ему все рассказала о своей несчастной любви и спросила, в какой же мне монастырь податься. И Александр, надвинув берет на свои голубые глаза и пощипывая шкиперскую бородку, ответил: «У тебя сейчас один монастырь – Эрмитаж. Тебе надо в Эрмитаже пройти послушание, а там видно будет».
– Послушание в Эрмитаже – это что-то новое. Кого же там слушать – экскурсоводов?
– А хотя бы и их. Среди экскурсоводов тоже есть знающие…
– И что же дальше?
– Хотя Эрмитаж от нас ближе, чем Тибет, я собиралась туда лет десять, если не больше. Как-то мне было странно, что меня там ждет послушание. Но все-таки, как видишь, собралась.
– А этот твой Александр? Что стало с ним?
– После нашего разговора за бочками он тоже как-то незаметно исчез. А вскоре, тем же летом, появился у нас другой швед, рыжий, красный, с животиком, ни слова по-русски, зовут Йохансон. Пришлось звать Мышкина, чтобы тот переводил. Выяснилось, что Йохансон – посланник фирмы, которая с нами сотрудничает. Так сказать, друг по переписке, хотя никакой дружбы у нас с ним не возникло.
– А кто же тогда этот твой Александр? – спросил Николай, все права на Александра оставляя за Капитолиной, лишь бы услышать ее ответ на свой вопрос.
Но Капитолина вместо ответа тоже спросила:
– Вот и я думаю: кто?
– Наверное, капитан Немо, – глубокомысленно изрек Николай, чье глубокомыслие было взлелеяно пытливым чтением отцов церкви и романов Жюля Верна.
– Карты! – воскликнул Боб, обходя вновь обретенную квартиру, заглядывая в углы и беря со стола запылившуюся колоду карт. – Кто-то оставил на столе карты. Значит, здесь тоже играли, как когда-то у нас на даче, под орешником. Самовар, плетеные стулья… Славное было время!
– «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди», – поддержала его элегическое настроение жена, тоже обходившая, заглядывавшая, но в руки ничего не бравшая из-за налета пыли.
– При чем тут Ленин? Он же не картежник, а шахматист.
– А при том, что он Россию в карты проиграл.
– Он же не картежник, а шах-ма-тист. Шахматист! – громче и внятнее, с отчетливым выговором, призванным вбить в голову жены сказанное, как вбивают ударами молотка гвоздь, повторил Боб.
– Ну не в карты, так в шахматы. – Жанна подавила зевок и просияла улыбкой, показывая, что она не из тех, в кого вбивают гвозди. – Политика, мой дорогой, – это те же шахматы и есть.
– Может быть, в дурачка? – Боб перетасовал колоду, сел на стул и почувствовал, что задом к чему-то приклеился.
Попытался привстать и снова сел, чтобы не вставать вместе со стулом.
– Ты и так дурачок. Это ясно без игры. – Жанна хмыкнула и отвернулась.
– Почему это я дурачок? – спросил он, пытаясь отлепить свой зад от стула.
– …Вишневый сок? – спросила Жанна, с интересом наблюдая за его попытками. – Или, может быть, кровь? – Она сделала ужасные глаза.
– Кровь, кровь, – успокоил ее Боб. – Так почему я все-таки дурачок?
– Потому что пасешься у гостиниц, где живут иностранцы, и к тебе вечно липнет всякая дрянь.
Он выпрямился на стуле, чтобы изречь то, что нельзя было изрекать, ссутулившись и согнувшись:
– Я лотос, который растет из тины, а сам остается чистым.
– Он лотос! Он лотос! Ой, держите меня! – Она по-бабьи всплеснула руками. – Сказал бы лучше – ненюфар!
– С меня и лотоса хватит. По Морошкину, лотос – буддийский символ. – Боб сослался на Германа Прохоровича, стесняясь от своего имени произносить подобную глупость.
– Молчал бы лучше, – урезонила жена, только неизвестно кого – мужа или Морошкина. – В буддизме ты ничего не петришь. – Оказалось, что все-таки мужа. – Ленинград же, мой сладкий, – город буддийский. Вот он-то лотос и есть – хотя бы потому, что вырос из чухонских болот.
Жанна не ожидала от себя столь умной мысли и поэтому прониклась к себе уважением.
– Все помешались на этом буддизме. Ленинград – город маленький, но чтобы он был буддийским – я такого не слышал.
Боб нахмурился из-за того, что жена оказалась умнее его. Жанне оставалось лишь развивать свой успех.
– А Морошкин разве не буддист? А Далай-лама, с которым мы ехали в поезде? Не зря же он в Ленинград пожаловал.
Боб почувствовал, что жена побила все его козыри. Поскольку в запасе козырей не оставалось, он предпочел сделать вид, будто ему наскучила эта пустая перепалка.
– Ладно, замнем для ясности. Как тебе наша новая обитель?
– Конфетка! Высокие потолки, лепнина, эркеры, окна на канал Грибоедова. Только пыли много накопилось. Видно, давно здесь никто не жил. – Жанна тряхнула занавеской, и с нее поднялось пыльное облако, повисело в воздухе и медленно осело на паркет.
– Старый Ленинград, центр, архитектура. В центре много таких квартир. – Боб наконец отодрал штаны, прилипшие к стулу.
– К твоему сведению, в центре вообще не живут, а доживают, а потом умирают. Из таких обителей выносят гробы с трупами и грузят в катафалки.
– Ну и юмор у тебя, мать! Черный!
– А я сама, может быть, черная. Но при этом, заметь, чертовски привлекательная.
Боб стал потягиваться, зевать и тереть глаза.
– Знаешь, давай немного соснем, а то я в поезде не выспался. Нам же еще целый день оформлять бумаги…
– Ну вот, получил новую хату – и спать. Лучше расскажи, откуда у тебя такое знакомство?
– С кем?
– Ну с мужиком, который задарма завещал нам квартиру.
– Давай покемарим, а потом расскажу.
– Да здесь и спать не на чем. Всего одна кровать, да и то без матраса, пружины торчат, как будто последней на ней спала императрица Екатерина.
– Ничего, и на одной поместимся. Ты с краю, а я сбоку.
– Шутник ты, однако. Но ты все-таки скажи.
Боб, шаркая ботинками с развязанными шнурками (развязал, как только вошли), поплелся к кровати.
– …Не задарма, а я выиграл у него в карты. – Он вновь зевнул и потянулся.
Это был совершенно новый для Жанны поворот (по-воротец) сюжета.
– Врешь! Что ж ты мне не рассказывал!
– Не рассказывал, поскольку все это было как во сне, – лениво отозвался Боб, укладываясь на пыльную кровать и утопая в облаке поднявшейся пыли. – А может, этого вообще не было.
– А что же было?
– А было то, что мы получили это письмо.
– Но письмо же от неизвестного.
– Он неизвестным так и остался.
– Ладно, дрыхни. Но через час я тебя разбужу, и ты мне все подробно расскажешь.
– Угу, угу, – пробурчал Боб, соглашаясь на все, лишь бы ему дали поспать.
– Фарца – это не только способ заработать, но и такой же образ жизни, способ себя подать, запечатлеть в сознании окружающих – словом, такая же экзистенция, как и некогда рок-н-ролл.
– Ишь, какое словцо подцепил, экзистенциалист, – буркнула Жанна, но при этом улыбнулась мужу так, словно он мог услышать от нее только приятное.
Он был согласен слышать и не замечать, лишь бы она ему не мешала.
– Собственно, фарца – тоже танец, «вертись-крутись», только крутиться приходится на большем пространстве, преимущественно центровом, поскольку фарцевать по окраинам, по глухим углам – себя не уважать, а унижать. Унижать и себя, и Россию перед Европой. А мы ведь тоже патриоты – сродни тем уголовникам, кои гнобят и обкрадывают политических за то, что те Родину не любят. Во всяком случае, у нас собственная гордость, и на буржуев (по Гайдару, буржуинов) смотрим свысока. Хотя с показным раболепием и унижаемся, заискиваем, ловчим перед ними, закручиваемся винтом и стелемся ковровой дорожкой. Но все это из смирения, что паче гордости, поскольку если нас откуда и вышибали, то не из Оксфордов и Кембриджей, а из советских школ и институтов, я тому наглядный пример.
– Ты у нас философ по части всякой придури…
– Благодарю, но я продолжу.
– Только короче, потому как я… сам понимаешь, немного в курсе.
– Хорошо, постараюсь. Нас иногда называют подонками, отбросами общества – иными словами, всячески мажут грязью. Но среди нас были и университетские интеллектуалы, профессорские сынки, и богема – дети избранников муз, народных артистов и прочее, прочее. Им тоже хотелось приобщиться, и они выменивали на жвачку регалии своих родителей, и те обивали пороги милиции, умоляя их вернуть. Словом, народец у нас попадался разный. Как говорится, харизматичный и креативный.
– Что-то я таких слов не слышала…
– Еще услышишь. Весь день мы промышляли по гостиницам, выклянчивали у иностранцев сигареты, ту же самую жвачку, дурацкие значки и еще более дурацкие флажки, чтобы ими размахивать перед милицией (милиция же за нами охотилась исправно, была, можно сказать, в деле и в доле). А то и удавалось обменять наши деревянные на валюту, и тут уж мы себя чувствовали королями – ковбоями вроде того парня, что изображен на пачке «Мальборо».
– А вечером?
– Вечерами выходили на работу вы – конкурирующая фирма. Мы же собирались в престижном борделе, куда нас пропускал подкупленный за доллары швейцар, или в одном замоскворецком подвале с сырыми кирпичными стенами, сваленными дворницкими лопатами, скребками, носилками и вениками – полным набором атрибутов, позволявшим именовать себя новым московским подпольем – андерграундом. Собирались не только ради выпивки и карт. Там шел обмен и торг всем тем, чем удавалось поживиться. При этом некоторые зашибали большую деньгу – проворачивали капиталы, как на бирже. Ну а потом садились играть – при свечах, как в лучших домах Лондона (ударение на втором слоге), поскольку электричества в подвале, сама понимаешь, не было. Как маститые шулера, мы друг друга мы по-крупному не обыгрывали – так, по копеечке или вообще резались на щелбаны и битье картами по носу. Ради же выигрыша кто-нибудь приводил новичка. Его-то и не считалось зазорным обчистить.
– Это патриотично… – Жанна благосклонно кивнула, слегка прикрыв глаза.
– Не умеешь играть – не садись. И вот однажды привели к нам в подвал Орфея.
– Что-что? Ты хоть знаешь, кто такой Орфей?
– Знаю, знаю. Привели певца, исполнявшего роль Орфея в какой-то опере.
– Значит, он должен быть кастратом. Принято, чтобы Орфея пел кастрат. Мне об этом в детстве рассказывала учительница музыки, старушка-озорница, циничная и насмешливая. Именно поэтому я у нее и проучилась почти год. Мне нравилось не бренчать на пианино, а выслушивать ее колкости про разных артистов. В том числе и про кастрата Орфея. Ха-ха-ха! Ну и гостя вы себе отыскали!
– Пусть твоя циничная старушка болтает, что ей угодно, но своим обликом он был истинный Орфей, вдохновенный певец, услаждавший слух богов игрой на лире. Падающие на плечи вьющиеся локоны, серые глаза, персиковый цвет кожи, нежный овал лица, длинные и тонкие пальцы.
– И с этими локонами и пальцами вы усадили его играть?
– Так было принято. К тому же он явно был при деньгах и не особенно их считал. Пошла игра, ставки росли, и наш Орфей проигрался в пух и прах, что, впрочем, не особо его опечалило. Все, кто поживился за его счет, отвалились от стола, как пиявки, насосавшиеся крови, и остался лишь я один.
– Ты чего-то недобрал.
– Недобрал. Мы стали играть в очко. И вот тут, поскольку денег у него уже не было, Орфей поставил на кон квартиру.
– А ты что поставил?
– Тебя, – сказал он просто – так, как выразился бы о любой другой вещи.
– Как это меня? – Жанна всем своим видом позволила себе напомнить, что она все-таки не вещь, а если кому-то угодно обращаться с нею как с вещью, то ему это дорого обойдется. – К тому же меня там вообще не было.
– Не было – было, но я сказал, что буду играть на жену.
– Как же ты мог, зараза!
– Извини, конечно, но… карточный азарт.
Жанна решила перевернуть пластинку.
– Ах! Если бы ты проиграл, я бы стала умершей Эвридикой и оказалась в аду. Вот это мило!
– Я не мог проиграть и ничем не рисковал. Хотя стоило бы рискнуть ради квартиры в Ленинграде.
– Ну и каков результат?
– Как видишь, ты жива и благоденствуешь в раю.
– Эвридика жива, слава богу. – Жанна успокоилась за судьбу Эвридики, но осталось выяснить, что стало с ее возлюбленным. – Ну а он, то бишь Орфей?
– Ну – баранки гну. Проигрался и сказал, что напишет мне письмо, подтверждающее мои права на квартиру.
– Ты хоть спросил, в каком он театре поет?
– Спрашивал, не дурей тебя. Он ответил, что в этот театр билетов не достанешь.
– Даже с твоими связями?
– Даже со связями в самых высоких сферах.
– Ну а имя его ты узнал? Орфей – это, конечно, прекрасно, но хотелось бы знать имя, чтобы свечку в церкви поставить.
– То-то ты горазда ставить свечки. Имя он не назвал. Более того, когда я со смешочком поинтересовался насчет пола, имея в виду его тонкий голос и все такое, он ответил, что Орфей – это бодхисаттва, а у бодхисаттвы нет пола.
– …Бодхи… кто? – Жанне икнулось, и до конца она не выговорила.
– …Саттва, саттва, а может быть, саква или Савва. Я толком не расслышал.
– Что еще за саква? – Она испытывала брезгливое недоверие ко всем незнакомым словам.
– В кавалерии – небольшой мешок, приторачиваемый к седлу. Мне мой дед, лихой казак, рассказывал, что у каждого конника было две саквы – для сухарей и для овса.
– Ах ты мой кавалерист, лихой вояка! – Выяснив все, что нужно (а вернее, ничего толком не выяснив), Жанна прониклась к мужу нежностью, тем более что он мог еще ей пригодиться. – Выдрыхся – и хватит. Собирайся бумаги оформлять на квартиру твоего Орфея.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?