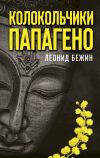Текст книги "Дневной поезд, или Все ангелы были людьми"

Автор книги: Леонид Бежин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Катер взмыл над гребнем встречной волны, круто задирая нос, и как будто даже оторвался от воды, завис на минуту в воздухе, словно Летучий голландец. Во всяком случае, Морошкину так показалось, и он даже просвистел, профыркал что-то из Вагнера – весьма приблизительное и фальшивенькое.
– Акт первый, картина третья, – сказал на это Далай-лама и повторил мотив с точностью до каждой ноты.
От удивления Морошкин покрепче ухватился за сиденье, чтобы его не сорвало с места и не вынесло за борт, как с ним однажды случилось. Он плыл тогда по Енисею на таком же катере, путешествуя дикарем, обросшим бородой, в драной штормовке и высоких, подвернутый рыбацких сапогах, – славное было время…
– Однако славное было время, – едва слышно произнес Тензин Гьяцо, не глядя на него, но при этом не скрывая, что сказанное относится к нему. – Давно изволили быть на Енисее?
– Так вы и мысли читаете. Чудеса! – воскликнул Герман Прохорович, испытывая невольное желание взяться за голову, чтобы по неким признакам распознать, все ли в ней мысли прочитаны, или осталась хотя бы одна тайная, сокровенная, непрочитанная.
– Ну какие там чудеса. Помилуйте. На Тибете мальчишки это умеют.
– Так уж и мальчишки…
– Ну те, у коих есть наставники… при монастырях.
Далай-лама сидел спокойно, как изваяние, и даже не дрогнул, хотя катер подхватило волной и слегка закружило над бездной вскипающих волн. Он лишь едва заметно улыбнулся, когда в гребешках пены задрожала солнечная радуга, слепя глаза, слезившиеся от морских брызг (не спасали даже очки).
– Мальчишки… А у нас старики на такое не способны.
Морошкин был из тех, кто любил покритиковать все свое, родимое. На этот раз Тензин Гьяцо критику поддержал:
– Вы меня простите, но у ваших стариков мышление детское. Им недоступны даже Четыре благородных истины, и среди них нет тех, кого можно было бы назвать Арья пудгала – Благородная личность. Разумеется, кроме вашего сына, но он – редчайшее исключение. Такие рождаются раз в сто лет…
– Мой сын – Арья пудгала? Признаться, вы многое сказали такого, что и мне не совсем доступно.
Далай-лама заговорил, заботясь о том, чтобы сказанное до этого было все – без исключений – понято собеседником, и понято верно.
– Я назвал вашего сына бодхисаттвой, но тут возможны еще два титула, или, если угодно, звания, близкие по значению, хотя и не во всем совпадающие с первым.
– Какие же? – спросил Морошкин, почему-то вдруг вспомнивший Капитолину Вагнер: как-то она там, в Эрмитаже, зачарованная, бродит по залам, любуется картинами?
И сама себе не верит, что попала в царство Духа, хотя, может быть, точнее сказать – царство Красоты…
– Нет, именно царство Духа. Для нее Эрмитаж – это откровение, – сказал Тензин Гьяцо, и Морошкин забеспокоился: уж не стал ли он говорить сам с собой, но вовремя вспомнил, что рядом сидит пытливый чтец его самых затаенных мыслей.
– Так какие же звания или титулы? – Он вернул Далай-ламу к начатому разговору. – Генерал-майор или генерал-лейтенант?
Далай-лама оставил без внимания его не слишком уместную шутку.
– Одно из них я уже назвал – Благородная личность, а второе – будда.
– Вы, конечно, не имеете в виду Сиддхартху Гаутаму?
– В буддизме Махаяны, Большой колесницы, и нашей тибетской Ваджраяны, Алмазной колесницы, – неисчислимое множество будд. Вам это, конечно, хорошо известно.
– Разумеется, я осведомлен. – Морошкин слегка зарозовел от приятного чувства лести.
Между тем Далай-лама продолжил:
– В некоторых сутрах даже утверждается, что к концу времен все станут буддами, а это уже чем-то напоминает ваш Апокатастасис, Возвращение всех живущих к Богу, как тому учил величайший прозорливец Ориген.
– А церковь прозорливца-то анафеме предала, хе-хе… – В Морошкине снова проснулся язвительный критик и обличитель.
– Не спешите осуждать церковь. – Далай-лама улыбнулся с едва заметной грустью. – Осуждающих много, а церковь одна.
– Помилуйте, кто ж осуждает. Я это так, к слову…
– Церкви иногда свойственно попридержать кое-какие знания, чтобы не смущать ими паству, простой народ – тем более такой детский, как ваш. В нужное же время все откроется.
– Все возвратятся к Богу как его блудные сыновья. И Маркс, и Ленин, и ренегат Каутский – все… Возвратятся, или, по-вашему, станут буддами.
– Кое-кому, правда, придется предварительно помучиться среди обитателей ада. Но итог, я полагаю, будет положительным.
– Это утешает. – Морошкин пригнул голову, чтобы от встречного ветра не слетела шляпа, возвещавшая о моде пятидесятых годов. – Но меня сейчас волнует несколько иное. Вот вы назвали моего сына бодхисаттвой и Благородной личностью. Но, согласитесь, все это понятия чисто восточные. Применимы ли они к нам – к России?
– Отчего же нет? Применимы хотя бы потому, что Россия – тоже наполовину Восток.
– Вы меня извините, но это звучит несколько обще и как-то немного расплывчато. Хотелось бы чего-то более конкретного.
– Извольте. Я могу сослаться на то, что у нас называется буддакшетра – поле благих заслуг. Согласно этому учению, Ади-Будда – Верховный Будда сам определяет время и место, где надлежит родиться и проповедовать очередному будде. На этот раз он не обошел высочайшим вниманием Россию.
– Верховный? Стало быть, и у вас имеется свой генералитет… – Морошкин показывал, что и со священными понятиями можно обращаться по-свойски.
Тензин Гьяцо вновь не поддержал его смешливого настроения.
– Все же уместнее было бы сказать – иерархия…
Морошкин страдальчески на него взглянул, показывая, что его смешочки были всего лишь попыткой защититься от надвигающего ужаса – церемонии прощания с прахом собственного сына.
– Да, конечно же! Простите, простите! – пробормотал он, и они оба замолчали, прислушиваясь к ветру и плеску волн, заливающих накатами ветровое стекло.
– Что ж, давайте… Пора приступать, – сказал Далай-лама голосом, соответствующим значительности наступившего момента.
Он откинул капюшон, стряхнул с него клочья пены, до конца расстегнул и снял плащ. Подал повелевающий знак свите, чтобы те заглушили мотор. Андрей Ефимович тоже выключил двигатель. Наступила тишина. Над Финским заливом все выше поднималось оранжевое зарево солнца, сиявшее сквозь облака, и ночная мгла скрадывалась, свивалась жгутами, никла к воде. Берега едва угадывались в розовой дымке. При полном безветрии катер и лодку лишь слегка покачивало.
– Да-да, пора… пора, наверное, – подхватил Морошкин с некоторой неуверенностью, поскольку предпочел бы еще немного отсрочить момент, подождать, потянуть, но сам же чувствовал, что никакая отсрочка уже невозможна.
Поэтому обреченно открыл портфель и достал капсулу – так, словно положил голову под нож гильотины. Далай-лама понял, чего ему это стоило, и оценил его мужество. Прежде чем Морошкин отвинтил крышку, Тензин Гьяцо посчитал нужным сказать:
– Ваш сын мог бы гораздо раньше покинуть этот мир и слиться с Высшей реальностью, зовущейся у нас Дхарма-Кайя, Вселенское тело Будды. Но из сострадания к людям он лишил себя этого несказанного блаженства и остался в сансаре, чтобы вести людей к просветлению и помогать избавиться от страданий. В этом его величие. Ибо верно сказал один из скандинавских писателей, многому научившийся у Достоевского: самый великий не тот, кто «вызывает наибольшее общественное брожение», а тот, кто «придает нашему существованию наибольший смысл, кто оставляет наиболее ощутимый след». Именно такой след оставил ваш сын – великий избавитель. Ибо все в этом мире – страдание, как гласит Первая благородная истина. – Далай-лама склонил бритую голову и замолк из почтения к истине, чтобы ее не оскорбляли никакие посторонние звуки – в том числе и звуки его собственной речи. – Ваш сын рано – еще в четырнадцать лет принес клятву бодхисаттвы, что будет вести людей путем истины…
– Я помню, помню… В четырнадцать лет, еще мальчиком он преобразился, стал совсем иным – не от мира сего, как говорили мы с матерью. Значит, это была клятва – клятва бодхисаттвы, священный обет, принятый сыном. А мы и не догадывались, пытались его развлекать, приглашали в дом сверстников, устраивали игры и чаепития… Какая глупость!
Тензин Гьяцо в знак несогласия выставил маленькую ладонь, изнутри напоминавшую истертую – палевого цвета – ладошку обезьянки, а снаружи – морщинистую, когтистую лапу тигра.
– Вовсе не глупость. Детство и отрочество со всеми их радостями и забавами никто не отменял. Я не зря сказал, что в Тибете даже мальчишки способны читать мысли, но при этом они оставались мальчишками.
– Что ж, позвольте вас поблагодарить…
– За что?
– За это вразумление, для меня очень важное.
Кончики губ Далай-ламы тронула тонкая улыбка – в знак того, что если он и вразумил собеседника, то еще, вероятно, не до конца.
– Но я бы добавил, что столь раннее духовное пробуждение позволило вашему сыну избежать многих ошибок, приводящих к перерождениям в сансаре, нашем грешном мире. Ваш сын смог решить стоящие перед ним высшие духовные задачи в течение одной – нынешней – жизни. Это достижение, эта доблесть, этот подвиг – из числа особых. Во всяком случае, они недоступны тем, кто тащится по дорогам жизни в Малой колеснице. Ха-ха-ха. Извините, я позволил себе пошутить.
– Что вы, Ваше Преосвященство! Какие могут быть извинения! – воскликнул Морошкин, не совсем уловивший, в чем тут шутка.
– Извинения полезны всегда и особенно ценны в том случае, если при этом вы правы.
– …В течение одной жизни. Жаль, что такое невозможно в христианстве, – посетовал Морошкин, настроенный к христианству (как и ко многому другому) весьма скептически.
– Почему же? – Далай-лама снял очки и вскинул брови, отчего на выбритом лбу собрались морщинки. – Очень даже возможно. Достаточно вспомнить притчу Иисуса о работниках в винограднике. – Он снова надел очки. – В этой притче те, кто пришел на торжище первыми, рано поутру, и проработал весь день, соответствуют обретающим нирвану на протяжении многих и многих жизней, рождаясь в обликах самых разных людей. Те же, кто пришел за час до расчета и тоже получил свой динарий (а единица – число Бога), обрели нирвану всего за одну жизнь, как и ваш сын.
После этих слов Герман Прохорович отвинтил крышку капсулы и достал коробочку. Он с величайшей осторожностью поставил ее на ладонь и приподнял до уровня глаз.
– Вот здесь хранится пепел…
Тензин Гьяцо сделал движение ладонью сверху вниз.
– Немного опустите, мой друг, чтобы коробочка была на одном уровне с сердцем. Вот так, – Далай-лама одобрил жест Морошкина, придавший коробочке правильное положение. – Теперь откройте…
Морошкин страдальчески открыл коробочку и, избегая смотреть вовнутрь, спросил:
– Кто из нас первый?
– Как отец, должны вы…
Герман Прохорович непослушными, чужими, негнущимися пальцами взял щепотку пепла.
– Что дальше? – Он почему-то закрыл глаза.
– Подождать, когда поднимется ветер, а он сейчас поднимется… сейчас… – Действительно, откуда-то издалека налетел ветер и чуть было не сорвал с головы Морошкина шляпу, которую ему пришлось придержать свободной рукой.
– Простите. – Он извинился перед Далай-ламой.
– Снимите это. Положите куда-нибудь… Что вы ее держите! Этот маскарад ни к чему!
Морошкин послушно снял шляпу и положил рядом с собой.
– Вот… как вы сказали.
– Ну, молодцом. Теперь бросайте пепел по ветру. – Морошкин бросил. – Так… еще щепотку… еще… Можно высыпать пепел на ладонь и сдувать. Теперь я… – Далай-лама тоже бросил щепотку. – А оставшийся пепел ветер сам подхватит и развеет. Держите коробочку на вытянутой руке… Или лучше дайте мне, а то у вас дрожат руки.
Морошкин выполнил все его приказания, и пепел был полностью развеян по ветру.
– Теперь спрячьте коробочку, а лучше… пустите ее плыть по воде, как кораблик, – сказал Далай-лама так, как мог сказать лишь тот, кто в детстве особенно любил кораблики. Когда Морошкин отправил свой кораблик в плавание (а потом долго смотрел ему вслед), Тензин Гьяцо приступил к завершающему акту драмы: – Теперь прочтем с вами священные мантры. Это очень важно, поскольку иначе обряд не будет считаться выполненным.
– Ом мани падме хум? – Скромно опустив глаза, Морошкин показывал, что некоторые из мантр ему известны.
– Не только мантру бодхисаттвы Авалокитешвары, но и другие. Начнем с мантры самого Будды Шакьямуни: «Ом муни муни маха муние соха».
Герман Прохорович послушно повторил несколько раз вместе с Далай-ламой:
– Ом муни муни маха муние соха.
Тензин Гьяцо благосклонно кивнул.
– Теперь читаем мантру Манчжушри, она короткая: «Ом ара бацзана».
Морошкин как зачарованный повторил:
– Ом ара бацзана.
– Теперь мантру Амитаюса: «Ом арани цзевандеи соха».
Морошкин вслед за Тензином Гьяцо повторил и эту мантру.
– Что вы чувствуете?
– Спокойствие, умиротворение, тишину и гармонию.
– А радость, восторг, блаженство?
– Нет, пока не чувствую.
– Тогда давайте вместе творить известную вам мантру Авалокитешвары: «Ом мани падме хум».
– Творить?
– Да, мантру следует не твердить, как попугай, а творить, словно молитву, с вниманием сердечным.
– Ом мани падме хум, – отозвался Морошкин.
– Еще раз…
– Ом мани падме хум.
Они еще долго повторяли вместе эту мантру, пока Далай-лама не спросил, с пристальным вниманием глядя поверх очков на Германа Прохоровича:
– Ну а теперь?
– Чувствую, как в глубине души и вправду рождается необыкновенная радость, – наверное, такая же, как у Мотовилова, когда, по молитве преподобного Серафима, Господь позволил ему вкусить райское блаженство от плодов Святого Духа. – Морошкин умилился, растрогался и от собственных слов, и от того невыразимого, что за ними скрывалось.
Далай-лама тоже был тронут упоминанием о Серафиме Саровском.
– Да, да, эта беседа святого Серафима с его верным служкой Мотовиловым… нам она известна. Дух же веет, где хочет, – в том числе и у нас на Тибете.
– Что же означает эта радость? – Морошкин никак не мог до конца поверить, что ему выпало счастье пережить такое.
– Она означает, что сын вас услышал и отозвался. Эта радость послана если и не им самим, то по его молитве.
– Это он вам сказал? – спросил Морошкин, невольно прислушиваясь и при этом допуская, что сказанное сыном способен был услышать лишь Далай-лама.
– Сказал, – Тензин Гьяцо выделил голосом это слово, – но не словами, а чем-то, помимо слов.
– Почему же я не услышал?
– Еще и для вас наступит время…
– Что же именно он сказал?
– Поблагодарил и вас, и меня. Обряд совершился. Можно возвращаться к берегу. Включайте мотор, – сказал Далай-лама, ни на кого не глядя, ни к кому не обращаясь и тем самым показывая, что те, кому надо, его поймут.
Но поняли его не все. На лодке мотор заработал, зачихал, зачавкал, затарахтел, нарушая тишину и набирая обороты, а Андрей Ефимович все медлил и тянул время. Он поскрипывал под собой сиденьем, переваливаясь то на один, то на другой бок, шуршал брезентовым плащом и двигатель катера не включал, словно выжидая чего-то.
– Что же вы, любезный? Пора возвращаться, – сказал Далай-лама, делая нетерпеливое движение плечом, на котором не мог удержаться (соскальзывал) надеваемый плащ – так же, как и он сам не мог удержаться от невольного раздражения.
– Простите. – Он искал что-то у себя под ногами. – Простите, я был свидетелем… этот пепел в коробочке… – Андрей Ефимович говорил тихим голосом, словно именно это позволяло ему быть услышанным.
– Да, что вас интересует?
– Ну, хотя бы… – из того, что его интересовало, Андрей Ефимович выбирал самое интересное, – кому он принадлежит?
– Пепел-то? Вас это вряд ли касается, – сухо сказал Тензин Гьяцо. – Занимайтесь своим непосредственным делом. Плату вы получите на берегу.
– Премного благодарен. И все-таки хотелось бы знать…
– Ваша настойчивая любознательность вряд ли здесь уместна. Мы не обязаны посвящать вас во все детали…
– Я, конечно, понимаю. Это ваше право. Но если это пепел умершего, то по меньшей мере странно… и как-то не по-христиански… Покойников все-таки принято хоронить в земле, как я своего деда похоронил, и отца, и мать.
– Не беспокойтесь, вас похоронят в земле. И кажется, весьма скоро. Во всяком случае, своим любопытством вы ухудшаете себе карму.
– Если вы о моем кармане, то он и так дырявый. А вообще, я не о себе беспокоюсь, а больше о подобающих приличиях… о том, как принято, как заведено…
– Почему же не о себе? О себе тоже не мешает позаботиться.
– Потому что я, извиняюсь, вечный, – сказал Андрей Ефимович, и в глазах его мелькнула зловещая искорка.
Далай-лама немного поразмыслил над сказанным.
– Положим, извинений здесь не требуется. Раз уж решили высказаться – высказывайтесь на полную. Не стесняйтесь.
– Я вечный, – отрапортовал Андрей Ефимович как перед высшим командным составом.
– Вечный в том смысле, что никогда не умрете? Вы уверены?
– Абсолютно.
– Ну, знаете ли… позвольте мне все-таки усомниться… даже боги не вечны.
– А вот я, извините, вечен.
– Опять вы извиняетесь. Почему же вам такое предпочтение?
– Потому что вы все умрете, ваш пепел развеют над зловонными болотами, а ваш Финский залив и есть такое зловонное болото, я же стану… Осирисом. – Отсутствие переднего зуба помешало Андрею Ефимовичу с должной отчетливостью произнести свистящие согласные, входящие в это имя.
– Кем-кем?
– Ос-с-си… Ос-с-сирисом, чтоб вы знали. Ха-ха-ха! – Он сопроводил свои слова нервозным смешком.
– Почему вы смеетесь?
– Да уж так… смеюсь, если вы не против. Хочется, знаете ли, учинить какое-нибудь безобразие. Некий скандальеро, так сказать. А то у нас все так чинно, благородно – аж противно.
– По-моему, он психопат или эпилептик, – шепнул Морошкин Далай-ламе и напоказ улыбнулся так, словно его шепот был самым невинным и никого не компрометировал.
Тензин Гьяцо не возразил, но при этом и никак не обозначил своего согласия.
– Что ж, учиняйте. Но кто же вам это пообещал?
– Что именно?
– Такую перспективу. Стать Осирисом – все же не шутка.
– Разных людей перевозить приходится. Среди них встречаются и профессора, даже академики – словом, люди ученые, многознающие, как говорится, ума палата. Один из них, седенький такой, в берете, с палочкой, и пообещал.
– А у него что – такая власть делать всех Осирисами?
– Обещание дадено, а там посмотрим. Так что привет вашему Будде от моего Осириса. Не забудьте передать.
– Передам, передам. Будьте спокойны. Может быть, все-таки тронемся с места?
– Тронемся, тронемся, если еще не тронулись, ха-ха. – Андрей Ефимович подмигнул. – Вот только не зачерпнуть бы бортом, не врезаться в берег или не учинить еще какое-нибудь безобразие.
Морошкину тоже захотелось ввернуть словечко.
– Безобразие, конечно, хорошо, но лучше… безарбузие, – сказал он, чтобы разом покончить и с безобразием, и с безарбузием, и с прочими идиотскими штуками.
Сказал и этим немало смутил хозяина катера.
– Какое еще безарбузие?
– А такое, что арбузы еще не поспели – вот вам и безарбузие. Так что привет вашему Осирису от нашего Будды.
– Оставьте эти глупости. Сегодня не тот день. – Тензин Гьяцо напомнил о том, о чем Морошкин если и позволил себе забыть, то лишь на минуту и поэтому сразу стал серьезным.
Солнце стояло уже высоко – в полуденном зените, воздух прогревался, и, несмотря на прохладу, поднимавшуюся от воды, над Финским заливом немного парило, словно под незримым стеклянным куполом. Обратный путь не склонял к разговорам: берег был уже близко, вырисовывался, маячил сквозь розовую дымку, да и все пережитое не позволяло впустую тратить слова.
Лишь об одном Морошкин позволил себе спросить, поскольку раньше несколько раз собирался с духом, но все как-то не получалось: момент был не тот. Сейчас же – перед высадкой на берег (слава богу, бортом не зачерпнули) – вот вам и подходящий момент.
– Ваше Святейшество, где вы учились русскому языку? Вы так говорите, что кажется, будто русский для вас родной.
– Нет-нет, родной – не то слово. Я нигде не учился и говорю по-русски именно как на незнакомом языке.
– Простите, не совсем вас понял…
– Ну, помните, как апостолы в день Пятидесятницы заговорили на незнакомых языках… Вот и я примерно так же, хотя с апостолами себя не сравниваю.
– Как же вы говорите, хотя языков не знаете?
– Да уж так… наитием свыше. Хотя, повторяю, я не апостол, и огненных языков надо мною, как видите, нет.
Это было сказано так, что Морошкин не удивился бы, если бы вдруг узрел над Далай-ламой огненные языки.
– Звание Далай-ламы, на мой взгляд, не уступает апостольскому, – прошептал он завороженно.
Тензин Гьяцо едва заметно улыбнулся тонкими, слегка поджатыми, немного бледными губами.
– Кажется, у вашего Тургенева один персонаж с горечью произносит, когда умирающий сын – вот так же, как вы сейчас, – называет его философом: «Какой я философ!» Вот и я могу про себя сказать: «Какой я апостол!»
– Вы даже знаете Тургенева!
– Положение обязывает меня кое-что знать, и прежде всего Россию.
После этого Морошкину сказать было нечего.
Они причалили к берегу: катер сбавил обороты и мягко уткнулся носом в автомобильные покрышки, гирляндой вывешенные вдоль причала. Далай-лама позволил Герману Прохоровичу расплатиться с хозяином катера, хотя готов был сделать это сам, но уступил Морошкину право на любезность, чтобы потом отплатить ему еще большей любезностью.
Морошкин собрался было прощаться, тем более что его спутника окружила свита, ждущая дальнейших распоряжений, но Далай-лама сказал, обращаясь к свите и главным образом к Герману Прохоровичу:
– Нет, мы должны посетить храм…
Герман Прохорович тотчас понял, о каком храме речь – о том самом буддийском, построенном Барановским.
– Что ж, я готов вас сопровождать…
– Вы главное лицо, поэтому сопровождаю вас я, – возразил Тензин Гьяцо.
– Почему? – Морошкин не мог смириться с тем, что его положение оказалось на голову выше.
– Потому что с четырнадцати лет этому храму покровительствует ваш сын.
Морошкин задумался, но по его виду нельзя было заключить, что услышанное было для него полной неожиданностью.
– Постойте, постойте. Я помню, как однажды четырнадцатилетний Прохор исчез из дома, мы его всюду искали, обзвонили всех его друзей, сбились с ног, обратились в милицию. Но тут Прохор нашелся, и выяснилось, что он был в Ленинграде. Сам скопил денег, уложил в рюкзачок кое-какие вещи и купил билет. Значит, он ездил туда, чтобы увидеть храм.
– Вы правы. Вот ваше тогдашнее недоумение и разрешилось…
– Многое становится ясным после смерти нашего сына. Скажем, он избегал смотреть в зеркало. Иногда он произносил такие фразы, что мать их записывала, потом вчитывалась и все равно ничего не могла понять. Вот один из образцов, мне запомнившийся: «Ты знаешь, мама, Яшомитра, один из крупнейших представителей Саутрантики, безоговорочно относит к этой школе Васубандху. Однако ты удивишься, но сравнительный анализ “Энциклопедии Абхидхармы” и комментария к ней Яшомитры не дает прямых свидетельств того, что Васубандху принадлежит к Саутрантике». Каково?
– Что ж, все понятно и совершенно верно. Я тоже полагаю, что Васубандху к Саутрантике не принадлежал.
– Вот как? В таком случае к этому я добавлю, что у сына была своя теория чувства, которую мы с матерью называли корпускулярной. Она сводилась к тому, что нет единых, цельных, всепоглощающих чувств – радости, гнева, ярости или горя, а каждое чувство можно расщепить на мельчайшие частицы – корпускулы. Герой «Крейцеровой сонаты» бросается с кинжалом за любовником жены, но при этом вспоминает, что он в чулках и поэтому может показаться смешным, а ему не хочется выглядеть смешным, а хочется быть страшным. Прохор приводил этот пример, а мы лишь потом, после его смерти, поняли, что корпускулы – это буддийские дхармы.
– После его смерти? Но смерти нет. Не впадайте в заблуждение. Заблуждения безнадежно ухудшают карму. Ваш сын не умер, а ушел в высшую нирвану – паринирвану.
Морошкин принял эту поправку и, подумав, спросил:
– Так что же – мы едем в храм?
– Я распоряжусь, чтобы прислали машину. – Далай-лама сделал соответствующий знак свите. – Между прочим, и вы это знаете лучше меня, Барановский сначала воздвиг другой храм на Невском проспекте – великий храм Сансары, храм Пуза, храм Жратвы.
– Вы имеете в виду Елисеевский магазин?
– Ну разумеется, разумеется. Этим творением Гавриил Васильевич сильно испортил свою карму. Это потом сказалось на судьбе буддийского храма, дацана Гунзэчойнэй, как его официально именовали, и привело к репрессиям тридцатых годов, арестам, расстрелам и прочим бедам.
– У сына была тетрадка, в которую он что-то записывал по-тибетски, а на обложке – изображение ленинградского дацана.
– По-тибетски?
– Да, он знал тибетский как родной.
– Друг мой, я внесу уточнение: не как родной, а как незнакомый ему язык. И записывал он в тетрадку все, что удавалось узнать о репрессиях, и прежде всего имена убиенных – живших при дацане буддийских подвижников и ученых-востоковедов. Там ведь не все было чисто: вовсю орудовала японская разведка. Японцы дошли до того, что свою Японию стали называть Шамбалой. А храм был хорош – не из кирпича, а из осколков гранита, с плоской тибетской крышей, колоннами, витражами Рериха… Зрелище необыкновенное, достойное Будды Шакьямуни.
– Что ж, на Елисеевский взирать мы не будем, а дацаном стоит полюбоваться, тем более что буддийский храм на русской земле – своеобразный памятник Льву Толстому, босому, идущему за плугом и возвышающемуся до осознания единой сути всех религий. – Морошкин хотел что-то добавить к их предыдущему разговору о Толстом, но Далай-лама опередил его:
– Толстой не дожил до открытия дацана, но в нем и так все дышит буддизмом. Если бы он родился в Индии, ему не пришлось бы бежать от жены и умереть на железнодорожной станции, поскольку стать отшельником – это было его законное, чтимое, признанное традицией право. И буддизм не исчез бы из Индии, а остался там навсегда.
Когда подали отливающие черным лаком служебные автомобили с кремовыми занавесками – для них и для свиты, Морошкин и Тензин Гьяцо поехали на Елагин остров, чтобы оттуда обозреть дацан, а потом обойти его со всех сторон, хоть и отданный Академии наук, но превосходящий все науки единой истиной избавления от страданий.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?