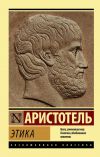Текст книги "История герменевтики"

Автор книги: Леонид Фуксон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Возрождение и Реформация
В XIV веке впервые возникает понятие античности в осознании темпоральной дистанции между новыми, средними и древними веками. Само слово «Возрождение» уже является интерпретацией благодаря открывающемуся в нём диалогу с прошлым. Причём в этом слове видна не только высокая оценка античности, но и толкование средних веков как упадочных. К истории герменевтики того времени относится прежде всего деятельность гуманистов. Так называется культурное движение, возникшее в Италии, а затем распространившееся на всю Европу. Начало его (XIV век) можно связать с Франческо Петраркой, конец (XVI век) ознаменован деятельностью Эразма Роттердамского. Термин «гуманизм» отсылает к основному предмету Studia Humanitatis – поиску, по словам Конрада Бурдаха, идеала человека путём углубления в греко-латинскую древность (К. Бурдах. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004. С. 96). Гуманисты осознают себя в пограничной зоне «между» древними, средними и новыми веками. Неслучаен расцвет в это время жанра диалога. Л. М. Баткин с полным основанием вообще считал Возрождение диалогическим типом культуры (см.: Л. М. Баткин. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. С. 129–133).
Английский теолог Алистер Макграт, ссылаясь на историка Пауля Оскара Кристеллера, писал: «Литературная и культурная программа гуманизма может быть сведена к лозунгу “Ad fontes – Назад к первоначальным источникам”. Средневековое запустение оставляется в стороне, чтобы возродить интеллектуальную и художественную славу классического периода. “Фильтр” средневековых комментариев – как по юридическим текстам, так и по Библии – снимается, чтобы напрямую познакомиться с первоначальными текстами» (А. МакГрат. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994. С. 72). В этом «напрямую» автором подчёркивается характерная черта гуманистов Возрождения, деятельность которых была проникнута пафосом очищения, возврата непосредственности контакта с духом оригинала. По точному наблюдению Энтони Графтона, «потребность преодолеть заслон, поставленный средневековым критическим аппаратом между текстом и читателем была общим местом гуманистической полемики до самого XVI в.» (История чтения в западном мире от античности до наших дней. М., 2008. С. 228–229).
Лозунгом Ad fontes отчасти был вдохновлён римский филолог Лоренцо Валла, опубликовавший в 1440 году своё «Рассуждение о подложности так называемой Дарственной Грамоты Константина».
Католической власти было необходимо моральное обоснование, чем и стал «Константинов дар» – грамота, написанная от имени Константина Великого, первого христианского римского императора (IV век), и адресованная папе римскому Сильвестру. Константин в ней рассказывает, как он заболел проказой и выздоровел лишь благодаря крещению, совершённому Сильвестром. В благодарность Константин даровал папе Рим и всю западную половину империи, а сам удалился в построенный им город Константинополь, откуда стал править Восточной Римской империей, оставив Западную Сильвестру.
Один из самых знаменитых критиков достоверности «Константинова Дара» Николай Кузанский справедливо полагал, что отказ церкви от признания сомнительного, подложного документа только повысил бы её авторитет в обществе. Однако лишь Лоренцо Валла в своём сочинении впервые научно опроверг подлинность «Дарственной грамоты Константина»: во-первых, самого факта дарения, и, во-вторых, документа – источника, на котором факт основан. Валла подчёркивает молчание об этом факте всех историков, исчерпывающе обосновывает морально-психологическую неправдоподобность такого дара, а также его незаконность. Глава церкви, по мнению автора «Рассуждения», в соответствии с христианским идеалом бескорыстия, был бы обязан отказаться от этого дара, даже если бы он был сделан. Наконец, итальянский филолог разбирает сам документ с точки зрения его языка. Он указывает на «варварские» обороты речи мнимой грамоты: «Разве не свидетельствуют они о том, что вздор этот сочинён не в век Константина, а в более поздний век?» (Лоренцо Валла. Рассуждение о подложности так называемой Дарственной грамоты Константина // Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. М., 1963. С. 187).
Кроме характерных «варварских» грамматики и стиля, Валла обнаруживает, например, что в рассматриваемом тексте о Константинополе говорится «как об одном из патриарших престолов в то время, когда он не был ещё ни патриаршим, ни престолом, когда он не был ещё христианским городом, когда он не был ещё так назван, когда он не был ещё основан и не был даже намечен к основанию…» (там же, с. 174). Своих наместников император Рима четвёртого века не называл «сатрапами», как полагал автор подложного документа (с. 170–171). И таких примеров Валла нашёл множество.
Труд Лоренцо Валлы был первым и блестящим примером подлинной историко-филологической критики. В нём осуществлено тщательное изучение языка и стиля текста, соотнесение с другими памятниками (цитирования, заимствования, упоминания), перепроверка изложенных в нём фактов по независимым источникам.
Трудно удержаться от исторической параллели. Пять с лишним столетий спустя английский филолог Гровер Ферр доказал лживость доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС («О культе личности и его последствиях»), опираясь на методы историко-филологического анализа, основы которого были заложены, как мы видим, ещё в эпоху Возрождения.
Приведённый пример наглядно демонстрирует одну из существенных задач герменевтики, стоявшую ещё перед древними филологами, – установление аутентичности, подлинности текста.
Упомянутый нами ранее Николай Кузанский (1401–1464), римский кардинал, чья фигура возвышается на границе Средних веков и Нового времени, полагал, что самое надёжное в нашем знании о мире и себе – незнание. Причём это знание незнания нерассудочное, похожее больше на уверенность. В начале диалога «О сокрытом Боге» христианин говорит язычнику о человеке, что он «меньше знает то, что будто бы знает, чем то, что явно сознаёт неизвестным» (1, 283). Мы видим, что мысль Николая Кузанского движется в традиции апофатического богословия. Удивление – это своего рода «озарение наоборот», осознание темноты, непостижимости чего-то странного, взгляд в сторону – ведь у всего есть «сторона», тень. Поэтому узрение этой незримости – фундамент, на котором только и можно основывать что-то надёжное. Замечательный русский философ С. Л. Франк, называвший себя учеником философа из Кузы, написал книгу с апофатическим названием – «Непостижимое» (1939). Так далеко, на пять веков вперёд, простирается влияние герменевтики Николая Кузанского.
В своём трактате «О неином» Николай Кузанский ставит вопрос об определённости познания как таковой в связи с понятием неиного. Философ отталкивается от расхожей, стандартной формы определения: «не что иное, как…». По сути, речь здесь идёт об определении как процедуре проведения границы с иным. В русском слове «определение», как и в латинском definitio (или determinatio), есть именно такое указание на границу («предел»). Диалектика Николая Кузанского восходит к Платону и к Дионисию Ареопагиту. Акцентированный им отрицательный момент любого определения повторится позже, через двести лет, у Спинозы: Determinatio negatio est. – Определение есть отрицание (Б. Спиноза. Избранные произведения. Т. II. М., 1957. С. 568).
Этот тезис, в свою очередь, часто цитировал Гегель, утверждавший, что отрицательность (Negativität) – душа диалектики. Для герменевтических процедур размышления Николая Кузанского об определении как «неином» имеют большое практическое значение, так как, например, любая характеристика какого-либо предмета в художественном произведении косвенно отсылает к своей противоположности. Приведём пример. Стихотворение Александра Твардовского начинается так:
Час рассветный подъёма,
Час мой ранний люблю…
Образ утреннего подъёма указывает на «своё иное» – на ночной покой, верх отсылает к низу, свет – ко тьме, семантика начала логически «граничит» с понятием конца. Мы видим, как художественный образ осмысливается в своих пределах, обозначающих различные оттенки «неиного».
В XV веке возникло книгопечатание. В чём суть открытия немецкого мастера Иоганна Гутенберга? Изображения, например, гравюры, умели печатать (а также тиражировать) и до него. Гутенберг изобрёл печать со съёмных наборных литер многоразового использования. Благодаря гигантским возможностям механического тиражирования текстов произошло значительное удешевление книг и невиданное ранее распространение чтения, по сути – ликвидация неграмотного сословия. Но дело не только в таких социальных последствиях изобретения Гутенберга. По мнению Маршалла Маклюэна, печатное слово способствовало постепенному убийству устной, риторической культуры древних и средних веков. Рукописи читались в основном вслух, и при этом сначала читателей было очень мало, а слушателей – много. Чтение почти исключительно было одновременно исполнением, вокализацией. Поэтому ещё Августин Блаженный изумляется молчаливой манере чтения епископа Амвросия: «Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали» (Исповедь 6, III).
Печатный текст не только облегчает и ускоряет чтение, но и порождает массовое чтение «про себя», то есть переход от вокального чтения к визуальному. Количество читателей резко возрастает по сравнению с числом слушателей. Можно сказать, что с изобретением книгопечатания происходит приватизация чтения. Это обстоятельство постепенно отодвигает устное слово на задний план, а с ним – и само искусство красноречия. Но главное – происходит глобальная интериоризация слова, то есть открытие его внутреннего измерения. Слово перемещается из публичного плана в личный. Об этом пишут и Гадамер (Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 192), и тот же Маклюэн (М. Маклюэн. Галактика Гутенберга. М., 2013. С. 27), который небезосновательно считал изобретение технологии Гутенберга провозвестием Нового времени и всей механической цивилизации Запада.
* * *
Средние века закончились расколом единства христианской церкви: протестанты против католиков, Лютер против папы, германский Север против романского Юга. Эта ситуация всеевропейского отчуждения как раз и рождает острую нужду в герменевтике. Поэтому XVI век, ознаменовавшийся Варфоломеевской резнёй во Франции 1572 года, крестьянской войной в Германии и другими подобными эксцессами, можно назвать золотым веком герменевтики. Не случайно крупнейший исторический деятель этого времени, немецкий реформатор христианства Мартин Лютер (1483–1546), был, помимо всего прочего, филологом. В 1517 году Мартин Лютер опубликовал свои «девяносто пять тезисов» против торговли индульгенциями (то есть справками об отпущении грехов, которые можно было просто покупать). По не очень достоверному преданию, это была своеобразная публикация: свою рукопись Лютер якобы просто прибил к дверям церкви. Как писал Стефан Цвейг, «железные удары, которыми безвестный августинский монах приколотил к дверям церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, разнеслись по всей Германской империи» (С. Цвейг. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М. 1977. С. 164). Это тот нередкий случай, когда суть происходящего выражает не исторически подлинный факт, а легенда, образно передающая всю глубину влияния выступления Лютера на немецкое общество.
В «тезисах» Лютера нашло место значимое положение – Sola Fide (только вера), – которое говорит о том, что источник спасения души каждого человека находится внутри его самого. Не церковь освобождает от греха, а лишь вера. Таким образом Лютер как бы открывает пространство между Богом и каждым отдельно взятым верующим. Человек перед лицом Бога впервые с такой остротой ощутил себя индивидуальностью: от него самого лично зависит его жизнь, и он сам отвечает за свои поступки. Именно перенос дела спасения внутрь, в душу каждого человека создаёт персональное измерение Евангелия.
Так началась Реформация. Смысл её декларируется в проповеди очищения христианства, его возрождения на первоначальных апостольских принципах, единственным носителем которых объявляется Библия. Лютер резко перемещает акцент с символических внешних обрядов на Священное Писание: истинная церковь невидима – она везде, где звучит Слово Божье. Богослужение не в обрядах – вся достойная жизнь человека – сплошное богослужение. Для католиков Писание должно непременно дополняться Преданием, то есть авторитетом церковной традиции. Лютер же считает эту традицию мёртвой, требуя дать слово самим Священным Книгам. Отсюда вытекает следующий его лозунг: Sola Scriptura (только Писание) – который имеет двойной смысл. Во-первых, он означает выделение Библии в качестве единственного надёжного источника веры. Во-вторых, принцип Sola Scriptura требует толковать Священное Писание с помощью его самого, что практически совпадает с александрийским правилом Аристарха Самофракийского понимать Гомера из самого Гомера. Писание само себя истолковывает (Scriptura sui ipsius interpres) и не нуждается в посторонней инстанции.
Глобальным событием для всей немецкой истории явился перевод Библии Лютером на живой немецкий язык, после чего Священное Писание становится доступным мирянам, не знающим латыни, языка учёного сословия. Именно лютеровская Библия стала началом немецкого литературного языка, объединившего духовно немцев как нацию, подобно значению «Божественной комедии» в Италии, аналогично роли текстов Пушкина в истории русского языка. Как писал Ницше, Библия Лютера «была до сих пор лучшей немецкой книгой» (Ф. Ницше. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 178) [ «до сих пор» означает здесь, конечно, момент появления книг самого Ницше]. С лютеровским переводом Слово Божье теперь приходит в любой немецкий дом, а не звучит лишь в церкви. Бог обращается к каждому человеку напрямую, и проблема понимания становится личной проблемой читателя.
Гадамер справедливо полагал, что основной задачей католической теологии было христианское прочтение Ветхого Завета и перевод его содержания из исторического и морального плана – в духовный. Отсюда, как мы помним, возникло представление о четырёх способах толкования и многослойности смысла. Но в эпоху Реформации аллегорическая интерпретация часто оттесняется моральным истолкованием Писания, и сам Лютер относился к аллегорическому истолкованию отрицательно, продолжая тем самым антиохийскую традицию ранней христианской экзегетики. В начале XX века Флоренский писал о своеобразной двойственности Библии: «Книга прозрачная, как хрусталь, есть в то же время Книга за семью печатями» (П. Флоренский. Столп и утверждение истины. Т. 1. М., 1990. С. 418). Лютер в борьбе с любого рода посредничеством толкователей сделал акцент на первой стороне – прозрачной самопонятности Священного Писания. При этом, однако, возникает закономерный вопрос: а зачем тогда герменевтика? Ведь она существует только на почве проблематичности (непрозрачности, «запечатанности») смысла. Для Лютера этот вопрос не был актуальным.
Мартин Лютер считался одним из двух самых известных людей Европы XVI века. Вторым был Эразм Роттердамский (1469–1536). Бросаются в глаза прежде всего различия между ними. Первый – церковный реформатор и вождь, от слова которого сотрясается вся Европа, второй – кабинетный учёный, последний гуманист Возрождения, крупнейший интеллектуальный авторитет. Этот контраст выразился в самой их внешности, запечатлённой на знаменитых портретах, где Эразм изображён Гансом Гольбейном в профиль, погружённым в написание какого-то труда, а Лютер на картине Лукаса Кранаха испытующе смотрит прямо на зрителя, как будто ждёт от него решительного поступка. Можно сказать, что само слово Лютера требует всегда утвердительной интонации: это слово, зовущее к действию. В то же время для текстов Эразма Роттердамского чаще более характерна интонация вопросительная – интонация поиска истины. Характер Лютера вполне выразился в его знаменитой фразе: «Hier stehe ich! Ich kann nicht anders!» (На том стою, я не могу иначе!). Эразм же в любой резкой определённости видит ограниченность.
Положение Эразма Роттердамского между враждующими партиями, католиками и протестантами, каждая из которых стремилась привлечь его духовный авторитет на свою сторону, – это положение сомневающегося мыслителя в век фанатизма и односторонности; человека мысли и слова, а не человека дела. Он безуспешно пытался занять примиряющую позицию посредника, во многом был согласен с Лютером, но при этом остался католиком. Как очень точно написал о нём его соотечественник в XX веке, «Эразм – человек, который был слишком рассудительным и слишком умеренным, чтобы быть героическим» (Й. Хёйзинга. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки. СПб., 2009. С. 412).
Эразм предпринял доработанное издание греческого «Нового Завета», а также его новый латинский перевод. Смысл этого труда – исправление ошибок, копившихся веками в «Вульгате» – упомянутой нами ранее канонической латинской Библии Святого Иеронима (конец IV в.). В новом переводе Эразма установка на филологическую точность оттесняет церковную авторитетность, что вызвало враждебную реакцию у сторонников традиционной версии Писания, но, конечно, труд учёного вполне отвечает самому́ гуманистическому духу Возрождения.
Всё наследие Эразма Роттердамского – художественное, публицистическое, философское, богословское – существует на латинском языке, но не «вульгарном», средневековом, а на латыни Цицерона и Горация.
Главная книга протестантской герменевтики была написана последователем Лютера, поддержавшим реформаторов в идейной войне с католиками. Звали его Флаций Иллирийский. Борясь с католическими принципами христианского вероучения, Флациус (таков латинский вариант его имени), тем не менее, очень много воспринял из предшествующей герменевтической традиции, прежде всего – от Августина Блаженного. В 1567 году был опубликован его трактат Clavis Scripturae Sacrae. Прежде всего обращает на себя внимание метафора ключа в названии. Ключ указывает на необходимость откровения чего-то сокрытого. Название труда Флация сразу же намечает мотив, который Гадамер считает центральным для всей герменевтики, – преодоление чуждости текста (Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 198–199).
Задача всего «Ключа» определяется автором так: посредством экзегетического метода «показать нормативную самостоятельность Писания» (цитируем по изданию: В. Дильтей. Собр. соч. Т. IV. М., 2001. С. 20). Это означает, что норма толкования содержится в самом Писании, а не привносится извне. По мнению Флация, множество накопленных католической церковью толкований Библии, в основном носивших аллегорический характер, часто противоречат друг другу, не проясняя тайну Слова Божьего, а затемняя её. Отсюда растёт потребность вернуться к самому тексту и поискать помощи в нём самом. Это не только вполне согласуется с принципом Лютера Sola Scriptura, но и подключает протестантскую герменевтику к давней традиции Аристарха Самофракийского, Оригена и Августина Блаженного.
Один из глобальных вопросов, выражающих смысл Реформации, был таков: кому принадлежит право интерпретировать Библию? Католики считают, что истолкование Слова Божьего держится на авторитете церкви. Флаций отвечает на поставленный вопрос следующим образом: право на понимание Библии имеет каждый добросовестный и рассудительный человек. Как обоснованно считал Густав Шпет, у Флация авторитет церкви заменяется авторитетом мысли (см.: Г. Г. Шпет. Герменевтика и её проблемы // Контекст. 1989. М., 1989. С. 244–247). Поэтому можно сказать, что трудом Флация Иллирийского по сути завершается средневековая церковная, теологическая эпоха истории герменевтики.
Флациус упрекает своих католических противников в том, что они чаще всего подходят к Писанию как к набору разрозненных сентенций, тогда как это единство правильно согласованных текстов; «в них, как во всей литературе, смысл извлекается из контекста, назначения, согласия и связности частей, как бы членов организма» (В. Дильтей, т. IV, с. 20). Таким образом, важнейший принцип герменевтики Флация, остающийся актуальным до сих пор, – понимать каждую частность из контекста целого, согласовав каждую часть с остальными.
В «Ключе» разрабатывается учение о различных уровнях понимания текста, которое ближе к Новому времени, чем к средневековой картине многослойности смысла: 1) понимание отдельных слов (знание языка, на котором говорит текст); 2) понимание отдельных фраз («периодов») речи, то есть умение связывать и разделять то, что нужно (акты идентификации и дифференциации); 3) понимание «духа говоримого», то есть интенции целого текста, – здесь Флаций употребляет греческое слово σκοπός (лат. scopus) – мишень, цель; нередко «дух говоримого» проясняет название текста; 4) понимание как применение, то есть извлечение практического (жизненного) урока из книги.
Несмотря на разнообразие предлагаемых Флацием герменевтических методов и принципов, основным «ключом» к текстам священных текстов, обещанным в названии его труда, автор считал Христа. Это означает, что технический аппарат интерпретации у протестантского богослова подчинён всецело вере в боговдохновенность Писания. Таково закономерное резюме теологической герменевтики средних веков и Возрождения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?