Текст книги "Барсуки"
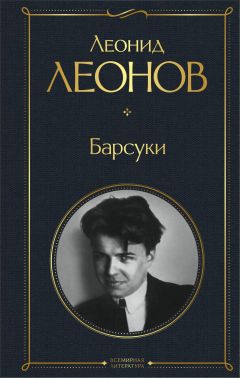
Автор книги: Леонид Леонов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
ХVІІІ. Катина родинка
Сене отперла сама Катя.
– А Насти у нас нет! – сказала она, удивившись позднему его приходу. Впрочем, тотчас же тень какой-то догадки скользнула у нее на губах. – Да что же вы на пороге стоите?.. Входите!
Сеня все так же, без объяснения своего прихода, вошел в переднюю. Судя по тому, как он оглядывался, можно было предположить, что тут только он сообразил, куда завлек его хмель.
– Она обещала прийти? Вы разве не знаете, мы с ней немножко рассорились! Из-за вас вышло… – добавила тихо Катя.
Блузка ее была смята, а волосы растрепаны, – очевидно, дремала, когда раздался Сенин звонок.
– Ну, не в передней же стоять! Пойдемте ко мне, что ли… – объявила Катя и непринужденно потянулась. – Где это вы так?.. Я напугалась даже.
Сеня заговорил не раньше, чем вошел в комнату и сел на стул. Но сел уж не робко, как прежде, а всем телом, вразвалку.
– Спала, что ли? – грубо спросил Сеня, не справляясь с косящим взглядом.
– Да, но… ты сиди, сиди! – тоже на «ты» перешла Катя. – Я ведь все одна… скучаю!
– Жениха сейчас обидел, – жестко сказал Сеня и сделал неопределенное движение рукой.
– Настина жениха? – заинтересовалась Катя. Она расположилась было поудобней на смятых подушках, но тут с любопытством приподнялась. – Как же ты его… так, что ли? – она наотмашь махнула рукой.
– Не… – нехотя отвечал тот, встал и скинул на пол плохонькое свое пальтецо. – Жарко! – и оттянул ворот рубашки, впившейся в смуглую, раскрасневшуюся мякоть шеи; потом он взял попавшийся на глаза гребень и запустил его в волосы, но завитки спутались и не давали гребню прохода.
– Положи, сломаешь! – вскользь заметила Катя. – Так ты, значит, на квартиру к ним приходил?
– Дай воды сперва попить…
– Вон там в графине на подоконнике возьми… Ну и как? Сеня не спеша налил стакан. Рука дрожала и расплескивала воду. Он выпил все в два глотка и опять сел, тупо уставясь перед собою.
– Настькин отец говорит: «Подержи шубу», – начал рассказывать он.
– Кому? – воззрилась, замирая от любопытства, Катя.
– Жениху, конечно! А я его поднял вот этак… не тяжеле мешка, да ка-ак брошу, с шубой вместе. Уж больно я на себя озлился, что шубу ему стал подавать… – Опять попался на глаза гребень, и опять стал расчесывать Сеня волосы, но гребень хрустнул, и кусок его, выскользнув из волос, упал на пол.
– Ну вот, видишь? Говорила, что сломаешь! – объявила без всякой досады Катя.
– …Я за нее по кусочку бы себя отдал тогда… – продолжал Сеня, и по всем мускулам его пробежала смятенная волна. – Зачем она за меня в глаза им не вцепилась.
– А Настя что? – допрашивала Катя, закладывая руки за голову.
– Она меня выгнала… как щенка пихнула!
– А ты и ушел?..
– Ушел… а что?
– Хорош, нечего сказать! – Катя тихо засмеялась; смех ее был ровный, щекочущий, осторожный, как кошачья походка. – Значит, Настьку-то с руками этому воробью отдал! Ребят-то не нанимали нянчить?.. – И насмешливо поиграла острым кончиком высоко прошнурованного ботинка.
– Не дразнись, – сказал он, опуская голову. – Зачем меня дразнишь?
Катя лежала с закинутыми руками, головой на подушке, вышитой тяжкими шерстяными розанами.
– А может, я тебя утешить хочу? – И опять смешок ее, обжигающий Сенино самолюбие, прозвучал коротко и смолк. – Ты вот злишься, а может, я слезы тебе хочу утереть… Я ведь добрая!
– Говорят тебе, не дразни, а то уйду! – повторил Семён и поднялся.
– Куда? К Настьке пойдешь? Там тебя отец собаками затравит. Тебя и затравить-то, так простят. Много ли стоишь, кисельное блюдо!
– А я тебе сказал и в третий раз… Не трожь меня! – Сеня угрожающе подошел к Катину диванчику и глядел на нее немигающими глазами. – Смотри, мое слово коротко!..
– А мое длинно! – дразнила Катя. – Ты сильный… Ты вон какой, а тебя девчонка выгнала, так ты и реветь готов.
У Кати в комнате горела лампа с узорчатым абажуром. Катино лицо лежало вне круга света, матово мерцая в потемках.
– Ты не гляди на меня так, – смешливо заговорила она. – Я ведь одна дома. Смотри, не испугай меня… – Вдруг Катино лицо разжалось, распустилось. – Садись вот тут, – приказала она и подвинулась к стенке, чтобы дать место Семёну. – Шаль-то скинь на стул и садись!..
Тот молчал, побежденный в поединке. Голову обволакивал какой-то чугунный хмель. Вдруг ему представилось, что все вещи стали звенеть, каждая по-своему, – звон дурманил.
– Что ж, и сяду! – сказал Семён и нескладно присел на стул.
– Нет, вот сюда садись, – и указала место рядом.
– Ладно, – и сел туда, куда указывала. Катины, с обгрызенными ногтями, пальцы играючи бегали по блузке.
– Смотри, – сказала Катя, распахивая верх блузки. – Видишь?
– Ну, вижу.
– Родинку видишь?.. нравится?
– Ничего себе. Махонькая… – определил Сеня, тяжело уставляясь на Катю. Немного вверх, над грудью, где кожа припухала странной мерцающей голубизной, томилось маленькое темное пятнышко, темный глазок греха.
– Сейчас отец придет, – вслух думала Катя, все еще с раскрытой блузкой. – В десятом собирался вернуться.
– Настьку хочешь обидеть, – сказал Семён. Он и видел Катю и не видел. В висках клокотала разгоряченная кровь. Душе было гадко, а тело безумело и начинало качаться, как маятник. Все вещи дразнили, точно хотелось им, чтобы хватили их о пол и расхрустнули каблуком. Катя двинула плечом, потушила глаза и затихла. Вдруг Семён поднялся и резко засмеялся.
– Время-то течет, как по желобу! – сказал он, обводя усталыми глазами комнату. – Набедокурили мы с тобой! Эх, Катька, Катька…
Катя насмешливо поглядела на него и рывком запахнула блузку. В следующее мгновение она убежала из комнаты и вернулась через минуту.
– Уходи скорей, – зашептала она, не глядя на Семёна. – Я на часы хотела взглянуть… они у отца в спальне. А он уж пришел… молится там! Ступай, – комкала слова Катя.
Семён шел за ней в переднюю намеренно громким шагом. Уже уходя, он попридержал дверь ногой:
– Стыдно тебе небось, а? Замуж-то я тебя все равно не возьму.
– Мужик вахлатый!.. – не сдержалась Катя и захлопнула дверь.
Щелкнул крючок, и Семён остался один в темноте лестницы. Он сошел вниз и поднялся по улице вверх из низины. Нежилым, каменным духом повеяла на него Варварка. Он шел мимо нижних рядов. В провалах глубоких ворот на ящиках дремали в тулупах сторожа. В глухих переулках, соединяющих низ и верх, он пробродил большую часть ночи. К рассвету усталые ноги вывели его на Красную площадь, затянутую робким, нетронутым снежком. Так же медленно он спустился опять в Зарядье. В смятой памяти проходили события минувшего дня: сухонький лобик Катушина, дудинский картуз, валяющийся в грязи, чайная кружка с мутным, тошным ядом, выпученные глаза жениха, гневный и зачужавший взгляд Насти, губы Кати, взбухшие, как нарыв…
Он стоял как раз перед гераневым окном. Оно, занавешенное белым, смотрело на него глухо и безответно. Во рту у Семёна было горько, а внутри совсем пусто.
Город просыпался…
XIX. Конец Зарядья
Семён перед отъездом заходил к Дудину в его подвал проститься. Увидя Семёна в солдатском, похудевшего и подтянутого, еще больше захлопотал Дудин по своей мастерской.
– Сноп-то научился колоть? – резко крикнул Дудин и щепкой, которую держал в руке, почесал седой затылок. – Ты смотри, человек не сноп! Уж там не промахивайся… Ну-ну, воюй, воюй… добывай военное отличье: медаль на брюхо, деревяшку к ноге!
– Прощай, Ермолай Дудин, – сказал Семён, с тоской глядя на мутное дудинское оконце; он так и звал его в разговоре: Ермолай Дудин.
Потом он камнем канул в черную пропасть забвенья и войны…
Зарядье к тому времени уже теряло свое прежнее обличье. Ход махового колеса замедлялся. Смрад войны проникнул и сюда. Как-то и дома стали ниже, и люди темнее, а орган секретовской «Венеции», забравшись на высокий плясовый верх, поломался однажды зимой.
После Семёнова отъезда еще унылей стала Настина жизнь: свадьба расстроилась… Настя поднимает с пола недочитанную книжку, пробует читать. Строчки прыгают, меняются местами буквы, не хотят, чтобы их читали. Настя захлопывает книжку и подходит к окну. Небо серо. На улицах снег. На снегу ворошатся воробьи.
Когда после смерти матери убирали угловую комнатушку, нашла под материной кроватью старую обезображенную куклу. Целый день просидела над ней Настя, навила ей целую охапку пегих кудрей, но прежней молодости было уже кукле не вернуть.
…Грустная, с ноющей спиной, Настя подходила к окну: стыли в вечернем морозце апрельские лужи. В доме напротив кто-то переезжал. У ворот стоял воз, нагруженный доверху.
Матрёну Симанну оставил Пётр Филиппыч до времени жить у себя, в той же угловой комнатушке. Настя идет в угловую… Матрёна Симанна сидит на полосатом матраце, – все, что осталось от материной кровати, – и при входе Насти торопливо прячет что-то за кровать. Возле нее лежат только что купленные вербы.
– Ты не прячь, я видела, – говорит Настя. – Печки надо бы протопить. Сыро у нас, знобит.
– У папеньки уже затопил Григорий, – приглушенно отвечает Матрёна Симанна и, решившись, вынимает из-за кровати черную бутылку. – Мамашенькино место навестить пришла, умница? – робко сменяет она разговор.
Настя берет какой-то темный пузырек, оставшийся на столике, вертит его в руках и вдруг, почти кинув его обратно на столик, трет руки о передничек.
– Чего у тебя там?
– Где, умница?
– В бутылке…
– Мадерка в бутылке, – с унылым страхом сообщает старуха.
– Налей мне!..
Настя отпивает мелкими глотками и оглядывает комнату.
Как неузнаваемо переменилась эта комнатушка! Когда девочкой приходила сюда, казалась она местом страшной тайны, осиянной цветным горением лампад. Полуденный свет, бесстыдно ворвавшийся сюда теперь, обнажил всю ее убогость: оборванные, отопревшие от стены обои, нелепый гардероб в углу, похожий на двухспальную кровать, поставленную дыбом.
– Моли у нас много! – жалуется Матрёна Симанна, прихлопывая одну в руках. – Вот все морильщика жду, не зайдет ли…
Настя уходит. Мысли приятно кружатся. Она накидывает шерстяной платок и бежит на улицу. Ее путь к Кате.
– Можно к тебе?
– Можно, будем чай вместе пить, – с холодком отвечает Катя.
– Нет… я так посижу, не раздеваясь! – говорит Настя.
– Тут тебе письмецо Семён прислал… чуть не забыла! Вторую неделю лежит. Он и тебе и мне по письму прислал… – намекающе смеется Катя, и Настя это замечает.
Настя берет письмо и вскоре уходит.
– Какая ты толстая стала, – говорит она уже в дверях. – Знаешь, ты, если и похудеешь, все равно толстой останешься!
…Все сильнее покрывались будни Зарядья какой-то прочернью. И раньше была в них чернота, но пряталась глубоко, а тут проступила вдруг всюду, словно пятна на зараженном теле. Где-то там, на краю, напрягались последние силы. С багровым лицом, с глазами, расширенными от ужаса и боли в ранах, Россия противостояла врагу. Все еще гудели поля, но уже железная сукровица смерти текла из незаживляемой раны… Только Настя да Дудин ощущали близкий конец. Третий, в ком могла бы столь же неугасимо полыхать тревога, был слишком поглощен собственными печалями.
…Метался Зосим Васильич. И как-то, еще летом, надумал искать последнего приюта в монастыре. Даже справки наводил стороной: можно ли, если все семнадцать тысяч, сумму всего быхаловского жизненного подвига, единовременным вкладом внести, иметь себе пожизненную келью для отдохновенья от жизни, скорби и труда? Но согласиться отдать все семнадцать – значило признаться в своей давнишней, первоначальной ошибке. Сделать это сразу Зосим Васильевич не решался.
Стали к Быхалову монахи ходить, тонкие и толстые, ангелы и хряки. Но у всех равно были замедленные, осторожные движения и вкрадчивая, журчащая речь. Иные пахли ладаном, иные – мылом, иные – смесью меди и селедки. Семья быхаловских запахов в испуге расступалась перед монашьими запахами, неслыханными гостями в быхаловской щели.
Однажды в конце октября сам монастырский казначей пожаловал, сопровождаемый двумя меньшими. Был казначей внушителен, как колокол, шелковая ряса сама собой пела о радостях горних миров, а руки были пухлы и мягки – гладить по душам пасомых. Весь тот день намеревался провести Зосим Васильич в тихих беседословиях о семнадцати заветных тысячах и о человеческой душе.
Спрашивал казначей, обдумал ли Быхалов свое отреченье от мира и тлена. Интересовался также, в процентных ли бумагах у Быхалова все семнадцать или просто так, кредитками. Грозил погибелью низкий казначейский баритон, журчал описаниями покойного райского места.
Гладя себя по волосам, повествовал казначей не слышанное ни разу Быхаловым преданье о Вавиле. Жил Вавила, и ел Вавилу блуд. Ушел в обитель, но и туда вошли грехи. Тогда в самом себе, молчащем, заперся Вавила, замкнувшись засовом необычайного подвига. Но и туда просочились, и там обгладывали. И вот, в одно утро, бессонный и очумелый, ринулся Вавила на беса и откусил ему хвост. А то не хвост был, а…
– …постигаешь? – и ласкал свою жертву темным повелительным оком.
И распалилась быхаловская душа, и уже примерял в воображении рясу на себя Зосим Васильич, и уже гулял в ней по монастырскому саду, где клубятся черемухи под девственным небом всеблагой монастырской весны. Там – забыть о напрасной жизни, забыть о сыне, сгоревшем от буйственных помыслов, там утихомириться возрастающему бунту быхаловского сердца.
Было даже удивительно, как неиссякаемо струится из казначея эта сладкая, густая скорбь… И вдруг икнул казначей; Зосим Васильевич вздрогнул и украдкой огляделся. Один из меньших монашков зевал, а другой вяло почесывал у себя под ряской, уныло глядя в окно.
– Что, аль блошка завелась? – резко поворотился к нему Быхалов.
– Новичок еще у нас… на послушанье, – быстро сообразил казначей, строгим взглядом укоряя монашка, покрасневшего до корней волос. – Из таких вот и куем столпы веры!..
– Ну, брат, как тебя ни куй, все равно мощей не выкуешь! – сказал резко Быхалов и встал, прислушиваясь.
В ту минуту над опустелыми улицами Зарядья грохнула первая шрапнель. Настя видела из окна: кошка сидела в подворотне и нюхала старый башмак, лежавший дня три в бездействии. Кошка улизнула, а Настя, отбегая от окна, еще успела заметить, как выскочил из ворот ошалелый Дудин, крича что-то, с руками, поднятыми вверх. Она видела: он перебежал переулок и скрылся за углом.
Зарядье казалось совсем безлюдным. Воздух над ним трещал, как сухое бревно, ломаемое буйной силой пополам. Только у Проломных ворот наскочил Дудин на какого-то в чуйке, бежавшего от ужаса приходящих времен.
– …Кто? Кто паляет?! – возопил Дудин, пугая чуйку какой-то особенной восторженной решимостью лица.
– Ленин к Москве подступил… – прокричала та, отшатываясь от Дудина.
– Палят-то отколь? – всей грудью закричал Дудин, стараясь перереветь небо.
– …со Вшивой горы… от Никиты-мученика! По Кремлю разят… – и побежала по кривым переулкам в глубь Зарядья, держась стены.
Дудин проскочил в Проломные ворота. По набережной мимо него быстрым точным шагом прошли юнкера.
А он бежал прямо по мостовой, спотыкаясь и кашляя, прямо туда, за Устьинский, где пушки. Щеки его зашлись от бега синим румянцем, но горели глаза, как у побеждающего солдата. Никто его не останавливал, потому что и некому было его остановить.
Вдруг кровь сильно прилила к голове, и в глазах у Дудина помутилось. Он остановился и присел отдышаться на тумбу.
Вшивая горка стреляла, как вулкан. Отдельные всплески пушечных выстрелов соединялись между собой, как цепочкой, нечастым постукиваньем пулеметов. Начинался Октябрь…
Весь в холодном поту от бега, Дудин посмотрел вверх и почему-то вспомнил незнакомца в чайнухе, год назад. Вдруг в груди заклокотало и запершило в горле. Он отхаркнулся и плюнул перед собой. Мокрота показалась ему необычного цвета. Он отплюнул себе в ладонь и, притихнув, напуганно глядел на большие кровяные сгустки, плававшие в мокроте. Глядел он долго и как-то чересчур внимательно.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. Аннушка Брыкина изменила
Над огромным, немеряным полем снежное безмолвие висит. Пришел тот вечерний час, когда останавливаются ветры дуть, не находя себе пути в потемках. И впрямь: три леса, плотных и черных, вышли на углы поля, три одинаких, неприступных, как три скалы. Зимние ветры, – сколько их, больших и малых, заплутало безвестно в густых мраках этих лесов, сколько порассеялось снежным прахом, сколько их в мелкие, вьюжные вьюны извелось!
А в сумерки эти ныне падал снег. Не крутясь, не волнисто, а медленно и прямо упадала каждая снежина, будто длинное, снежное протягивалось с неба волокно. На опушке стоять, спиной к ели, – каждому дано услышать легкое шурстенье проползающей зимы. И хоть несла каждая снежина кусочек света с собой, и было их много, – густели сумерки, одолевала ночь.
В сумерках проснулся ветер, к ночи разошелся вовсю. Он и над тремя лесами кружит, он и по дороге бежит – малоезженной, закругленной, словно прочеркнулась взмахом откинутой руки. Да он и без дорог: ветру везде путь. Будет время, будет лето, встанет звонкая рожь по месту снежного безмолвия, – никому и в ум не придет вспомнить, как свирепствовал здесь, в снежной глуши, ветер – хозяин ночного поля. А у хозяина в подслужье и волк, и мороз, и обманная метельная морока, а порой и самая человеческая суть. Ими правит хозяин, хлещет, как ямщик коней… Они-то и влекут за собой событие ночного зимнего поля.
Аннушка Брыкина Сергея Остифеича Половинкина из Гусаков домой везла. Путь длинный и скучный. Считали бабы от Гусаков двадцать одну версту до села Воры. Бабья верста хоть и не длинная, да по времени и казенной версты длинней: мороз закрепчал, ветер озлился. Колко и резко стало Аннушке глядеть в острую путаницу расходившегося снегового самопляса.
Тут месяц скачливый, непрестанно поспешающий куда-то, прошмыгнул в дымных облаках. Он и глянул мимоходом на ночное поле, о котором речь. Дорога на мгновение прояснела.
Стали видны Аннушкины сани-ошевни, широкие, полны сеном: спать в нем. Так и есть – под овчиной и толстой, затверделой дерюгой полеживал в сене, укрывшись с головой, сам уполномоченный по хлебным делам четырех волостей Половинкин. Ему тепло и мягко, укачали ухабы плотное тело Сергея Остифеича, а запахи согретой овчины и сена приятно щекочут ноздри. Они-то и склонили Половинкина в пушистый овчинный сон.
Мнится Половинкину жаркая сплошная несуразица. Не то сенокосная луговина, не то страдное поле. И на поле том – огромной широты – движется баб неисчислимое количество. А зачем они не косами машут, а серпами траву берут, невдомек подумать Половинкину. Да и не до дум тут: влажные запахи повянувших трав совсем с ума свели Сергея Остифеича кровь. Да и сознание необыкновенной своей должности кружит голову: ходить среди согнутых баб, неуклонно блюсти равномерное производство травяного жнитва, покрикивать время от времени: «Каждой, травине счет! Каждой травине…» Да будто и нет никого в белом свете, кроме как Сергей Остифеич… Он, Половинкин, и есть ось мира, а вокруг него ходит кругом благодарная баба-земля.
Сам Половинкин в соку мужик. Он не молод, да и не стар, и не толст, и не тонок: во всех статьях у него мужская мера соблюдена. Волос у Серёги мягкий, играющий, каштанового цвета, бабий ленок. Лицо хоть и с припухлостями, зато взгляд победительный, взмах кнута в нем. Сколько бабьих сердец потаяло напрасной мечтой о Серёге!
В своем овчинном сне подкрался Серёга к одной, да и щипнул, просто из удовольствия: «Не виляй, мол, баба… Бери траву веселей! Каждой травине счет!» Баба же обернулась да тырк Серёгу в нос. Даже и обидеться не успев, чихнул Серёга и очнулся.
Сенной стебелек, в нос заскользнув, определил окончанье половинкинского сна. Но, не успев еще сообразить толком эту причину, вторично чихнул Сергей Остифеич и окончательно спугнул сладкую истому дремоты; потянулся, овчину пооткинув с лица, выглянул и вспомнил.
Ночь и сон. Вьюга с присвистом сигает через подорожные кусты… Ах да, в Гусаках ссыпной пункт ездил устраивать. Ночь и сон. Ах да, несется в самоплясе снег, а жаркая овчина славно хранит надышанное тепло. Вздремнул. Холодает, холодает к ночи… Экая темь! Ночь и сон.
Половинкин ворочает головой. Ветер ударяет в него целой пригоршней крупных снежин. Они тают и текут по припухшим от сна щекам. Память работает отчетливей. Теперь путь в Воры… готовиться к лету, уламывать мужика, уговаривать, что-де и городу нужен хлеб, грозить… А мужик недвижим, что пень, – какое на него уговорное слово сыщешь?
Сергей Остифеич кряхтит от неприятных воспоминаний, но преодолевает тяготы яви теплое благодушие сна. Ах да, и везет его в Воры Анна Брыкина, та самая, у которой муж затерялся в смертоносных полях. Та самая, у которой и бровь играет, и ноздря играет, и сама вся смехами переливается, как радуга. Закидывает глаза кверху Серёга, за собственный лоб. И тут продолженье недавнего сна. Зад Аннушки, немилосердно утолщенный полушубком, на мешке, над самой Серёгиной головой сидит. Серёга смотрит секунду и кашляет с непоколебимой суровостью: вот так же он по хлебным делам мужиков уговаривает, так же и с начальством говорит.
Только Аннушке невдомек уполномоченская строгость: своим голова забита. Она дергает вожжи, понукает и чмокает, боясь заснуть и вывалиться в рыхлый, разбесившийся снег. А руки стынут и в варежках, а голова склоняется все ниже, пока не коснется подбородок жесткой, промерзлой овчины. И опять помахает кнутовищем, разгоняя застоявшуюся кровь, и опять рванет ошевни рослая брыкинская кобыла, не спешащая в нескончаемую, вертящуюся мглу.
– Уж и спать устал… расчихался! – обернулась Аннушка, хлопая варежками по коленям.
– Едем где?.. – вопрошает Сергей Остифеич и глубже нахлобучивает кожаный картуз. «Вот тоже, в этаком картузе все уши обморозишь! Не по климату такой. А без него нельзя: боятся картуза!» – Отпетово-то проехали?
– Да нет, я верхом поехала. Верхом верней. Я там дороги не знаю.
– Верст небось десять еще осталось? – хмурится Половинкин.
– Да мы шестнадцать считаем… – смеется Аннушка. «Э, черт! Ну и должность! Мотайся тут, ровно дерьмо в проруби!..» – раздумывает Половинкин и пробует забыться. Ночь и сон… но сон уже не приходит. Выбирает на ощупь соломину и обгрызает ее зубами. Зубы у Половинкина белые, смелые, но двух передних недоставать стало после одного военного дня. Когда гневается Серёга, резко свистят через зубную отдушину уполномоченские слова.
– Кто же ты теперь, вдова, аль как?.. – приступает к делу Сергей Остифеич, выплевывая соломину в проползающий снег.
– Ни вдова, ни девица, ни мужняя жена… – Аннушка сердится и резко дергает вожжу.
– Что же это ты так! Ведь этак даже как будто и нехорошо, – выражает сочувствие Сергей Остифеич.
– Совести в нем нету… – говорит Аннушка как бы про себя. – Только и наезжал четыре раза за все года! Зачем и жениться было! А полушалки да платья… к шуту ли они мне! С полушалками, что ли, я жить буду?!
– Неужели четыре раза?.. – просветляется Половинкин. – Вот голова! Меня б коснулось, так я, как лист, прилип бы, да и не отлипал вовек!
Аннушка сидит спиной к Серёге, и не видно, хмурится ли, рада ли Серёгиной шутке.
– Ой ли? – насмешливо роняет она.
– Ан и в самом деле! Да коснись меня… – Половинкин так вздыхает, что кобыла прядает ушами и покорно убыстряет шаг.
Снова наблюдает Сергей Остифеич, как дымится и ползет дорога из-под ошевень. А тут в лесок въехали – здесь поутих ветер, не хлещет через край. Здесь ходко лошадь бежит, и звуков прибавилось: скрипят полоза, да еще селезенка бьется в лошадином брюхе, да еще осыпается снег с запорошенных ветвей, задеваемых дугой.
Целые охапки снега падают на Аннушку – не замечает, полна обидой на пропавшего мужа. Муж!.. А уж она ли его в думах и в письмах хоть на неделю не призывала! Врала даже, хоть на ребеночка льстилась вызвать. Все некогда. Деревянному мужу дороже жены рубль. Аи, много ли ты, Егор Иваныч, в банке накопил?
Аннушка круто поводит плечом, а кнут свистит злей и пронзительней.
– …Скучно небось без мужа-то? Молодая, не жила совсем, – зудит Сергей Остифеич, метя как раз в Аннушкину печаль.
– Не тревожь, – обороняется через силу Анна. – Зачем бередишь? Чего тебе деревенская далась! У себя в городу дюжинками, гляди, считаешь.
Чуть не с колыбели знает все прямые и кривые ходы к женскому сердцу Серёга. И уже напрямки идет, нещадно перекручивая ус:
– В городу! Рази у нас в городу такое добро пропадает? У нас строгий учет всему. Каждой травине счет, а уж баба никак не затеряется. Например, я: я б тебя моментально под номер, да и выдал бы герою, вот. Рази же это путно, такой молодке пропадать!
Аннушка молчит, дорога длится нескончаемо. Серёга продолжает:
– У меня вот тоже знакомая бабочка была, тоже Анна. Мужа у ней убили, так и высохла вся… В тридцать лет бабушкой кликали.
– Где его убили? – вздрагивает Аннушка, сторожко прислушиваясь.
– А вот на этой, на войнище на царской… Царь прикажет, а тысяча мужиков поляжет. Да что, убитому-то хорошо, отвонял, и не думается. А вот бабам маета. Я к тому, что ведь и твой, кажется, на войну ушел?
– Взяли… – не своим голосом отвечает Анна. – Может, уж сгнил где!
– И очень возможно, – играет Половинкин. – Ежели, к примеру, летом, так ведь они быстро изводятся.
– Зачем ты меня горячишь? Я тебе не жена, – смутно лепечет Аннушка. – Спи-лежи, скоро Воры будут.
– Да я разве сказал что? Мое дело стороннее, – пожимает плечами Половинкин. – Я только тебя пожалел.
И опять снега идут, снеговой самопляс и путаница. Балуется ветер снегом, пересчитывает, обсушивает каждую снежинку, словно готовит впрок.
– Слушь-ка, Анна… отчество-то забыл: озябла поди, давай я поправлю. А ты на мое место, грейся!
– Ну-к ладно… – не сразу соглашается Анна, а голос ее сам собой просит жалости.
Она передает вожжи и меняется местом со своим седоком. Целые три минуты наполнены скрипом снега, оглобель да вязким хлюпаньем лошадиных ног. Снова в лесу, но дорога совпала с путем ветра. Метет и морозит, ночь и сон. Аннушка, залезшая под овчину, вдруг видит: уполномоченный, намотав вожжи на боковой тычок ошевень, подтыкает разлохматившееся сено.
– Куда тебе?.. – приподнялась Анна.
– Пусти, замерз весь, – отвечал Сергей Остифеич. Все падал снег, и без конца тянулось поле, а лошадь сама, без понуканий, шла. Были Анна и Серёга как будто одной и той же рукой выкованы друг для друга – оба рослые и сильные. Но вырасти б на Аннушкиной совести черному пятну греха, если бы на рассвете, когда убаюкала их овчина дружным любовным сном, не случилась смешная беда. На крутых поворотах всегда передуванье снега. Прикатался поворот и на раскате доходил до сажня. На нем покачнулись ошевни и стали на ребро. Небывалое дело: вылетели при этом оба спящих в глубокий снег. И когда охватило холодом сонную их разгоряченность, засмеялась Аннушка, засмеялся вслед за ней и Половинкин. А там, где смех веселый и беспорочный, там нет греха, а только биенье ключа жизни.
– Что же ты меня, баба, вытряхнула! – скалил дырку в передних зубах Половинкин.
– Сам, грешник, виноват! – смеялась Аннушка и заботливей укрывала Серёгины ноги дерюжкой.
Не чуяла Анна греха в том, что променяла кволого, может, и мертвого, на живого и здорового мужика… Любовь их на лад шла, даже как-то слишком скоро свыклась Анна с положением невенчанной жены чужого мужа. А уж все село стало примечать, что зацвела второй любовью Анна. Но в глаза соседкам смотрела Анна без робости, не скрывала от осудительного взгляда растущего своего живота. Заметили также, что, и не потакая вредным стремлениям мужика к утайке хлеба, стал Сергей Остифеич к брыкинскому дому ласковей. Он и в дом к Брыкиным заходил, а однажды обозвал Аннушкину свекровь «мамашей». Ничего та не ответила, только пуще загрохотала ухватами, доставая кашу из печи.
Но по мере того, как возрастал Аннин живот и уходила зима, все больше угрюмилась Анна. Весна борола зиму, и уже выглядывал из брыкинской скворечни домовитый черноголовый скворец, днем носивший к себе разный пушистый сор, вечерами свиристевший о многих веселых разностях: о весне, тающем снеге и о прочей птичьей ерунде.
Весенними вечерами сидела Аннушка на крыльце, неживым, запавшим взглядом глядела на раннюю прозелень деревенского лужка, на крылечный облупившийся столбец, на многие окрестные места, окутанные вешним паром, на безыменную букашку, проснувшуюся для ползанья по земле.
И лицо у Аннушки было такое, какие на иконах матерям пишут: грустное, полное тайны, суровое.
Воздухи, сырые, густые, тяжелые, были полны неумолчного гуденья от прорастающих трав в тот день, когда всплакнула Аннушка, сидя на крыльце. Уехал в объезд по волостям Сергей Остифеич, а разве дано невенчанной право не пускать любимого в дальние пути? Да тут еще ребенок придет, немоленый, незваный. Да тут еще муж придет, убитый, из сердца выгнанный давно. Аннушке ли, в которой упрямая бабинцовская кровь, нелюбимого мужа умаливать, чтоб приблудного ребенка за своего признал?
Свекровь в дверь вышла, поправила повойник, рябенький, как курочка, жгучим взглядом заглянула в Аннушкино лицо. Увидела, как растерянными пальцами перебирает Анна бахрому сносившейся ватной кофты, догадалась, и усмешка явилась на ее неумолимые сухие губы:
– Иди… Ужинать пора. Промолчала Анна.
– На котором времени ходишь-то? – шепотом спросила свекровь.
– Пятым.
Аннушка встала, и вдруг потянуло ее к жизни. Она зевнула во всю широту своей здоровой груди, во всю сласть приходящей весны, и за себя, и за ребенка. Устало от постоянной печали сильное Аннушкино тело.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































