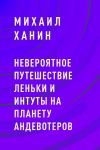Текст книги "Ленька Пантелеев"

Автор книги: Леонид Пантелеев
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Л. Пантелеев
Ленька Пантелеев
© А. Шевченко. Иллюстрации, 2016,
© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2016
* * *

Предисловие от издательства
Часто бывает так, что писатели придумывают своих героев – дают им вымышленные имена и отправляют на поиски невероятных приключений, которых на самом деле никогда не было. Но в этой книге все иначе. Ленька Пантелеев – это псевдоним автора, Алексея Ивановича Еремеева (1908–1987). И все, что написано в этой повести, – правда.
Герой и автор этой книги, Ленька Пантелеев, родился в Петербурге. Он хотел бы жить как обыкновенный человек – любить родителей, ходить в школу, дружить с хорошими детьми. Но ему не повезло – он рос в сложное для страны время. Началась Первая мировая война (1914–1918), потом в Российской империи за один 1917-й год случились две революции, после чего разразилась кровопролитная гражданская война (1918–1922).
В России наступила новая жизнь. Город Санкт-Петербург переименовали, превратили в Петроград, а затем в Ленинград. Вот только жить там стало невозможно. Свирепствовал голод, царила безработица. Люди умирали от холода, потому что топить печи было нечем, гибли от инфекционных болезней, потому что не хватало врачей и лекарств. Многие дети остались без попечения родителей и оказались на улице. Армия оборванных, голодных, нищих детей промышляла мелкими кражами и была постоянной головной болью городских обывателей.
Из этой книги вы узнаете, как Ленька Пантелеев стал беспризорником. Он встретил немало замечательных людей, которые помогли ему выжить и остаться человеком. Ему посчастливилось попасть в число воспитанников Школы-коммуны имени Достоевского (ШКИД).
Как складывалась дальнейшая судьба Леньки и его друзей, рассказывает повесть Леонида Пантелеева и Григория Белых «Республика ШКИД», по которой был снят знаменитый одноименный художественный фильм.
Пролог
Весь этот зимний день мальчикам сильно не везло. Блуждая по городу и уже возвращаясь домой, они забрели во двор большого, многоэтажного дома на Столярном переулке. Двор был похож на все петроградские дворы того времени – не освещен, засыпан снегом, завален дровами… В немногих окнах тускло горел электрический свет, из форточек то тут, то там торчали согнутые коленом трубы, из труб в темноту убегал скучный сероватый дымок, расцвеченный красными искрами. Было тихо и пусто.
– Пройдем на лестницу, – предложил Ленька, картавя на букве «р».
– А, брось, – сердито поморщился Волков. – Что ты, не видишь разве? Темно же, как у арапа за пазухой.
– А все-таки?..
– Ну все-таки так все-таки. Давай посмотрим.
Они поднялись на самый верх черной лестницы.
Волков не ошибся: поживиться было нечем.
Спускались медленно, искали в темноте холодные перила, натыкались на стены, покрытые толстым слоем инея, чиркали спичками.
– Дьявольщина! – ворчал Волков. – Хамье! Живут, как… я не знаю… как самоеды какие-то. Хоть бы одну лампочку на всю лестницу повесили.
– Гляди-ка! – перебил его Ленька. – А там почему-то горит!..
Когда они поднимались наверх, внизу, как и на всей лестнице, было темно, сейчас же там тускло, как раздутый уголек, помигивала пузатая угольная лампочка.
– Стой, погоди! – шепнул Волков, схватив Леньку за руку и заглядывая через перила вниз.
За простой одностворчатой дверью, каких не бывает в жилых квартирах, слышался шум наливаемой из крана воды. На защелке двери висел, слегка покачиваясь, большой блестящий замок с воткнутым в скважину ключом. Мальчики стояли площадкой выше и, перегнувшись через железные перила, смотрели вниз.
– Лешка! Ей-богу! Пятьсот «лимонов», не меньше! – лихорадочно зашептал Волков. И не успел Ленька сообразить, в чем дело, как товарищ его, сорвавшись с места, перескочил дюжину ступенек, на ходу с грохотом сорвал замок и выбежал во двор. Ленька хотел последовать его примеру, но в это время одностворчатая дверь с шумом распахнулась и оттуда выскочила толстая краснощекая женщина в повязанном треугольником платке. Схватившись руками за место, где за несколько секунд до этого висел замок, и увидев, что замка нет, женщина диким пронзительным голосом заорала:
– Батюшки! Милые мои! Караул!
Позже Ленька нещадно ругал себя за ошибку, которую он сделал. Женщина побежала во двор, а он, вместо того чтобы подняться наверх и притаиться на лестнице, кинулся за ней следом.
Выскочив во двор и чуть не столкнувшись с женщиной, он сделал спокойное и равнодушное лицо и любезным голосом спросил:
– Виноват, мадам. Что случилось?
– Замок! – таким же диким, истошным голосом прокричала в ответ женщина. – Замок ироды сперли!..
– Замок? – удивился Ленька. – Украли? Да что вы говорите? Я видел… Честное слово, видел. Его снял какой-то мальчик. Я думал, это ваш мальчик. Правда думал, что ваш. Позвольте, я его поймаю, – услужливо предложил он, пытаясь оттолкнуть женщину и юркнуть к воротам. Женщина уже готова была пропустить его, но вдруг спохватилась, сцапала его за рукав и закричала:
– Нет, брат, стой, погоди! Ты кто? А? Ты откуда? Вместе небось воровали!.. А? Говори! Вместе?!
И, закинув голову, тем же сильным, густым, как пожарная труба, голосом она завопила:
– Кар-раул!
Ленька сделал попытку вырваться.
– Позвольте! – закричал он. – Как вы смеете? Отпустите! Но уже хлопали вокруг форточки и двери, уже бежали с улицы и со двора люди. И чей-то ликующий голос уже кричал:
– Вора поймали!
Ленька понял, что убежать ему не удастся. Толпа окружила его.
– Кто? Где? – шумели вокруг.
– Вот этот?
– Что?
– Замок сломал.
– В прачечную забрался…
– Много унес? А?
– Какой? Покажите.
– Вот этот шкет? Курносый?
– Ха-ха! Вот они – полюбуйтесь, пожалуйста, – дети революции!
– Бить его!
– Бей вора!
Ленька вобрал голову в плечи, пригнулся. Но никто его не ударил. Толстая женщина, хозяйка замка, крепко держала мальчика за воротник шубейки и гудела над самым его ухом:
– Ты ведь знаешь этого, который замок унес? Знаешь ведь? А? Это товарищ твой? Верно?
– Что вы выдумываете! Ничего подобного! – кричал Ленька.
– Врет! – шумела толпа.
– По глазам видно – врет!
– В милицию его!
– В участок!
– В комендатуру!
– Пожалуйста, пожалуйста. Очень хогошо. Идемте в милицию, – обрадовался Ленька. – Что же вы? Пожалуйста, пойдемте. Там выяснят, вог я или не вог.
Ничего другого ему не оставалось делать. По горькому опыту он знал, что как бы ни было худо в милиции, а все-таки там лучше, надежнее, чем в руках разъяренной толпы.
– Ты лучше сообщника своего укажи, – сказала какая-то женщина. – Тогда мы тебя отпустим.
– Еще чего! – усмехнулся Ленька. – Сообщника! Идемте, ладно…
И хотя за шиворот его все еще держала толстая баба, он первый шагнул по направлению к воротам.
В милицию его вела толпа человек в десять.
Ленька шел спокойно, лицо не выдавало его – на его лице с рождения застыла хмурая мина, а кроме того, в свои четырнадцать лет он пережил столько разных разностей, что особенно волноваться и беспокоиться не видел причин.
«Ладно. Плевать. Как-нибудь выкручусь», – подумал он и, посвистывая, небрежно сунул руки в карманы рваной шубейки.
В кармане он нащупал что-то твердое.
«Нож», – вспомнил он.
Это был длинный и тонкий, как стилет, колбасный нож, которым они с Волковым пользовались вместо отвертки, когда приходилось свинчивать люстры и колпаки на парадных лестницах богатых домов.
«Надо сплавить», – подумал Ленька и стал осторожно вспарывать подкладку кармана, потом просунул нож в образовавшуюся дырку и отпустил его. Нож бесшумно упал в густой снег. Ленька облегченно вздохнул, но тотчас же понял, что влип окончательно. Кто-то из провожатых проговорил за Ленькиной спиной:
– Прекрасно. Ножичек.
Все остановились.
– Что такое? – спросила хозяйка замка.
– Ножичек, – повторил тот же человек, подняв как трофей колбасный нож. – Видали? Ножик выбросил, подлец! Улика!.. На убийство небось шли, гады…
– Батюшки! Бандит! – взвизгнула какая-то худощавая баба.
Все зашагали быстрее. Сознание, что они ведут не случайного воришку, а вооруженного бандита, прибавило этим людям гордости. Они шли теперь, самодовольно улыбаясь и поглядывая на редких прохожих, которые, в свою очередь, останавливались на тротуарах и смотрели вслед процессии.
В милиции за деревянным барьером сидел человек в красноармейской гимнастерке с кантами. Над головой его горела лампочка в зеленом железном колпаке. Перед барьером стоял милиционер в буденновском шлеме с красным щитом-кокардой и девочка в валенках. Между милиционером и девочкой стояла на полу корзина с подсолнухами. Девочка плакала, а милиционер размахивал своим красным милицейским жезлом и говорил:
– Умучился, товарищ начальник. Ее гонишь, а она опять. Ее гонишь, а она опять. Сегодня, вы не поверите, восемь раз с тротуара сгонял. Совести же у них нет, у частных капиталистов…
Он безнадежно махнул жезлом. Начальник усталым и неприветливым взглядом посмотрел на девочку.
– Патент есть? – спросил он.
Девочка еще громче заплакала и завыла:
– Не-е… я не буду, дяденька… Ей-богу, не буду…
– Отец жив?
– Уби-или…
– Мать работает?
– Без работы… Четвертый ме-есяц…
Начальник подумал, потер ладонью лоб.
– Ну иди, что ж, – сказал он невесело. – Иди, частный капиталист.
Девочка, как по команде, перестала плакать, встрепенулась, схватила корзинку и побежала к дверям.
Один из Ленькиных провожатых подошел к барьеру.
– Я извиняюсь, гражданин начальник. Можно?
– В чем дело?
– Убийцу поймали.
Начальник, сощурив глаза, посмотрел на Леньку.
– Это ты – убийца?
– Выдумают тоже, – усмехнулся Ленька.
Однако составили протокол. Пять человек подписались под ним. Оставили вещественное доказательство – нож, потолкались немножко и ушли.
Леньку провели за барьер.
– Ну, сознавайся, малый, – сказал начальник. – С кем был, говори!
– Эх, товарищ!.. – вздохнул Ленька и сел на стул.
– Встань, – нахмурился начальник. – И не думай отпираться. Не выйдет. С кем был? Что делал на лестнице? И зачем нож выбросил?
– Не выбросил, а сам выпал нож, – грубо ответил Ленька. – И чего вы, в самом деле, мучаете невинного человека? За это в суд можно.
– Я тебе дам суд! Обыскать его! – крикнул начальник. Два милиционера обыскали Леньку. Нашли не особенно чистый носовой платок, кусок мела, гребешок и ключ.
– А это зачем у тебя? – спросил начальник, указав на ключ.
Ленька и сам не знал, зачем у него ключ, не знал даже, как попал ключ к нему в карман.
– Я отвечать вам все равно не буду, – сказал он.
– Не будешь? Правда? Ну что ж. Подождем. Не к спеху… Чистяков, – повернулся начальник к милиционеру, – в камеру!..
Милиционер с жезлом взял Леньку за плечо и повел куда-то по темному коридору. В конце коридора он остановился и, открыв ключом небольшую, обитую железом дверь, толкнул в нее Леньку, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Его шаги гулко отзвенели и смолкли.
И тут, когда Ленька остался один в темной камере и увидел на окне знакомый ему несложный узор тюремной решетки, а за нею – угасающий зимний закат, вся его напускная бодрость исчезла. Он сел на деревянную лавку и опустил голову.
«Теперь уж не отвертеться, – подумал он. – Нет. Кончено. И в школе узнают… и мама узнает».
В камере было тихо, только мышь возилась где-то в углу под нетопленой печкой. Мальчик еще ниже опустил голову и заплакал. Плакал долго, потом прилег на лавку, закутался с головой в шубейку, решил заснуть.
«А все-таки не созна́юсь, – думал он. – Пусть что хотят делают, пусть хоть пытают, а не созна́юсь».
Лавка была жесткая, шубейка выношенная, тонкая. Переворачиваясь на другой бок, Ленька подумал:
«А хорошо все-таки, что это я попался, а не Вовка. Тот, если бы влип, так сразу бы все рассказал. Твердости у него нет, даром что опытный…»
Потом ему стало обидно, что Волков убежал, бросил его, а он вот лежит здесь, в темной нетопленой камере. Волков небось вернулся домой, поел, попил чаю, лежит с ногами на кровати и читает какого-нибудь Эдгара По или Генрика Сенкевича. А дома у Леньки уже тревожатся. Мать вернулась с работы, поставила чай, сидит, штопает чулок, посматривает поминутно на часы и вздыхает:
– Что-то Лешенька опять не идет! Не случилось ли чего, избави боже…
Леньке стало жаль мать. Ему опять захотелось плакать. И так как от слез ему становилось легче, он старался плакать подольше. Он вспоминал все, что было в его жизни самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не вернется, и о чем тоже плакалось, но плакалось хорошо, тепло и без горечи.
Глава 1
…Еще не было электричества. Правда, на улицах, в магазинах и в шикарных квартирах уже сверкали по вечерам белые грушевидные «экономические» лампочки, но там, где родился и подрастал Ленька, долго, почти до самой империалистической войны, висели под потолками старинные керосиновые лампы. Эти лампы были какие-то неуклюжие и тяжелые, они поднимались и опускались на блоках при помощи больших чугунных шаров, наполненных дробью. Однажды все лампы в квартире вдруг перестали опускаться и подниматься… В чугунных шарах оказались дырочки, через которые вся дробь перекочевала в карманы Ленькиных штанов. А без дроби шары болтались, как детские воздушные шарики. И тогда отец в первый и в последний раз выпорол Леньку. Он стегал его замшевыми подтяжками и с каждым взмахом руки все больше и больше свирепел.
– Будешь? – кричал он. – Будешь еще? Говори: будешь?
Слезы ручьями текли по Ленькиному лицу – казалось, что они текут и из глаз, и из носа, и изо рта. Ленька вертелся вьюном, зажатый отцовскими коленями, он задыхался, он кричал:
– Папочка! Ой, папочка! Ой, миленький!
– Будешь?
– Буду! – отвечал Ленька.
– Будешь?
– Буду! – отвечал Ленька. – Ой, папочка! Миленький!.. Буду! Буду!..
В соседней комнате нянька отпаивала водой Ленькину маму, охала, крестилась и говорила, что «в Лешеньке бес сидит, не иначе». Но ведь эта же самая нянька уверяла, что и в отце сидит «бес». И значит, столкнулись два беса – в этот раз, когда отец порол Леньку. И все-таки Ленькин бес переборол. Убедившись в упорстве и упрямстве сына, отец никогда больше не трогал его ремнем. Он часто порол младшего сына, Васю, даже постегивал иногда «обезьянку» Лялю – всем доставалось, рука у отца была тяжелая и нрав – тоже нелегкий. Но Леньку он больше не трогал.
* * *
…Он делал иначе. За ужином, зимним вечером, детям дают холодный молочный суп. Это противный суп, он не лезет в глотку. (Даже сейчас не может Ленька вспомнить о нем без отвращения.)
У Васи и Ляли аппетит лучше. Они кое-как одолели свои тарелки, а у Леньки тарелка – почти до краев.
Отец отрывается от газеты. – А ты почему копаешься?
– Не могу. Не хочется…
– Вася!
Толстощекий Вася вскакивает, как маленький заводной солдат.
– А ну, пропиши ему две столовые ложки – на память.
Вася облизывает свою большую мельхиоровую ложку, размахивается и ударяет брата два раза по лбу. Наверно, ему не очень жаль Леньку. Он знает, что Ленька любимец не только матери, но и отца. Он – первенец. И потом – ведь его никогда не порют. А что такое ложкой по лбу – по сравнению с замшевыми подтяжками…
Между братьями не было дружбы. Скорее, была вражда.
Случалось, воскресным утром отец вызывает их к себе в кабинет.
– А ну, подеритесь.
– По-французски или с подножкой?
– Нет. По-цыгански.
Мальчики начинают бороться – сначала в обхватку, шутя, потом, очутившись на полу, забившись куда-нибудь под стол или под чехол кресла, они начинают звереть. Уже пускаются в ход кулаки. Уже появляются царапины. Уже кто-нибудь плачет.
Вася был на два года моложе, но много сильнее Леньки. Он редко оказывался побежденным в этих воскресных единоборствах. Леньку спасала ярость. Если он разозлится, если на руке покажется кровь, если боль ослепит его – тогда держись. Тогда у него глаза делаются волчьими, Вася пугается, отступает, бежит, плачет…
Отец развивал в сыновьях храбрость. Еще совсем маленькими он сажал их на большой платяной шкаф, стоявший в прихожей. Мальчики плакали, орали, мать плакала тоже. Отец сидел в кабинете и поглядывал на часы. Эти «уроки храбрости» длились пятнадцать минут.
Все это ничего. Было хуже, когда отец начинал пить. А пил он много – чем дальше, тем больше. Запои длились месяцами, отец забрасывал дела, исчезал, появлялся, приводил незнакомых людей…
Ночами Ленька просыпался – от грохота, от пьяных песен, от воплей матери, от звона разбиваемой посуды.
Пьяный отец вытворял самые дикие вещи. «Ивану Адриановичу пьяненькому – море по колено», – говорила про него нянька. Ленька не все видел, не все знал и не все понимал, но часто по утрам он с ужасом смотрел на отца, который сидел, уткнувшись в газету, и как-то особенно, жадно и торопливо, не поднимая глаз, прихлебывал чай из стакана в серебряном подстаканнике. Ленька и сам не знал почему, но в эти минуты ему было до слез жаль отца. Он понимал, что отец страдает, это передавалось ему каким-то сыновним чутьем. Ему хотелось вскочить, погладить отцовский ежик, прижаться к нему, приласкаться. Но сделать это было нельзя, невозможно, Ленька пил кофе, жевал французскую булку или сепик[1]1
Сепик – род эстонского хлеба.
[Закрыть] и молчал, как и все за столом.
* * *
…Однажды зимой на масленице приехал в гости дядя Сережа. Это был неродной брат отца. Нянька его называла еще единоутробным братом (единоутробный – это значит от одной матери). Выражение это Леньке ужасно нравилось, хотя он и не совсем понимал, что оно означает. Ему казалось, что это должно означать – человек с одним животом, с одной утробой. Но почему эти слова относятся только к дяде Сереже, а не ко всем остальным людям, он понять не мог. Тем более что у дяди Сережи живот был не такой уж маленький. Это был толстый, веселый и добродушный человек, инженер-путеец, большой любимец детей.
Из Москвы он привез детям подарки: крестнице своей Ляле он подарил говорящую куклу, Васе – пожарную каску, а Леньке, как самому старшему, книгу – «Магический альманах».
Днем он ходил с племянниками гулять, катал их на вейке[2]2
Ве́йка – финн-извозчик в старом Петербурге.
[Закрыть], угощал пирожками в кондитерской Филиппова на Вознесенском. После обеда, когда в детской уже зажигали керосиновую лампу, он показывал детям фокусы, которые у него почему-то никак не получались, хоть он и делал их на научной основе – по книге «Магический альманах».
За ужином были блины, и отец угощал брата шустовской рябиновкой. Вероятно, и после ужина что-нибудь пили. Детей уже давно уложили спать, и, когда они засыпали, из гостиной доносились звуки рояля и пение матери. Мать пела «Когда я на почте служил ямщиком». Это была любимая песня отца, и то, что ее сейчас пела мать, означало, что отец пьян. Трезвый он никогда не просил и не слушал песен.
И опять, как это часто бывало, Ленька проснулся среди ночи – от грохота, от громкого смеха, от пьяных выкриков и маминых слез. Потом вдруг захлопали двери. Что-то со звоном упало и рассыпалось. В соседней комнате нянька вполголоса уговаривала кого-то куда-то сходить. Потом вдруг опять начались крики. Хлопнула парадная дверь. Кто-то бежал по лестнице. Кто-то противно, по-поросячьи визжал во дворе. В конюшне заржала лошадь. Ленька долго не мог заснуть…
А утром ни мать, ни отец не вышли в столовую к чаю. На кухне нянька шушукалась с кухаркой. Ленька пытался узнать, в чем дело. Ему говорили: «Иди поиграй, Лешенька».
В гостиной веселая горничная Стеша мокрой половой тряпкой вытирала паркет. Ленька увидел на тряпке кровь.
– Это почему кровь? – спросил он у Стеши.
– А вы подите об этом с папашей поговорите, – посоветовала ему Стеша.
Ленька пойти к отцу не осмелился. Он несколько раз порывался это сделать, подходил к дверям кабинета, но не хватало храбрости.
И вдруг неожиданно отец сам вызвал его к себе в кабинет.
Он лежал на кушетке – в халате и в ночных туфлях – и курил сигару. Графин – с водой или с водкой – стоял у его изголовья на стуле.
Ленька поздоровался и остановился в дверях.
– Ну что? – сказал отец. – Выспался?
– Да, благодагю вас, – ответил Ленька.
Отец помолчал, подымил сигарой и сказал:
– Ну, иди сюда, поцелуемся.
Он вынул изо рта сигару, подставил небритую щеку, и Ленька поцеловал его. При этом он заметил, что от отца пахнет не только табаком и не только вежеталем, которым он смачивал каждое утро волосы. Пахло еще чем-то, и Ленька догадался, что в графине на стуле налита не вода.
– Вы меня звали, папаша? – сказал он, когда отец снова замолчал.
– Да, звал, – ответил отец. – Поди открой ящик.
– Какой ящик?..
– Вот этот – налево, в письменном столе.
Ленька с трудом выдвинул тяжелый дубовый ящик. В ящике царил ералаш. Там валялись какие-то папки, счета, сберегательные книжки. Под книжками лежал револьвер в кожаной кобуре, зеленые коробочки с патронами, столбики медных и серебряных монет, завернутые в газетную бумагу, портсигар, деревянная сигарная коробка, пробочник, замшевые подтяжки…
– Да, я открыл, – сказал Ленька.
– Поищи там коробку из-под сигар.
– Да, – сказал Ленька. – Нашел. Тут лежат конверты и марки.
– А ну, посмотри, нет ли там чистой открытки. Есть, кажется.
Ленька нашел открытку. Это была модная английская открытка, изображавшая какого-то пупса с вытаращенными глазами и на тоненьких ножках, обутых в огромные башмаки.
– Садись, пиши, – приказал отец.
– Что писать?
– А вот я тебе сейчас продиктую…
Ленька уселся за письменный стол и открыл чернильницу. На почерневшей серебряной крышке чернильницы сидел такой же черный серебряный мальчик с маленькими крылышками на спине. Чернила в чернильнице пересохли и загустели – отец не часто писал.
– А ну, пиши, брат, – сказал он. – «Дорогой дядя Сережа!» Ты знаешь, где писать? Налево. А направо мы адрес напишем.
«Дорогой дядя Сережа, – писал под диктовку отца Ленька, – папаша наш изволил проспаться, опохмелиться и посылает Вам свои сердечные извинения. С утра у него болит голова и жить не хочется. А в общем – он плюет в камин. До свидания. Цалуем Вас и ждем в гости. Поклон бабушке. Любящий Вас племянник Алексей».
Выписывая адрес, Ленька поставил маленькую, но не очень красивую кляксу на словах «его благородию». Он испуганно оглянулся; отец не смотрел на него. Запрокинув голову, он глядел в потолок – с таким кислым и унылым выражением, что можно было подумать, будто сигарный окурок, который он в это время лениво сосал, смазан горчицей.
Ленька приложил клякспапир, слизнул языком кляксу и поднялся.
– Ну что – написал? – встрепенулся отец.
– Да, написал.
– Пойдешь с нянькой гулять – опусти в ящик. Никому не показывай только. Иди.
Ленька направился к двери. Уже открыв дверь, он вдруг набрался храбрости, кашлянул и сказал:
– А что такое случилось? Почему это вы извиняетесь перед дядей Сережей?
Отец с удивлением и даже с любопытством на него посмотрел. Он привстал, крякнул, бросил в пепельницу окурок, налил из графина в стакан и залпом выпил. Вытер усы, прищурился и сказал:
– Что случилось? А я, брат, вчера дурака свалял. Я твоего дядюшку чуть к Адаму не отправил.
Сказал он это так страшно и так нехорошо засмеялся при этом, что Ленька невольно попятился. Он не понял, что значит «к Адаму отправил», но понял, что вчера ночью отец пролил кровь единоутробного брата…
* * *
…Несколько раз в год, перед праздниками и перед отъездом на дачу, мать разбиралась в сундуках. Перетряхивались шубы, отбирались ненужные вещи для продажи татарину или для раздачи бедным, а некоторые вещи, те, которые не годились и бедным, просто выбрасывались или сжигались. Ленька любил в это время вертеться около матери. Правда, большинство сундуков было набито совершенно дурацкими, скучными и обыденными вещами. Тут лежали какие-то выцветшие платья, полуистлевшие искусственные цветы, бахрома, блестки, аптечные пузырьки, дамские туфли с полуотвалившимися каблуками, разбитые цветочные вазы, тарелки, блюда… Но почти всегда среди этих глупых и ненужных вещей находилась какая-нибудь занятная или даже полезная штучка. То перочинный нож с обкусанным черенком, то ломаная машинка для пробивания дырочек на деловых бумагах, то какой-нибудь старомодный кожаный кошелек с замысловатым секретным замочком, то еще что-нибудь…
Но самое главное удовольствие начиналось, когда приходила очередь «казачьему сундуку». Так назывался на Ленькином языке сундук, в котором уже много лет подряд хранилась под спудом, засыпанная нафталином, военная амуниция отца. Это был целый цейхгауз[3]3
Цейхга́уз – военный склад или кладовая для оружия и амуниции.
[Закрыть] – этот большой продолговатый сундук, обитый латунью, а по латуни еще железными скобами и тяжелыми коваными гвоздями. Чего только не было здесь! И ярко-зеленые, ломберного сукна[4]4
Ло́мберное сукно – сукно, которым обтягивают столы для карточной игры.
[Закрыть], мундиры, и такие же ярко-зеленые бекеши[5]5
Бекеша – здесь: армейский меховой полушубок.
[Закрыть], и белоснежные пышные папахи, и казачье седло, и шпоры, и стремена, и кривые казацкие шашки, и войлочные попоны, и сибирские башлыки[6]6
Башлы́к – суконный остроконечный капюшон.
[Закрыть], и круглые барашковые шапочки с полосатыми кокардами, и, наконец, маленькие лакированные подсумки, потертые, потрескавшиеся, пропахшие порохом и лошадиным потом.
В этих старых, давно уже вышедших из употребления и уже тронутых молью вещах таилась для Леньки какая-то необыкновенная прелесть, что-то такое, что заставляло его при одном виде казачьего сундука раздувать ноздри и прислушиваться к тиканью сердца. Казалось, дай ему волю, и он способен всю жизнь просидеть на корточках возле этого сундука, как какой-нибудь дикарь возле своего деревянного идола. Он готов был часами играть с потускневшими шпорами или с кожаным подсумком, набивая его вместо патронов огрызками карандашей, или часами стоять перед зеркалом в круглой барашковой шапочке или в пушистой папахе, при этом еще нацепив на себя кривую казацкую саблю и тяжелый тесак в широких сыромятных ножнах. Эти старые вещи рассказывали ему о тех временах, которых он уже не застал, и о событиях, которые случились, когда его еще и на свете не было, но о которых он столько слышал и от матери, и от бабушки, и от няньки и о которых только один отец никогда ничего не говорил. Об этих же событиях туманно рассказывала и та фотография, на которую Ленька однажды случайно наткнулся в журнале «Природа и люди».
Молодой, улыбающийся, незнакомый отец смотрел на него со страниц журнала. На плечах у него были погоны, на голове – барашковая «сибирка». Ремни портупеи перетягивали его стройную юношескую грудь.
Ленька успел прочитать только подпись под фотографией: «Героический подвиг молодого казачьего офицера». В это время в комнату вошел отец. Он был без погон и без портупеи – в халате и в стоптанных домашних туфлях. Увидев у Леньки в руках журнал, он кинулся к нему с таким яростным видом, что у мальчика от страха похолодели ноги.
– Каналья! – закричал отец. – Тебе кто позволил копаться в моих вещах?!.
Он вырвал журнал и так сильно ударил этим журналом Леньку по затылку, что Ленька присел на корточки.
– Я только хотел посмотреть картинки, – заикаясь, пробормотал он.
– Дурак! – засмеялся отец. – Иди в детскую и никогда не смей заходить в кабинет в мое отсутствие. Эти картинки не для тебя.
– Почему? – спросил Ленька.
– Потому, что это – разврат, – сказал отец.
Ленька не понял, но переспрашивать не решился.
Выходя из кабинета, он слышал, как за его спиной хлопнула дверца книжного шкафа и как несколько раз повернулся в скважине ключ.
* * *
Ленькин отец, Иван Адрианович, родился в старообрядческой петербургской торговой семье. И дед и отец его торговали дровами. Отчим, то есть второй отец, торговал кирпичом и панельными плитками.
Среди родственников Ивана Адриановича не было ни дворян, ни чиновников, ни военных: все они были старообрядцы, то есть держались той веры, за которую их дедов и прадедов, еще при царе Алексее Михайловиче, жгли на кострах. Триста лет подряд изничтожало и преследовало их царское правительство, а православная правительственная церковь проклинала, называла еретиками и раскольниками.
Поэтому старообрядцы, даже самые богатые, жили особенной, замкнутой кастой, отгородившись высокой стеной от остального русского общества. Даже в домашнем быту своем они до последнего времени держались обычаев и обрядов старины. В церковь свою ходили не иначе, как в долгополых старинных кафтанах, а женщины – в сарафанах и в беленьких платочках в роспуск. Женились и замуж выходили только в своей, старообрядческой среде. Учили детей в своих, старообрядческих школах. Ничего нового, иноземного и «прелестного» не признавали. В театры не ездили. Табак не курили. Чай, кофе не пили. Даже картофель не ели…
Правда, к концу XIX века, когда подрастал Иван Адрианович, все это было уже не так строго. Многие зажиточные старообрядцы начали отдавать детей в казенные гимназии. Кое-кто из московских и петербургских раскольников уже ездил потихоньку в театр, а там за бутылкой вина, глядишь, и сигару выкуривал…
Но все-таки это была очень скучная, мрачная и суровая жизнь, интересы которой ограничивались церковью и наживой.
Иван Адрианович учился в реальном училище. Монотонная домашняя жизнь и судьба, которая ожидала его впереди, не удовлетворяли его. Торговать ему не хотелось. Он понимал, что жизнь, которою жили его отцы и деды, не настоящая жизнь. Ему казалось, что можно жить лучше.
Недоучившись, он ушел из реального и поступил в Елисаветградское военное училище. Сделал он это против воли родителей – ему казалось, что он убегает из затхлого, полутемного склепа к широким, светлым просторам. Карьера военного мерещилась ему как что-то очень красивое, яркое, благородное, способное прославить и одухотворить.
Учился он хорошо. Училище окончил одним из первых. И так же хорошо, почти блестяще начал службу во Владимирском драгунском полку.
Но скоро и тут наступило разочарование. Офицерская среда оказалась не намного лучше купеческой. Не дослужив и до первого офицерского чина, Иван Адрианович уже подумывал об уходе в отставку.
Осуществить это временно помешало одно событие: грянула война. И опять, против воли родителей, молодой человек принимает решение: на фронт, на позиции, на маньчжурские поля, где громыхают японские пушки и льется русская кровь. Кто знает, быть может, здесь он найдет тот жизненный смысл, ту цель, к которой он стремился и которой не мог до сих пор отыскать.
Часть, в которой служил Иван Адрианович, на войну не шла. С большими трудами удалось молодому корнету перевестись в Приамурский казачий полк. Он получил звание хорунжего, облачился в сибирскую казачью форму и с первым же эшелоном отправился на Дальний Восток.
И здесь, на полях сражения, он тоже показал себя как способный и отважный офицер. Конвоируемый небольшим казачьим разъездом, он должен был по приказу начальства доставить важные оперативные сводки в штаб русского командования. По дороге на казаков напал японский кавалерийский отряд. Завязалась перестрелка. Потеряв половину людей и сам раненный навылет в грудь, Иван Адрианович отбился от неприятеля и доставил ценный пакет в расположение русского штаба. В первый день Пасхи, когда Иван Адрианович лежал в полевом лазарете, адъютант генерала Куропаткина привез ему боевой орден «Владимира с мечами». Получение этого ордена, который давался только за очень серьезные военные заслуги, делало его дворянином. Казалось, что перед Иваном Адриановичем открывается широкий заманчивый путь: слава, карьера, чины, деньги, награды… Но он не пошел по этому пути. Он не вернулся в полк. Война, которая стоила России так много крови, была проиграна. И Иван Адрианович, как и всякий честный русский человек, не мог не понимать, почему это случилось. Русская армия воевала под начальством бездарных и продажных царских генералов. И в тылу, и на фронте процветали воровство, подкуп, солдаты были плохо обучены, плохо снабжались и продовольствием, и боеприпасами. Служить в такой армии было не только бессмысленно, но и постыдно. Молодой хорунжий навсегда охладел к военной профессии. Кое-как залечив свою рану, он облачился в штатский костюм и занялся тем делом, которым занимались и отец, и дед его и от которого ему так и не удалось убежать: он стал торговать дровами и барочным лесом. Сознание, что жизнь его разбита, что она повернулась не так, как следовало и хотелось бы, уже не оставляло его. Он начал пить. Характер его стал портиться. И хотя и раньше его считали чудаком и оригиналом, теперь он чудил и куролесил уже открыто и на каждом шагу. От этой дикой запойной жизни не спасла его и женитьба. Женился он, как и все делал, быстро, скоропалительно, не раздумывая долго. Увидел девушку, влюбился, познакомился, а через пять дней, позвякивая шпорами, уже шел делать предложение. Женился он без благословения матери, к тому же на православной, на «никонианке» – этим он окончательно восстановил против себя и так уже достаточно сердитую на него староверческую родню.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.