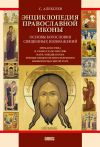Текст книги "Смысл икон"

Автор книги: Леонид Успенский
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Заметим, что формальный критерий преданий, выраженный прп. Викентием Лиринским: Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus[39]39
Ср..' Викентий Лиринский, прп. Памятные записки Перегрина, 2 // PL 50, col. 640. – Ред.
[Закрыть], – всецело может относиться лишь к тем апостольским преданиям, которые передавались из уст в уста в течение двух или трех столетий. Уже Писание Нового Завета оказывается вне этого правила, поскольку оно не было ни «всегда», ни «везде», ни «принято всеми» до окончательного установления канона Священного Писания. И что бы ни говорили те, кто забывает первичное значение Предания и желает подменить его неким «правилом веры», формула прп. Викентия еще меньше применима к догматическим определениям Церкви. Достаточно вспомнить о том, что термин ὁμοούσιος отнюдь не был «традиционным»: за немногими исключениями[40]40
До Никейского Собора термин ὁμοούσιος (единосущный. – Ред.) встречается во фрагменте комментария Оригена на Послание к Евреям, процитированном св. мучеником Памфилом (см.: PG 14, col. 1308d), в «Апологии Оригена» того же Памфила, переведенной Руфином (см.: PG 17, col. 580c-581c), а также в анонимном диалоге «Об истинной вере в Бога», который ошибочно приписывали Оригену (см.: Der Dialog des Adamantius Περὶ τῆς εἰς Θεὸν ὀρθῆς πίστεως, 2 / ed. W. H. van de Sande Bakhuyzen. Leipzig, 1901. S. 4). Святитель Афанасий Великий говорит, что свт. Дионисий Александрийский был обвинен ок. 259–261 гг. в том, что не признавал Христа единосущным Богу; Дионисий отвечал, что он избегает слова ὁμοούσιος, которого нет в Писании, но признает православный смысл этого выражения (см.: Афанасий Великий, свт. О Дионисии, епископе Александрийском, 18 // PG 25, col. 505b [рус. пер.: Творения. Т. 1. С. 461. -Ред.]). Произведение «О вере», в котором встречается выражение ὁμοούσιος в никейском значении (см.: PG 10, 1128b), не принадлежит свт. Григорию Неокесарийскому: оно было написано после Никеи, по всей вероятности в кон. IV в. Как видим, примеры использования термина ὁμοούσιος у доникейских авторов в большинстве своем недостоверны: переводу Руфина доверять нельзя. Во всяком случае, употребление этого термина до Никеи было очень ограниченным и носило случайный характер.
[Закрыть], он не употреблялся никогда, нигде и никем, разве что гностиками-валентинианами да еретиком Павлом Самосатским. Церковь обратила его в словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею (Пс. 11:7) в горниле Духа Святого и свободном сознании тех, кто судит через Предание, не соблазняясь никакой привычной формулой, никакой естественной склонностью плоти и крови, зачастую принимающей облик несознательной и невежественной набожности.
Динамизм Предания не допускает никакого окостенения ни в привычных формах благочестия, ни в догматических выражениях, которые обычно повторяются механически, словно магические, застрахованные авторитетом Церкви рецепты Истины. Хранить «догматическое предание» не означает быть привязанным к доктринальным формулам: быть в Предании – это хранить живую Истину в Свете Духа Святого или, вернее, быть хранимым в Истине животворной силой Предания. А сила эта – как и все, что исходит от Духа, – сохраняет в непрестанном обновлении.
«Обновлять» – не значит заменять старые выражения Истины новыми, более развернутыми и богословски лучше разработанными. Будь это так, мы должны были бы признать, что ученое христианство профессоров богословия представляет собой значительный прогресс в сравнении с «примитивной» верой учеников апостольских. В наши дни много говорят о «развитии богословия», часто не отдавая отчета в том, насколько это выражение (ставшее почти что общим местом) может быть двусмысленным. В самом деле, у некоторых современных авторов оно предполагает некую эволюционистскую концепцию истории христианской догматики. Именно в духе некоего «догматического прогресса» пытаются толковать следующее место свт. Григория Богослова: «…Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указания о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Не безопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом…»[41]41
Григорий Богослов, свт. Слово 31-е (О богословии 5-е: О Святом Духе), 26 //PG 36, col. 161c (цит. по: Творения. Т. 1. СПб., [1912]. С. 458. – Ред.).
[Закрыть] Но со дня Пятидесятницы «Дух среди нас», а с Ним и свет Предания, а это означает не только то, что передано (словно некий священный и безжизненный «вклад»), но и саму данную Церкви силу передачи, сопутствующую всему тому, что передается, как единственный способ принятия и обладания Откровением. Итак, единственный способ обладать Откровением в Духе Святом – это обладать им в полноте, и именно таким образом Церковь знает Истину в Предании. Если до Сошествия Духа Святого и было некое возрастание в познании Божественных тайн, некое постепенное откровение, как «свет, приходящий мало-помалу», то для Церкви это уже не так. Если и можно говорить о каком-либо развитии, то не в смысле, что познание Откровения в Церкви прогрессирует или развивается с каждым догматическим определением. Можно подвести итог всей истории вероучения с самого начала вплоть до наших дней, прочитав Энхиридион Денцингера или пятьдесят томов in folio Манси, однако наше знание Троичной тайны не станет от этого совершеннее знания отца IV века, говорившего ὁμοούσιος, или доникейского отца, не произносившего это слово, или апостола Павла, которому был еще чужд даже сам термин «Троица». В каждый момент своей истории Церковь дает своим членам способность познавать Истину в той полноте, которую не может вместить мир. Именно такой способ познания живой Истины в Предании и защищает Церковь, создавая новые догматические определения.
«Знать в полноте» – не значит «обладать полнотой знания»: последнее принадлежит лишь будущему веку. Если апостол Павел говорит, что в настоящий момент он знает отчасти (1 Кор. 13:12), то это ἐκ μέρους не исключает полноты, в которой он знает. И не дальнейшее догматическое развитие отменит это «знание отчасти» апостола Павла, но эсхатологическая актуализация полноты, в которой – смутно, но верно – христиане познают здесь, на земле, тайны Откровения. Знание ἐκ μέρους будет отменено не потому, что оно неправильное, но потому, что его роль заключалась лишь в приобщении нас к той полноте, которая превосходит всякую способность человеческого познания. Значит, только в свете полноты мы познаем «отчасти», и всегда исходя из полноты Церковь произносит свое суждение о том, принадлежит ли ее Преданию частичное знание, выраженное в том или ином учении. Неизбежно ложным окажется всякое богословие, претендующее совершенным образом раскрыть
Богооткровенную тайну: самим притязанием на полноту знания оно будет противостоять той полноте, в которой Истина познается отчасти. Учение изменяет Преданию, если хочет занять его место: гностицизм – поразительный пример попытки подменить данную Церкви динамическую полноту – условие истинного познания – разновидностью статичной полноты некой «доктрины откровения». Установленный же Церковью догмат, напротив, под видимостью частичного знания каждый раз открывает новый доступ к той полноте, вне которой невозможно ни знать, ни исповедовать Богооткровенную Истину. Будучи выражением истины, догмат веры принадлежит Преданию, отнюдь не составляя при этом одну из его «частей». Это некое средство, некое разумное орудие, дающее возможность участвовать в Предании Церкви, некий свидетель Предания, его внешняя грань или, вернее, те узкие врата, ведущие к знанию Истины в Предании.
Внутри догматической ограды знание Богооткровенной тайны, уровень христианского «гносиса», достигаемого членами Церкви, различен и соразмерен духовному возрасту каждого. Это знание Истины в Предании будет расти в человеке, сопровождая его усовершенствование в святости (см.: Кол. 1:10): достигая возраста своей духовной зрелости, христианин становится более искусным в знании. Но осмелится ли кто вопреки всякой очевидности говорить о каком-то коллективном прогрессе в познании тайн христианского учения, о прогрессе как следствии «догматического развития» Церкви? Не началось ли это развитие с «евангельского детства», чтобы в наши дни – после «патристической юности» и «схоластической зрелости» – дойти до печальной дряхлости учебников богословия? И не должна ли эта метафора (ложная, как и многие другие) уступить место некоему видению Церкви – той, которую мы встречаем в «Пастыре» Ермы, явленой в образе женщины, одновременно и молодой и старой, соединяющей в себе все возрасты в мере полного возраста Христова (Еф. 4:13)?
Если мы вернемся к изречению свт. Григория Богослова, столь часто толкуемому превратно, то увидим, что догматическое развитие, о котором идет речь, вовсе не предопределяется какой-либо внутренней необходимостью, которая постепенно увеличивала бы в Церкви знание Богооткровенной Истины. История догмата, далекая от всякой органической эволюции, зависит прежде всего от осознанного отношения Церкви к той исторической реальности, в которой она должна трудиться ради спасения людей. Если свт. Григорий Богослов и говорил о постепенном откровении Троицы до Пятидесятницы, то делал это для того, чтобы подчеркнуть, что Церковь в своей икономии по отношению к внешнему миру должна следовать примеру Божественной педагогии. Формулируя догматы (ср. «κήρυγμα» у свт. Василия Великого; см. выше на с. 10–12), она должна сообразовываться с нуждами текущего момента, «не все вдруг высказывая, и не все до конца скрывая; ибо первое неосторожно, а последнее безбожно; и одним можно поразить чужих, а другим – отчуждить своих»[42]42
Григорий Богослов, свт. Слово 31-е (О богословии 5-е: О Святом Духе), 27 // PG 36, col. 161b (цит. по: Творения. Т. 1. СПб., [1912]. С. 458. – Ред.). Известно, что свт. Григорий Богослов упрекал своего друга свт. Василия Великого в излишней осторожности по отношению к открытому заявлению о божественности Святого Духа – истине, по Преданию очевидной для верных Церкви, однако требовавшей соблюдения некоторой икономической умеренности ради «пневматомахов» (духоборцев. – Пер.), которых надлежало привести к истинной вере.
[Закрыть].
Отвечая на невосприимчивость внешнего мира, не способного к принятию Откровения, противоборствуя попыткам совопросников века сего (1 Кор. 1:20), пытающихся в самом лоне церковном понимать Истину по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2:8), Церковь видит себя обязанной выражать свою веру догматическими определениями, чтобы защищать ее от ересей. Продиктованные необходимостью борьбы, однажды сформулированные Церковью догматы становятся для верных «правилом веры», остающимся навсегда незыблемым и определяющим грань между православием и ересью, между знанием в Предании и знанием, обусловленным естественными факторами. Всегда стоящая перед преодолением новых затруднений, перед устранением постоянно возникающих интеллектуальных препятствий Церковь всегда будет защищать свои догматы. Постоянный долг ее богословов – заново объяснять и раскрывать их, сообразуясь с интеллектуальными потребностями среды или эпохи. В критические моменты борьбы за чистоту веры Церковь должна провозглашать новые догматические определения как новые этапы в этой борьбе, которая будет длиться до тех пор, когда все придем в единство веры и познания Сына Божия (Еф. 4:13). В борьбе с новыми ересями Церковь никогда не оставляет прежних своих догматических позиций и не заменяет их новыми определениями. Эти этапы никогда не будут превзойденными в процессе некоей эволюции, их невозможно сдать в архивы истории, они всегда остаются современными в живом свете Предания. Итак, говорить о догматическом развитии можно лишь в чрезвычайно ограниченном смысле: формулируя новый догмат, Церковь базируется на догматах уже существующих, составляющих правило веры как для нее, так и для ее противников. Так, халкидонский догмат использует никейский и говорит о Сыне, единосущном Отцу по божеству, чтобы сказать затем, что Сын также единосущен нам по человечеству; в борьбе против монофелитов, принимавших халкидонский догмат в принципе, отцы VI Вселенского Собора снова опираются на халки-донские формулировки о двух природах во Христе, чтобы утверждать в Нем наличие двух воль и двух энергий; византийские соборы XIV века, провозглашая догмат о Божественных энергиях, опираются, помимо всего прочего, на определения VI Вселенского Собора и т. д. В каждом случае можно говорить о некоем «догматическом развитии» в той мере, в какой Церковь расширяет правило веры, опираясь в новых своих определениях на всеми принятые догматы.
Если правило веры развивается по мере того, как учительная власть Церкви добавляет в него новые утверждения, обладающие догматическим авторитетом, то это развитие, подчиненное «икономии» и предполагающее знание Истины в Предании, не есть возрастание самого Предания. Это становится ясным, если учесть все, что было сказано о первичном понятии Предания. Злоупотребление термином «предание» (в единственном числе и без качественного прилагательного, его определяющего) теми авторами, которые видят его проекцию лишь на горизонтальный план Церкви, а также злоупотребление термином «предания» (во множественном числе или с квалифицирующими их определениями), и в особенности досадная привычка обозначать этим термином просто вероучение, сделали возможными постоянные разговоры о «развитии» или «обогащении» предания. Богословы VII Вселенского Собора прекрасно различали «Предание Духа Святого» и «Богодухновенное учение (διδασκαλία) святых отцов наших»[43]43
Denzinger H. Enchiridion Symbolorum, № 302 (Ed. 26. Freiburg im Breisgau, 1947. P. 146–147): «τὴν βασιλικὴν ὥσπερ ἐρχόμενοι τρίβον, ἐπακολουθοῦντες τῇ θεηγόρῳ διδασκαλίᾳ τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, καὶ τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας· τοῦ γὰρ ἐν αὐτῇ οἰκήσαντος ἁγίου πνεύματος εἶναι ταύτην γινώσκομεν. Ὁρίζομεν συν ἀκριβείᾳ πάσῃ καὶ ἐμμελείᾳ…» – «Мы, шествующие, так сказать, царским путем и следующие Богодухновенному учению святых отцов наших и Преданию кафолической Церкви, – ибо знаем, что в ней обитает Святой Дух, – определяем со всей точностью и старанием…» (ср.: Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. С. 590. – Ред.).
[Закрыть]. Они находили определение новому догмату «со всей точностью и старанием», потому что считали себя пребывающими в том же Предании, которое позволяло отцам ушедших веков создавать новые формулы Истины каждый раз, когда надлежало отвечать на требования дня.
Существует двойная зависимость между «Преданием кафолической Церкви» (т. е. способностью познавать Истину в Духе Святом) и «учением отцов» (т. е. хранимым Церковью правилом веры). Невозможно принадлежать Преданию, оспаривая догматы, как и невозможно пользоваться принятыми догматическими формулами для того, чтобы противопоставлять формальную «ортодоксию» всякому новому выражению Истины, родившемуся в Церкви. Первая позиция отличает революционеров-новаторов, лжепророков, которые во имя Духа, на Которого они ссылаются, грешат против выраженной Истины, против Воплощенного Слова. Вторая позиция свойственна формалистам-консерваторам, церковным фарисеям, которые во имя привычных выражений об Истине рискуют согрешить против Духа Истины.
Различая Предание, в котором Церковь познает Истину, и «догматическое предание», которое она устанавливает и хранит своей учительной властью, мы обнаруживаем между ними то же соотношение, в котором могли удостовериться, говоря о Предании и Писании: нельзя ни смешивать, ни разделять их, не лишая обоих той полноты, которой они совокупно обладают. Как и Писание, догматы живут в Предании с той лишь разницей, что канон Священного Писания образует законченный корпус, исключающий всякую возможность последующего расширения, а «догматическое предание», прочно сохраняя «правило веры», из которого ничего не может быть изъято, способно расширяться, приобретая и по мере необходимости новые, сформулированные Церковью выражения Богооткровенной Истины. Если совокупность догматов, которыми обладает и которые передает Церковь, не является раз и навсегда установленным корпусом, то тем более она не имеет ничего общего с незавершенностью доктрины «в стадии становления». В любой момент своего исторического бытия Церковь формулирует Истину веры в догматах, всегда выражающих умопознаваемую в свете Предания полноту, которую невозможно до конца выразить во внешних формулировках. Истина, полностью раскрытая, не была бы живой полнотой, присущей Откровению: «полнота» и «рациональное раскрытие» исключают друг друга. Но если тайна, открытая Христом и познаваемая в Духе Святом, не может быть раскрыта, она все-таки не остается невыразимой. Поскольку во Христе обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9), эта полнота Воплотившегося Божественного Слова выражается как в Писании, так и в «сокращенном слове» Символов веры[44]44
См. выше на с. 13 цитату из прп. Иоанна Кассиана.
[Закрыть] или других догматических определений. Полнота Истины, которую они выражают, но никогда не могут раскрыть до конца, позволяет сближать догматы Церкви со Священным Писанием. Поэтому свт. Григорий Великий объединял в том же почитании догматы первых четырех Вселенских Соборов и четыре Евангелия[45]45
См.: Григорий Великий, свт. Письма. Кн. 1, письмо 25-е // PL 77, col. 478а.
[Закрыть].
Все, что мы сказали о «догматическом Предании», может быть отнесено и к другим выражениям христианской тайны, которые Церковь создает в Предании, сообщая им ту же полноту Наполняющего все во всем (Еф. 1:23). Как и Богодухновенное учение Церкви, предание иконографическое также обретает свой полный смысл и тесную связь с другими свидетельствами веры (Писанием, догматами, литургией) в Предании Духа Святого. Иконы Христа, так же как и догматические определения, могут быть сближены со Священным Писанием и получать то же почитание, потому что иконография показывает в красках то, о чем в буквах письма благовествуют слова[46]46
«Мы повелеваем почитать святую икону Господа нашего Иисуса Христа наравне с книгой Евангелий. Потому что, так же как через внесенные в нее слоги все получают спасение, так и через краски иконописания и мудрые и невежды – все получают пользу от того, что у них имеется. Потому что, так же как слово в слогах возвещает, так то же самое представляют краски в написанном. Если кто не почитает икону Спаса Христа, да не увидит Его зрака во Втором Пришествии. Тоже и икону пречистой Его Матери, и иконы святых ангелов, (написанные) так же, как их описывает словами Священное Писание, и, кроме того, всех святых, почитаем и воздаем им честь. Те, кто этого не придерживается, да будут анафема» (Denzinger H. Enchiridion Symbolorum, № 337. – Ed. 26. P. 164–165 [цит. по: Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Коломна, 1994. С. 168. – Ред.]). – Если мы и цитируем здесь 3-й канон антифотиевского синода (869–870), постановления которого были аннулированы Церковью (не только на Востоке, но и на Западе, как показал Ф. Дворник; см.: DvornikF. Le Schisme de Photius. Paris, 1950. P. 385 sq. et passim), то делаем это потому, что данный канон является прекрасным примером имевшего место сближения Священного Писания с иконографией, объединяемых тем же Преданием Церкви.
[Закрыть]. Догматы обращены к уму, будучи умопостигаемыми выражениями той реальности, которая превышает наше разумение. Иконы воздействуют на наше сознание через внешние чувства, показывая нам ту же сверхчувственную реальность, выраженную «эстетически» (в прямом смысле слова αἰσθητικός: то, что может быть усвоено чувствами). Однако элемент умопостижения не чужд иконографии: смотря на икону, мы открываем в ней «логическую» структуру, некое догматическое содержание, определившее ее композицию. Это не значит, что иконы – своего рода иероглифы или священные ребусы, передающие догматы языком условных знаков. Если умопостижение, пронизывающее эти чувственные образы, тождественно умопостижению догматов Церкви, то оба эти «предания» – догматическое и иконографическое – совпадают постольку, поскольку каждое из них выражает присущими ему образами ту же самую Богооткровенную реальность. Хотя христианское Откровение трансцендентно для разума и чувств, оно ни того ни другого не исключает: наоборот, оно вбирает и преобразует их Светом Духа Святого в том Предании, которое есть единственный способ восприятия Богооткровенной Истины, единственный способ узнавания ее выражений в Писании, догматике или иконографии, а также единственный способ нового ее выражения.
Смысл и язык икон
Л. А. Успенский

Моленные иконы (εἰκών – образ, портрет) первых веков христианства до нас не дошли, но о них сохранились как церковные предания, так и исторические свидетельства. Церковное предание, как мы увидим из разбора отдельных изображений, возводит первые иконы ко времени жизни Самого Спасителя и непосредственно после Него. В эту эпоху, как известно, портретное искусство процветало в Римской империи. Делались портреты и людей близких, и людей почитаемых. Поэтому нет никаких оснований полагать, что христиане, особенно из язычников, составляли исключение из общего правила, и это тем более, что в самом еврействе, хранившем ветхозаветный запрет образа, в эту эпоху существовали течения, допускавшие человеческие изображения. В «Церковной истории» Евсевия мы находим, например, следующую фразу: «Я ведь рассказывал, что сохранились изображения Павла, Петра и Самого Христа, написанные красками на досках»[47]47
Евсевий Памфил. Церковная история, VII, 18, 4 // PG 20, col. 680c (цит. по: То же. М., 1993. С. 259. – Ред.).
[Закрыть]. Перед этим Евсевий подробно останавливается на описании статуи Спасителя, виденной им в городе Панеада (Кесария Филиппова в Палестине), воздвигнутой кровоточивой женой, исцеленной Спасителем (см.: Мф. 9:20–22; Мк. 5:25–34; Лк. 8:43–48)[48]48
Предполагается, что барельеф на одном из саркофагов IV в., хранящихся в Латеранском музее, является воспроизведением этого памятника.
[Закрыть].
Свидетельство Евсевия тем более ценно, что сам он крайне отрицательно относился к иконам. Поэтому и самое свидетельство его о виденных им портретах сопровождается отрицательным отзывом, как об обычае языческом[49]49
Существование такого отношения к искусству в первые века христианства дает повод утверждать, будто «христианское искусство родилось вне Церкви и, вначале по крайней мере, развивалось против ее воли. Христианство, вышедшее из иудейства, было, конечно, как религия, из которой оно выходило, враждебно всякому идолопоклонству». Это суждение Брейе (Brehier L. L’art chretien: Son developpement iconographi-que des origines a nos jours. Paris, 1928. P. 13) выражает весьма распространенное мнение в оценке отношения первохристианской Церкви к искусству. Уже не говоря о непонятном для церковного сознания смешении иконопочитания с идолопоклонством, это утверждение кажется нам столь же мало убедительным, как и приводимые в его пользу свидетельства писателей древности. Так, например, самый непримиримый из них, Климент Александрийский, протестуя против изображений, очевидно, имеет в виду идолов, поскольку он в то же время дает указания, какие символы должны изображаться на печатях, и среди этих символов имеются человеческие фигуры (см.: Климент Александрийский. Педагог, III, 11 // PG 8, col. 633ab [ср. рус. пер.: То же. М., 1996. С. 257. – Ред.]). Ссылки же на «отцов Церкви» Тертуллиана и Оригена еще менее убедительны, ибо при всем уважении к ним Церкви они не только никогда не почитались как отцы или святые, но многое из их учения было отвергнуто Церковью как неприемлемое. Поэтому нам кажется более убедительным обратное утверждение, основанное прежде всего на самом факте существования росписей катакомб, служивших, как известно, местом культа и, следовательно, известным как простым верующим, так и высшей церковной иерархии, и где распределение этих росписей указывает на определенное церковное руководство. Что же касается известного 36-го правила поместного собора в Эльвире (Испания) ок. 300 г., на которое принято ссылаться и которое запрещает изображать на стенах храмов то, что подлежит почитанию и поклонению («Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur, in parietibus depingatur»), то оно не дает достаточных оснований для толкования его в иконоборческом смысле. Собор состоялся незадолго до гонений Диоклетиана, которые можно было предвидеть, поэтому текст этот можно с тем же основанием понимать и как желание предохранить святыню от поругания (см.: Hefele K. J. von. Histoire des Conciles d’apres documents origi-naux / ed., tr. H. Leclerque. Vol. 1. Pt. 1. Paris, 1907. P. 240).
[Закрыть].
Существование иконоборческих тенденций в первые века христианства общеизвестно и вполне понятно. Христианские общины были со всех сторон окружены язычеством с его идолослужением; поэтому естественно, что многие христиане, как из евреев, так и из язычников, учитывая весь отрицательный опыт язычества, старались оградить христианство от заразы идолопоклонства, могущей проникнуть через художественное творчество, и, основываясь на ветхозаветном запрете образа, отрицали возможность его существования и в христианстве.
Однако, несмотря на присутствие этих иконоборческих тенденций, существовала та основная линия, которая постепенно и последовательно проводилась в Церкви, но без какой-либо внешней формулировки. Выражением этой основной линии и является церковное предание, указывающее на существование иконы Спасителя при Его жизни и икон Божией Матери непосредственно после Него. Это предание свидетельствует о том, что с самого начала существовало ясное понимание значения и возможностей образа и что отношение к нему Церкви неизменно; ибо это отношение вытекает из самого ее учения о Боговоплощении. Учение же это показывает, что образ изначала присущ самой сущности христианства, ибо христианство есть откровение не только Слова Божия, но и Образа Божия, явленного Богочеловеком. Через воплощение Бог-Слово, будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Отца) (Евр. 1:3), открывает миру и Образ Отчий. Бога никтоже виде нигдеже: единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда (ἐςηγήσατο) (Ин. 1:18), явил образ – икону Отца. Как «в лоне Отчем», так и по воплощении Сын единосущен Отцу, будучи равночестным по Божеству Его начертанием. Эта раскрывшаяся в христианстве истина и лежит в основе его изобразительного искусства. Поэтому категория образа, иконности, начертания не только не противоречит сущности христианства, но, будучи основной его истиной, является неотъемлемой его принадлежностью. На этом и утверждается предание, показывающее, что проповедь христианства миру изначала ведется Церковью и словом, и образом. Исходя именно из этого, и отцы VII Вселенского Собора могли сказать: «Иконописание совсем не живописцами выдумано, а напротив, оно есть одобренное законоположение и предание кафолической Церкви и, по словам божественного Василия, согласно с древностию и достойно уважения»[50]50
Деяния Вселенских Соборов. Т. 7. Казань, 1873. С. 469.
[Закрыть]; оно существовало еще во времена апостольской проповеди. Эта изначальная присущность образа христианству и объясняет, почему он появляется в Церкви и как нечто само собой разумеющееся, безмолвно и неприметно, несмотря на ветхозаветный запрет и противодействие, занимает в церковной практике надлежащее ему место. В IV в. уже целый ряд отцов Церкви (как, например, свтт. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и др.) ссылаются в своей аргументации на изображения как на нормальное и общепринятое церковное установление[51]51
Так, например, свт. Василий Великий в беседе 17-й на день св. мученика Варлаама говорит: «Восстаньте теперь передо мною вы, славные живописатели подвижнических заслуг! <…> Пусть буду побежден вашим живописанием доблестных дел мученика <…>. Посмотрю на этого борца, живее изображенного на вашей картине. <…> Да будет изображен на картине и Подвигоположник в борьбах Христос…». – Василий Великий, свт. Творения. Ч. 4. М., 1846. С. 278–279; ср.: PG 31, col. 489ab. В этом смысле характерно известное наставление одного из величайших аскетических писателей древности прп. Нила Синайского (Анкирского – Ред.) префекту Олимпиодору, построившему храм и собиравшемуся расписать его жанровыми сценами и декоративными сюжетами. Прп. Нил пишет: «Пусть рука превосходнейшего живописца наполнит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового Завета, чтобы те, кто не знает грамоты и не может читать Божественных Писаний, рассматривая живописные изображения, приводили себе на память мужественные подвиги искренне послуживших Богу и возбуждались к соревнованию достославным и приснопамятным доблестям, по которым землю обменяли на небо, предпочтя невидимое видимому» (Нил Анкирский. Послание 61-е: Олимпиодору // PG 79, col. 577d/580a).
[Закрыть].
Как выглядели иконы первых веков христианства, мы не знаем и для суждения об этом не имеем никаких данных. Однако об общем направлении искусства этого периода можно на основании последних исследований иметь довольно ясное представление.

Катакомба Прискиллы. Рим. Общий вид
В своем капитальном труде по истории византийского искусства В. Н. Лазарев, разбирая ту сложную обстановку, в которой возникало раннее христианское искусство, и опираясь на целый ряд предыдущих исследований, приходит к следующему выводу: «Примыкая во многом к античности, особенно к ее позднейшим спиритуализированным формам, оно, тем не менее, ставит себе уже с первых веков своего возникновения ряд самостоятельных задач. Это отнюдь не “христианская античность”, как это стремился доказать Зибель[52]52
См.: Sybel L. von. Christliche Antike: Einfiihrung in die altchristliche Kunst. Bd. 1–2. Marburg, 1906–1909; Idem. Das Werden christlicher Kunst // Repertorium fur Kunstwissenschaft. Bd. 39. 1916. S. 118–129; Idem. Frtihchristliche Kunst: Leitfaden ihrer Entwicklung. Mtinchen, 1920.
[Закрыть]. Новая тематика раннего христианского искусства не была чисто внешним фактом. Она отражала новое мировоззрение, новую религию, принципиально новое понимание действительности. И поэтому данная тематика не могла облекаться в старые античные формы. Она нуждалась в таком стиле, который наилучшим образом воплощал бы спиритуалистические идеалы христианства. К выработке этого стиля и были направлены все творческие усилия христианских художников»[53]53
Лазарев В. H. История византийской живописи. Т. 1. М., 1947. С. 38.
[Закрыть]. Далее автор, ссылаясь на работу Дворжака[54]54
См.: Dvorak М. Katakombenmalereien: Die Anfange der christlichen Kunst // Idem. Kunstge-schichte als Geistesgeschichte: Studien zur Abend-landischen Kunstentwicklung. Mtmchen, 1924. S. 3-40.
[Закрыть], говорит о том, что уже в росписях катакомб складывается в своих основных чертах новый стиль.

Якорь. Мраморная пластина. Катакомба Прискиллы. Рим. IV в.

Рыба. Роспись катакомбы Каллиста. Рим. IV в.

Агнец. Умножение хлебов (?). Роспись катакомбы Коммодиллы. Рим. IV в.
Тематика росписей катакомб, где начиная с I и II вв. кроме аллегорически-символических изображений (якорь, рыба, агнец и др.) имеется целый ряд изображений Ветхого и Нового Завета, показывает, что она совершенно соответствует священным текстам – библейским, литургическим и святоотеческим. Основным принципом этого искусства является образное выражение учения Церкви через изображение конкретных событий Священной истории и указание на их внутреннее значение[55]55
Смысл отдельных изображений иногда становится ясным только при сопоставлении с другими, среди которых они находятся, как, например, в серии трех изображений: 1) рыбак, вытаскивающий рыбу из воды, 2) крещение и 3) расслабленный, несущий свой одр. Первое изображение является символом обращения в христианство, затем показывается через крещение исцеление от грехов и недугов (Рим, катакомба Каллиста).
[Закрыть]. Призванное не отражать проблематику жизни, а отвечать на нее, искусство христиан с самого начала является проводником евангельского учения. Здесь уже складывается в основных чертах характер церковного искусства. Иллюзорное трехмерное пространство уступает место реальной плоскости, связь между фигурами и предметами становится условно-символической. Образ сводится к минимуму деталей и максимуму выразительности. Подавляющее большинство фигур изображаются обращенными лицом к молящимся, так как важно не только действие и взаимодействие изображенных лиц, но и их состояние, обычно молитвенное. Художник жил и мыслил образами и приводил формы к предельной простоте, глубина содержания которой доступна только духовному взору; он очищал свое произведение от всего личного, оставался анонимным, и его главной заботой была передача традиции. Он понимал, что, с одной стороны, нужно оторваться от чувственного наслаждения, а с другой стороны, что для выражения духовного мира надо пользоваться всей видимой природой, ибо, чтобы передать мир, невидимый чувственному взору, нужен не расплывчатый туман, а, наоборот, особенная четкость и точность выражения, так же как для передачи понятия о горнем мире святые отцы употребляют особенно точные и ясные выражения.

Даниил во рву львином. Роспись катакомбы на виа Анапо. Рим. IV в.

Жертвоприношение Авраама. Роспись катакомбы на виа Латина Антика. Рим. IV в.
Красота раннего христианского искусства – главным образом в том, что оно не было еще раскрытием содержащейся в нем полноты, а лишь обещанием бесконечных возможностей.
Связь этого искусства со священными текстами не означает, что оно было оторвано от жизни. Помимо того, что оно говорит на художественном языке своей эпохи, связь его с жизнью выражается не в изображении того или иного бытового или психологического момента деятельности человека, а в изображении самой этой деятельности, как, например, разных видов труда, профессий в знак того, что труд, посвященный Богу, освящается. Кроме того, сама тематика этого искусства, как мы уже сказали, не отражает проблематику жизни, а отвечает на нее.

Богоматерь с Младенцем и пророк Валаам (?). Роспись катакомбы Прискиллы. Рим. IV в.

Крещение Господне. Роспись катакомбы Петра и Маркеллина. Рим. IV в.
В эту эпоху – эпоху мученичества – мучения не показываются, так же как не описываются они в литургических текстах. Показывается не само мучение, а как ответ на него то отношение, которое должно быть к нему. Отсюда широкое распространение в росписях катакомб таких тем, как, например, Даниил во рву львином, мученица Фекла и др.

Добрый Пастырь. Роспись катакомбы Каллиста. Рим. IV в.

Амур. Роспись катакомбы Домитиллы. Рим. IV в.

Христос-Орфей. Роспись катакомбы Домитиллы. Рим. IV в.
Христианское искусство с первых веков глубоко символично, и символика эта не была явлением, свойственным исключительно этому периоду христианской жизни. Она неотделима вообще от церковного искусства потому, что та духовная действительность, которую оно выражает, не может быть передана иначе, чем символами. Однако в первые века христианства символика эта в большой мере иконографическая, т. е. сюжетная. Так, например, чтобы указать на то, что изображенная женщина с ребенком – Божия Матерь, рядом с Ней изображается пророк, указывающий на звезду (возм., Валаам)[56]56
Римская катакомба Прискиллы, (IV в.).
[Закрыть]; как указание на то, что крещение есть вступление в новую жизнь, крещаемый, даже взрослый, изображается отроком или младенцем (см. разбор иконы Крещения Господня) и т. д. Отдельные символы употреблялись не только из Ветхого и Нового Завета (агнец, добрый пастырь, рыба и др.), но и из языческой мифологии (Амур и Психея, Орфей и др). Пользуясь этими мифами, христианство восстанавливает их подлинный, глубинный смысл, наполняет их новым содержанием. Такое применение христианством элементов языческого искусства не ограничивается одним лишь первым периодом его существования. Оно и позже воспринимает из окружающего мира вообще все то, что может служить ему средством и формой выражения, подобно тому как отцы Церкви использовали аппарат греческой философии, применив ее понятия и язык к христианскому богословию.
Через классические традиции александрийского искусства, сохранившего в наиболее чистом виде греческий эллинизм[57]57
См.: Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 1. М., 1947. С. 48.
[Закрыть], христианское искусство становится наследником традиций античного искусства Греции. Оно привлекает элементы искусства Египта, Сирии, Малой Азии и др., воцерковляет полученное наследие, привлекая его достижения для полноты и совершенства своего художественного языка, перерабатывая все это сообразно с требованиями христианской догматики[58]58
При таком сложнейшем процессе формирования христианского искусства выводить происхождение христианского образа из египетского надгробного портрета, как это иногда делается, есть крайнее упрощение его генезиса, неверное ни исторически, ни догматически.
[Закрыть]. Другими словами, христианство избирает и воспринимает из языческого мира все то, что было его, так сказать, «христианством до Христа», все, что рассеяно в нем как отдельные, ущербленные частицы истины, объединяет их, приобщая к полноте откровения. «Как был этот [Хлеб] преломленный рассеян по горам и, собранный, стал един, так да соберется и Церковь Твоя от концов земли в Твое Царствие», – гласит характерная в этом смысле евхаристическая молитва древних христиан[59]59
Дидахэ, IX, 4 // Les Peres apostoliques. Vol. 1. Paris, 1907. P. 16–18 (цит. по: Учение двенадцати апостолов / пер. прот. В. Асмуса // Писания мужей апостольских. М., 2008. С. 52–53. – Ред.).
[Закрыть]. Этот процесс собирания есть не влияние языческого мира на христианство, а вливание в христианство всего того из языческого мира, чему было свойственно в него вливаться, не проникновение в Церковь языческих обычаев, а воцерковление их, не «паганизация христианского искусства», как это часто преподносится, а христианизация искусства языческого.
Приобщение к полноте откровения касается всех сторон человеческой деятельности. Воцерковляется все то, что присуще Богом созданной человеческой природе, в том числе и творчество, освящающееся через причастие к строительству Царствия Божия, осуществляемому в мире Церковью. Поэтому то, что принимается ею от мира, определяется необходимостью не Церкви, а мира, ибо в этом приобщении его к строительству Царствия Божия (в зависимости, конечно, от его свободной воли) есть основной смысл существования мира. И наоборот: основной смысл существования самой Церкви в мире есть приобщение этого мира к полноте откровения, его спасение. Поэтому и собирательный процесс, начавшийся в первые века христианства, есть нормальное, а потому и непрекращающееся действие Церкви в мире. Иначе говоря, процесс этот не ограничивается каким-либо отдельным периодом ее существования, а является ее постоянной функцией. В порядке своего строительства Церковь принимает и будет до конца принимать извне все, что является подлинным, истинным, хотя и ущербленным, восполняя то, чего в нем недостает.
Этот процесс не есть обезличивание. Церковь не отменяет особенностей, связанных с человеческой природой, со временем или местом (например, национальных, личных и др.), а освящает их содержание, вливая в него новый смысл. Особенности же эти, в свою очередь, не нарушают единства Церкви, а вносят в нее новые, свойственные им формы выражения. Таким образом осуществляется то единство в многообразии и богатство в единстве, которое в целом и в деталях выражает соборное начало Церкви. В применении к художественному языку оно означает не единообразие или некий общий шаблон, а выражение единой истины разнообразными, свойственными каждому народу, времени, человеку художественными формами, которые позволяют отличать иконы различных национальностей и различных эпох, несмотря на общность их содержания.
Как мы сказали выше, в сознании Церкви домостроительство спасения органически связано с образом. Поэтому и учение о нем является не чем-либо обособленным, т. е. придатком, но вытекает из учения о спасении, будучи его неотъемлемой частью. Оно во всей своей полноте изначала присуще Церкви, но, как и другие стороны ее учения, утверждается постепенно, в ответ на нужды момента, как, например, в 82-м правиле Пято-Шестого (Трулльского) Собора, или в ответ на ереси и заблуждения, как это было в период иконоборчества. Здесь произошло то же самое, что было с догматической истиной Боговоплощения. Она исповедовалась первыми христианами более практически, самой их жизнью, не имея еще достаточно полного теоретического выражения; но потом в силу внешней необходимости, ввиду появления ересей и лжеучений, она была точно формулирована. Так было и с иконой: начало ее догматического обоснования полагается Трулльским Собором 691–692 гг. в связи с изменением символики церковного искусства, на пути развития которого указанное правило становится одним из важнейших этапов, поскольку здесь впервые дается ему принципиальное направление. Правило 82-е Пято-Шестого Собора гласит: «На некоторых живописях честных икон изображается агнец, указуемый перстом Предтечи, который был принят за образ благодати, потому что посредством закона предуказал нам истинного Агнца Христа Бога нашего. Мы же, уважая древние образы и сени, преданные Церкви в качестве символов и предначертаний истины, отдаем предпочтение благодати и истине, принявши ее как исполнение закона. Посему, чтобы и в живописных произведениях представлялось взорам всех совершенное, определяем, чтобы на будущее время и на иконах начертывали вместо ветхого агнца образ Агнца, поднимающего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике, усматривая чрез этот образ высоту смирения Бога-Слова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира»[60]60
Деяния Вселенских Соборов. Т. 6. Казань, 1871. С. 621–622.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?