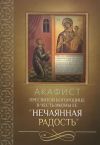Текст книги "Смысл икон"

Автор книги: Леонид Успенский
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Рождество Христово. Византия. Первая половина XV в. Византийский музей

Рождество Богородицы. Миниатюра греческой рукописи Гомилии Иакова Коккиновафского. Первая половина XII в. Ватиканская библиотека
Вторая реальность – присутствие всеосвящающей благодати Духа Святого, святость – не передаваема никакими человеческими средствами, так же как невидима она для внешнего, чувственного взгляда. В жизни, встречая святых, мы проходим мимо, не замечая их святости, ибо внешних признаков она не имеет. «Мир не видит святых подобно тому, как слепые не видят света», – говорит митрополит Филарет[92]92
Филарет (Дроздов), митр. Слово 57-е, вдень Благовещения Пресвятой Богородицы // Слова и речи. Т. 3. М., 1877. С. 12.
[Закрыть]. Но, будучи невидима для непросвещенного взора, святость очевидна для вйдения духовного. Церковь, признавая человека святым, прославляя его, указывает на его святость видимым образом на иконах с помощью установленного ею символического языка: нимба, форм, красок и линий. Эта символика указывает на то, чего непосредственно изобразить нельзя. Но при ее посредстве Откровение горнего мира, будучи выраженным в материи, становится явным для всякого человека, доступным созерцанию и разумению. Она раскрывает то, чего человек достиг своим подвигом и как он этого достиг. Поэтому иконописный канон, о котором говорилось выше, определяет не только сюжет иконы – то, что изображается, но и то, как его следует изображать, какими средствами можно указать на присутствие благодати Духа Святого в человеке и как сообщить его состояние другим.

Св. Евфимий. Фреска кафоликона монастыря Пантократор. 1363 г. Афон

Горки. Деталь иконы Св. Иоанн Креститель. Ангелос. Середина XV в. Византийский музей
Выше мы говорили, что икона есть внешнее выражение преображенного состояния человека, его освящения нетварным Божественным светом. Как в святоотеческой письменности, так и в житиях православных святых мы часто встречаемся с этим явлением света, как бы внутренним солнцевидным излучением ликов святых в моменты их высшего духовного подъема и прославления. Это явление света передается в иконе венчиком, который и является точной живописной передачей действительного явления духовного мира. Духовный же строй, внутреннее совершенство человека, внешним проявлением которого является этот свет, ни иконографически, ни словесно передать невозможно. Обычно, когда отцы и аскетические писатели доходят до описания самого момента освящения, они характеризуют его лишь как полное молчание в силу его совершенной неописуемости и невыразимости. Однако действие этого состояния на человеческую природу, и в частности на тело, все же поддается в известной мере описанию и изображению. Так, например, прп. Симеон Новый Богослов, как мы видели, прибегает к образам. Русский епископ XIX в. Игнатий Брянчанинов описывает его более конкретно: «Когда молитва осенится Божественною благодатию <…>, – говорит он, – вся душа повлечется к Богу непостижимою духовною силою, увлекая с собою и тело. <…> Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения: радости о Бозе живе (Пс. 83:3)»[93]93
Игнатий (Брянчанинов), еп. Аскетические опыты // Сочинения. Т. 1. СПб., 1886. С. 270.
[Закрыть]. Другими словами, когда человек достигает того, что обычное рассеянное состояние, «помыслы и ощущения, возникающие от падшего естества»[94]94
Там же. С. 271.
[Закрыть], сменяются при содействии Духа Святого сосредоточенным молитвенным состоянием, все существо человека сливается воедино в общем устремлении к Богу. «Все, что было в нем беспорядком, – говорит св. Дионисий Ареопагит, – упорядочивается, что было бесформенным – оформляется, и жизнь его просвещается полным светом»[95]95
Дионисий Ареопагит, св. О церковной иерархии, II, 3, 8 // PG 3, col. 437a (ср.: Сочинения / подг. Г. М. Прохоровым. СПб., 2002. С. 603–604. – Ред.).
[Закрыть]. Сообразно с этим состоянием святого вся фигура его, изображенная на иконе, его лик и другие детали – все теряет свой чувственный вид тленной плоти, одухотворяется. Переданное в иконе, это измененное состояние человеческого тела является видимым выражением догмата преображения и имеет величайшее воспитательное значение[96]96
См., например, лик св. апостола Павла (с. 173), св. великомученика Георгия (с. 192) и др.
[Закрыть]. Слишком тонкий нос, маленький рот, большие глаза – все это условная передача состояния святого, чувства которого «утончены», как говорили в старину. Органы чувств, так же как и остальные детали: морщины, волосы и т. д., – все подчинено общей гармонии образа и, так же как и все тело святого, объединено в одном общем устремлении к Богу. Все приведено к высшему порядку: в Царстве Духа Святого нет беспорядка, «ибо Бог есть Бог порядка и мира»[97]97
Симеон Новый Богослов, прп. Слово 15-е, 2 // Слова. Вып. 1. М., 1892. С. 143.
[Закрыть]. Беспорядок же есть атрибут человека падшего, следствие его падения. Конечно, это не значит, что тело перестает быть тем, что оно есть, оно не только остается телом, но, как мы говорили выше, сохраняет все физические особенности данного лица. Но переданы они в иконе так, что она показывает не житейское лицо человека, как это делает его портрет, а его прославленный вечный лик[98]98
Как пример преложения земного облика святого в икону приведем следующий случай. При открытии мощей, оказавшихся нетленными, свт. Никиты, архиепископа Новгородского, в 1558 г. с его лика был сделан посмертный портрет и послан церковной власти с письмом следующего содержания: «И мы, Господине, милости ради святого послали тебе на бумазе образ святого Никиты епископа <…>. А с того, Господине, с образца вели написать икону образ святого» (цит. по: Кондаков Н. П. Русская икона. Т. 3: Текст. Ч. 1. Прага, 1931. С. 19).
[Закрыть]. Если этот язык иконы стал для нас непривычным и кажется «наивным» и «примитивным», то это не вследствие того, что икона «отжила» или утеряла свою жизненную силу и значение, а в силу того, что «даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками»[99]99
Игнатий (Брянчанинов), еп. Указ. соч. С. 346.
[Закрыть].
Отмеченный выше прием не только символически передает в образе преображенное состояние святого, но имеет определенное созидательное и воспитательное значение. Он обращен к нам и является назиданием и указанием, как мы должны держать себя в нашей молитве, нашем общении с Богом, указанием на то, что наши чувства не должны рассеиваться и отвлекаться от молитвы проявлениями внешнего мира. Прекрасную словесную иллюстрацию этого приема в иконе мы находим в Добротолюбии, в творениях прп. Антония Великого. «Дух сей, – говорит он, – сочетавшись с умом <…> научает его держать в порядке тело – все, с головы до ног: глаза, чтоб смотрели с чистотою; уши, чтоб слушали в мире <…> и не услаждались наговорами, пересудами и поношениями; язык, чтоб говорил только благое <…> руки, чтоб были приводимы прежде в движение только на воздеяние в молитвах и на дела милосердия <…> чрево, чтоб держалось в должных пределах в употреблении пищи и пития <…> ноги, чтоб ступали право и ходили по воле Божией <…>. Таким образом тело все навыкает всякому добру и изменяется, подчиняясь власти Св. Духа, так что наконец становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресение праведных»[100]100
Добротолюбие. Т. 1. М., 1895. С. 26–27.
[Закрыть].
Итак, икона не отрывается от мира, не замыкается в себе. Ее обращенность к миру подчеркивается еще и тем, что святые обычно изображаются лицом к молящемуся или вполоборота. В профиль они почти не изображаются, даже в сложных композициях, где общее их движение обращено к композиционному и смысловому центру. Профиль в некотором смысле уже прерывает общение, он как бы начало отсутствия. Поэтому он допускается главным образом в изображении лиц, не достигших святости (см., например, пастухов или волхвов в иконе Рождества Христова).

Дева Мария. Деталь иконы Благовещение. Конец XIV в. ГТГ

Св. апостол Иаков. Деталь иконы Преображение Господне. Мастер круга Феофана Грека. Начало XV в. ГТГ
Икона ни в коем случае не стремится расчувствовать верующего. Ее задача состоит не в том, чтобы вызвать в нем то или иное естественное человеческое переживание, а в том, чтобы направить на путь преображения всякое чувство, так же как и разум, и все другие свойства человеческой природы. Как мы говорили выше, благодатное освящение ничего не упраздняет из свойств этой природы, так же как огонь не упраздняет свойств железа. В соответствии с этим и икона, передавая тело человека со всеми его особенностями, не упраздняет ничего человеческого: она не исключает ни элемента психологического, ни элемента мирского. Икона передает и чувства человека (смущение Божией Матери в Благовещении, ужас апостолов в Преображении и т. д.), и знания, и художественное творчество (см., например, разбор иконы Рождества Христова), и ту земную деятельность – церковную (святителя, монаха) или светскую (князя, воина, врача), – которую святой обратил в духовный подвиг. Но, так же как и в Священном Писании, весь груз человеческих мыслей, чувств и знаний изображается на иконе в своем соприкосновении с миром божественной благодати, и от этого соприкосновения, как в огне, сгорает все, что не очищается. Всякое проявление человеческой природы осмысляется, просвещается, находит свое подлинное значение и место. Таким образом, именно в иконе все человеческие чувства, мысли и дела, как и само тело, переданы во всей своей полноценности.

Свв. Иаков, брат Божий, Косма и Дамиан. Первая половина XVI в. ЦМиАР
Икона, таким образом, – и путь, и средство; она сама молитва. Отсюда иератичность иконы, ее величественная простота, спокойствие движения; отсюда ритм ее линий, ритм и радость ее красок, вытекающие из совершенной внутренней гармонии[101]101
Несмотря на то что икона есть прежде всего язык красок, которые так же символичны в ней, как линия и форма, мы не касаемся здесь их символики и почти не касаемся ее в разборе отдельных икон, потому что, за исключением нескольких основных цветов, смысл ее за последние столетия почти целиком утерян, а потому есть опасность индивидуальных, произвольных толкований. Здесь открывается область предположений, иногда весьма заманчивых, но лишенных достоверности, а потому не всегда, а вернее, никогда не убедительных, хотя Евгению Трубецкому и удалось наметить некоторые общие принципы (см.: Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках: Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. М., 1916; Он же. Два мира в древнерусской иконописи. М., 1916). Исходя из общего принципа православной символики, нужно сказать, что не следует придавать символического значения каждому оттенку, так же как в иконографии – каждой детали и каждой линии рисунка. Как там, так и тут символика заключается лишь в основном: в главных цветах и общих линиях.
[Закрыть].
Преображение человека сообщается всему его окружению, ибо свойство святости – освящение всего окружающего, соприкасающегося со святым мира. Она имеет значение не только личное, но и общечеловеческое, и космическое. Поэтому весь видимый мир, изображаемый на иконе, меняется, становится образом грядущего единства всей твари, Царства Духа Святого. В соответствии с этим все, что изображается на иконе, отражает не беспорядок нашего греховного мира, а божественный порядок, покой, где царствует не земная логика, не человеческая мораль, а божественная благодать. Это новый порядок в новой твари. Поэтому то, что мы видим на иконе, не похоже на то, что мы видим в обыденной жизни. Божественный свет проникает всё, и поэтому нет никакого источника света, освещающего изображенное на иконе с той или другой стороны: предметы не отбрасывают теней, ибо их нет в Царствии Божием. Все залито светом; на техническом языке иконописцев «светом» называется самый фон иконы. Люди не жестикулируют; их движения не беспорядочны, не случайны; они священнодействуют, и каждое их движение носит характер сакраментальный, литургический. Начиная с одежды святого все теряет свой обычный беспорядочный вид: люди, пейзаж, архитектура, животные. Вместе с фигурой самого святого все подчинено одному ритмическому закону, все сконцентрировано на духовном содержании и действует как полное единство: земля, растительный и животный мир изображаются не для того, чтобы приблизить зрителя к тому, что мы видим в окружающей нас действительности, а для того, чтобы саму природу сделать участницей преображения человека и, следовательно, приобщить ее вневременному бытию. Как по вине человека тварь пала, так его святостью она освящается. Поэтому отдельной иконы твари, вне человека, не может быть.
Особняком стоит и играет совершенно особую роль в иконе архитектура. Указывая, так же как и пейзаж, на то, что происходящее в иконе действие исторически связано с определенным местом, она, тем не менее, это действие никогда в себе не вмещает, а лишь служит для него фоном, ибо по самому смыслу иконы действие не замыкается, не ограничивается местом, так же как, явленное во времени, оно не ограничивается временем. Поэтому сцена, происходящая внутри здания, всегда развертывается перед зданием. Только с XVII в. иконописцы, подпавшие под западное влияние, начали изображать действие происходящим внутри здания. С человеческой фигурой архитектура связана общим смыслом и композицией, но очень часто логической связи с ней не имеет (см., например, ил. на с. 200: св. Макарий Унженский, а также на с. 178: св. евангелист Лука). Если мы сравним то, как передается в иконе человеческая фигура и как передается здание, то увидим между ними большую разницу: человеческая фигура, за редкими исключениями, всегда правильно построена, в ней все на своем месте; то же и в одежде. Ее разделка, построение складок и т. д. не выходит из рамок логики. Архитектура же как по своим формам, так и по их распределению часто идет вразрез с человеческой логикой и в отдельных деталях подчеркнуто алогична. Двери и окна часто пробиты не на месте, размер их не соответствует назначению и т. д (см. характерный пример в иконе Благовещения, ил. на с. 256, где ножка непонятной надстройки висит над столь же непонятным отверстием в потолке). Смысл этого явления в том, что архитектура – единственный элемент в иконе, при помощи которого можно ясно показать, что происходящее перед нашими глазами действие – вне законов человеческой логики, вне законов земного бытия. Характерно, что эта алогичность архитектуры существовала в русской иконе вплоть до начала упадка, т. е. до того момента, когда в конце XVI – начале XVII в. начало теряться понимание иконописного языка. С этого времени архитектура становится логичной и происходит фантастическое, сказочное нагромождение уже совершенно рациональных архитектурных форм.
Из вышесказанного явствует, что в задачу иконы ни в коем случае не входит создание иллюзии самого изображенного на ней предмета или события, ибо по самому своему определению икона (т. е. образ) противоположна иллюзии. Глядя на нее, мы не только знаем, но и видим, что стоим не перед самим лицом или событием, а перед его образом, т. е. предметом, который своей природой коренным образом отличается от своего первообраза. Этим исключается всякая попытка создать иллюзию реального пространства или объема. Пространство и объем в иконе ограничиваются плоскостью доски и не должны создавать искусственного впечатления выхода за нее. Однако это искусство не плоскостное в том смысле, как искусства Востока: живописная идея объема всегда существует в иконе, в трактовке самих фигур, ликов, одежд, зданий и т. д.; композиция в иконе всегда пространственна, и в ней есть определенная глубина. Она передает три измерения, но эти три измерения никогда не нарушают плоскости доски. Всякое нарушение этой плоскости, хотя бы частичное, ущербляет смысл иконы. Сохранению реальной плоскости в сильной степени способствует так называемая обратная перспектива, точка исхода которой находится не в глубине изображения, а перед изображением, как бы в самом зрителе[102]102
Мнение, что древние иконописцы не знали прямой перспективы и потому пользовались обратной, ни на чем не основано и опровергается самой же иконой. Если мы внимательно посмотрим, например, на икону Троицы Рублева (ил. на с. 299), то увидим, что в ней применены обе перспективы: прямая и обратная. Так, отверстие для ящичка в столе и здание представлены в прямой перспективе, подножия Ангелов, сам стол и головы Ангелов – в обратной. Этот прием сочетания двух перспектив не редкость в древних иконах; однако предпочтение всегда отдается обратной перспективе.
[Закрыть]. Человек как бы стоит у начала пути, который не сосредоточивается где-то в глубине, а открывается перед ним во всей своей необъятности. Обратная перспектива не втягивает взгляд зрителя, а, наоборот, задерживает, препятствуя возможности проникнуть и войти в изображение, в его глубину, концентрируя все внимание зрителя на самом изображении.
Описанная символика иконы, естественно, порождает вопрос: на чем мы основываемся, утверждая, что символы, которыми мы пользуемся для передачи, вернее, для указания на преображенное состояние человека, действительно соответствуют этому состоянию, а не уводят нас в мир воображаемый, фантастический? Ответить на этот вопрос мы можем словами апостола Павла: мы имеем облежащь нас облак свидетелей (Евр. 12:1). Действительно, если в иконографии святых и событий Священной истории Церковь приняла те переводы, которые наиболее полно и точно выражают историческую реальность, то реальность Царства Духа Святого сообщается людьми, стяжавшими уже здесь, в наших земных условиях, начатки этого Царствия. Подобно тому как великие подвижники оставили нам в словесных образах описания Царствия Божия, которое было внутри их (см.: Лк. 17:21), другие подвижники оставили те же описания его в образах видимых, на языке художественных символов, и свидетельство их столь же подлинно. Оно – то же откровенное богословие, только в образах. Это своего рода писание с натуры при помощи символов, так же как и словесные описания святых отцов, «ибо мы говорим о том по созерцанию, – свидетельствует прп. Симеон Новый Богослов. – Почему и сказываемое должно быть именуемо паче повествованием о созерцаемом, а не помышлением (νόημα)»[103]103
Симеон Новый Богослов, прп. Слово 63-е, 3 // Слова. Вып. 2. М., 1890. С. 115.
[Закрыть]. Как Священное Писание, так и священный образ передает не человеческие идеи и представления об истине, а саму истину – Божественное откровение. Ни реальность историческая, ни реальность духовная не допускают никакого вымысла. Поэтому церковное искусство, как мы сказали, реалистично в самом строгом смысле этого слова как в своей иконографии, так и в своей символике. Идеализации в подлинном церковном искусстве нет, так же как нет ее и в Священном Писании, и в литургии, и быть не может, ибо идеализация, как привнесение субъективного, ограниченного элемента, неизбежно в той или иной мере ущербляет или искажает истину. Распространенное мнение, что церковное искусство, и в частности икона, идеалистичны, что икона передает некую высшую идею, мнение, основанное на том, что реализм этого искусства не похож на то, что обычно понимается под этим словом, есть чистое недоразумение. Как раз наоборот: как только в образе появляется идеализация, так он перестает быть иконой. Это понятно, ибо от себя человек может возвещать только о самом себе. Никто не может возвещать о божественной жизни сам от себя. «Кто может сказать что сам от себя о каком-либо предмете, которого прежде не видал? <…> как можно сказывать и извещать что-либо о Боге, о божественных вещах и о святых Божиих, т. е. какого общения с Богом сподобляются святые и что это за ведение Бога, которое бывает внутрь их и которое производит в сердцах их неизъяснимые воздействия, – как можно сказать о сем что-либо тому, кто не просвещен наперед светом ведения?»[104]104
Там же. С. 115–116.
[Закрыть] Поэтому икону выдумать нельзя. Только люди, знающие по собственному опыту то состояние, которое в ней передается, могут создавать соответствующие ему образы, являющиеся действительно «объяснением и обнаружением скрытого»[105]105
Иоанн Дамаскин, прп. Слово 3-е против порицающих святые иконы, I, 17 // Указ. изд. С. 100.
[Закрыть], т. е. участия человека в жизни созерцаемого им преображенного мира, подобно тому как Моисей сотворил такие образы, какие видел, и сделал херувимов, какими видел их[106]106
См.: Деяния Вселенских Соборов. Т. 7. С. 231–232.
[Закрыть], т. е. по «образу, показанному на горе» (ср.: Исх. 25:40). Только такой образ может в своей подлинности и убедительности указать нам путь и увлечь нас к Богу. Никакое артистическое воображение, никакое совершенство техники, никакой художественный дар не может заменить положительного знания «от видения и созерцания»[107]107
Симеон Новый Богослов, прп. Слово 63-е, 3. – С. 115.
[Закрыть].
Из этого, конечно, не следует выводить заключение, что одни только святые могут писать иконы. Церковь состоит не только из святых. Все члены ее, живущие сакраментальной жизнью, имеют право и обязаны следовать их пути. Поэтому всякий православный иконописец, живущий в Предании, может создавать подлинные иконы. Однако неистощимым источником, питающим церковное искусство, является Сам Дух Святой через Церковь, посредством людей, просвещенных божественной благодатью и достигших непосредственного ведения Бога и общения с Ним и потому прославленных Церковью как святые иконописцы. Таким образом, роль Предания не ограничивается передачей самого факта существования иконы. С одной стороны, оно передает образ события Священной истории, прославленного Церковью святого как память об этом событии или лице, с другой стороны, оно есть постоянный, неиссякаемый ток ведения, сообщаемый Духом Святым Церкви. Поэтому Церковь неоднократно, как соборными постановлениями, так и голосом своих иерархов указывала на необходимость следовать Преданию и писать «так, как писали древние святые иконописцы». «Изображай красками согласно Преданию, – говорит св. Симеон Солунский, – это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать Божия покоится на ней потому, что изображаемое свято»[108]108
Симеон Фессалоникийский, свт. Диалог против ересей, XXIII // PG 155, col. 113d.
[Закрыть].
В силу этого и само творчество иконы принадлежит к категории, в корне отличной от того, что обычно понимается под этим словом. Оно носит характер творчества соборного, а не личного. Иконописец передает не свое «помышление», а «повествование о созерцаемом», т. е. фактическое знание, то, что видел хотя и не он сам, но верный свидетель. Опыт этого свидетеля, получившего и передавшего откровение, обрастает опытом всех, кто принял его после него. Таким образом, единство откровенной истины сочетается с многообразным личным опытом ее восприятия. Для того чтобы принять и передать полученное свидетельство, иконописец должен не только верить в его подлинность, но и быть участником той жизни, которой жил свидетель откровения, идти с ним одним путем, т. е. быть членом тела Церкви. Только тогда он может сознательно и верно передавать полученное свидетельство. Отсюда необходимость постоянного участия в сакраментальной жизни Церкви; отсюда же и моральные требования, предъявляемые Церковью иконописцам. Для подлинного иконописца творчество – путь аскезы и молитвы, т. е., по существу, путь монашеский. Красота иконы и ее содержание хотя и воспринимаются каждым зрителем субъективно, в меру его возможностей, выражаются иконописцем объективно, через сознательное преодоление своего «Я», подчинение его откровенной истине, авторитету Предания. Пресловутое «я так вижу» или «я так понимаю» в данном случае совершенно исключается; иконописец работает не для себя и не для своей славы, а во славу Божию. Поэтому икона никогда не подписывается. Свобода иконописца состоит не в беспрепятственном выражении его личности, его «Я»[109]109
В этом плане творчество иконописца представляет полную противоположность творчеству западного, или западнического, религиозного искусства, где свобода понимается как ничем не стесняемое выражение личности художника, его «Я», и где индивидуальные чувствования, вера, понимание и опыт той или иной человеческой личности ставится выше исповедания объективной истины Божественного откровения. Все творчество художника без таинства исповеди, очищающего его в покаянии, становится как бы публичной исповедью. Эта публичная исповедь без покаяния не очищает и не освобождает художника, но заражает зрителя всем тем, что он в себе несет. «Свобода» художника проявляется здесь за счет свободы зрителей, которым навязывается личное восприятие художника, заслоняющее от них реальность Церкви. Художник, сознательно или бессознательно стоящий на этом пути, подчинен своей чувственности и эмоциональности; создаваемый им образ неизбежно теряет свое литургическое содержание и значение. Кроме того, индивидуальный подход к искусству в Церкви разрушает его единство, раздробляет его, лишая отдельных художников связи между собой и с Церковью. Другими словами, принцип соборности уступает культу личности, обособленности, оригинальности, крайним проявлением которых является, например, недавно расписанная римо-католическая церковь в Асси (Франция). Пример Бернадетты Лурдской в этом смысле является весьма показательным: «Когда ей показали альбом изображений Божией Матери, она с отвращением отбросила изображения эпохи Ренессанса, отнеслась терпимо к изображениям Фра Анжелико, но остановилась с некоторым удовлетворением на фресках и мозаиках совершенно примитивных, неподвижных и обезличенных». – Martindale C.C. What the saints looked like. L., 1947 (Catholic Truth Society, B397); цитировано в статье: Devaux Eloi, dom. L’agonie de l’art sacre // Zodiaque: Cahiers de l’Atelier du Coeur-Meurtry. № 2. 1951. P. 24).
[Закрыть], а в «освобождении от всех страстей и от похотей мирских и плотских»[110]110
Симеон Новый Богослов, прп. Слово 87-е // Слова. Вып. 2. С. 456.
[Закрыть]. Это та духовная свобода, о которой говорит апостол Павел: …идеже Дух Господень, ту свобода (2 Кор. 3:17). На этом пути руководящим началом является вышеупомянутый иконописный канон. Он представляет собой не сумму внешних правил, ограничивающих творчество художника, а внутреннюю необходимость, сознательно принятую как созидательное правило, как один из видов церковного Предания наравне с преданием литургическим, аскетическим и другими. Иными словами, канон есть та форма, в которую Церковь облекает подчинение воли человеческой воле Божией, их сочетание, и эта форма дает личности фактическую возможность не быть в подчинении у своей греховной природы, а овладеть ею, подчинить ее себе, быть «господином своих действий и независимым»[111]111
Иоанн Дамаския, прп. Точное изложение православной веры, II, 27. – С. 109.
[Закрыть], или, как говорит св. апостол Павел: Вся ми леть суть… но не аз обладая буду от чего (1 Кор. 6:12). Этим путем максимально осуществляется свободное творчество человека, источником питания которого становится благодать Духа Святого. Поэтому только церковное творчество есть прямое участие в божественном акте, действие в полной мере литургическое, а потому наиболее свободное.
Степень литургического качества искусства пропорциональна степени духовной свободы художника. Икона может быть технически совершенна, но духовно стоять на низком уровне; и наоборот, есть иконы, написанные грубо и примитивно, но очень высокого духовного уровня.
Задача иконописца имеет много общего с задачей священнослужителя. Так, например, Феодосий Пустынник проводит между ними определенную параллель. Он говорит: «Божественная служба иконное воображение от святых апостол начало прият, подобает священнику и иконописцу чистым быти или женитися и по закону жити, понеже священник служа божественными словесы составляет Плоть, ейже мы причащаемся во оставление грехов. И иконописец же вместо словес начертает и воображает плоть и оживляет, имже мы покланяемся первообразных ради любве державне, а не служебне…»[112]112
Подлинник иконописный / изд. С. Т. Большакова, под ред. А. И. Успенского. М., 1903. С. 3.
[Закрыть] Как священнослужитель не может ни изменять литургических текстов по своему усмотрению, ни вносить в их чтение никаких эмоций, могущих навязать верующим его личное состояние или восприятие, так и иконописец обязан придерживаться освященного Церковью образа, не внося в него никакого личного, эмоционального содержания, ставя всех молящихся перед одной и той же реальностью и оставляя каждому свободу реагировать в меру своих возможностей и в соответствии со своим характером, потребностями, обстоятельствами и т. д. При этом как священнослужитель совершает службу в соответствии со своими природными дарованиями и особенностями, так и иконописец передает образ соответственно своему характеру, дарованиям и техническому опыту.
Иконописание посему не есть копирование. Оно далеко не безлично, потому что следование традиции никогда не связывает творческих сил иконописца, индивидуальность которого проявляется как в композиции, так и в цвете и в линии; но личное здесь проводится гораздо тоньше, чем в других искусствах, и потому часто ускользает от поверхностного взгляда. Уже давно отмечался факт отсутствия одинаковых икон. Действительно, среди икон на одну и ту же тему, несмотря порой на их исключительную близость, мы никогда не встречаем двух икон, которые были бы абсолютно тождественны (за исключением случаев нарочитого копирования в позднейшее время). Делаются не копии икон, а списки с них, т. е. свободное, творческое их переложение.
* * *
Исходя из смысла и содержания иконы, отцы VII Вселенского Собора, утвердив возможность передавать через освященную Боговоплощением материю благодатное состояние человека, определили поставлять иконы для почитания повсеместно, подобно изображению Честного и Животворящего Креста: «…во святых церквах Божиих на священных сосудах и одеждах, на стенах и на дощечках или в домах и при дорогах…»[113]113
Деяния Вселенских Соборов. Т. 7. С. 593.
[Закрыть] Это постановление Священного Собора свидетельствует о том, что в сознании Церкви роль иконы, передаваемая Преданием, не ограничивается хранением памяти о священном прошлом. Роль ее как в Церкви, так и в мире отнюдь не консервативная, а динамически строительная. Икона рассматривается как один из путей, при помощи которых можно и должно стремиться к достижению поставленной перед человечеством задачи уподобления Первообразу, к воплощению в жизни того, что явлено и передано Богочеловеком. В этом смысле иконы поставляются повсеместно как откровение будущей святости мира, его грядущего преображения, проект его реализации и, наконец, как проповедь благодати и присутствие в мире освящающей его святыни. «Ибо святые и при жизни были исполнены Святого Духа, также и по смерти их благодать Святого Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в их чертах, и в святых их изображениях…»[114]114
Иоанн Дамаскин, прп. Слово 1-е против порицающих святые иконы, I, 19 // Указ. изд. C. 16.
[Закрыть]
Таким образом, когда в XIV столетии в ответ на схоластическое учение, выявившееся в споре о Фаворском свете, Церкви пришлось явить в форме догматического определения свое учение об обожении человека, то она уже не только фактически, духовным опытом своих подвижников, но и образно, на языке искусства, учила о действии в человеке Божественной энергии, о благодатном его озарении, преображении. Этот наметившийся в первохристианскую эпоху вдвойне реалистический язык церковного искусства получает свое догматическое обоснование в связи с утверждением догмата о вочеловечении Второго Лица Святой Троицы («Бог стал Человеком») в первый период истории Церкви, завершившийся торжеством Православия. Во второй период, в течение шести веков после иконоборчества, когда центральным вопросом является вопрос о Святом Духе в связи с защитой другого аспекта того же догмата («чтобы человек стал богом»), образный язык Церкви совершенствуется и уточняется. В этот период окончательно складывается тот ставший классическим язык иконы, который вполне соответствует ее содержанию. С этим периодом связан и расцвет церковного искусства в разных православных странах: в Греции, на Балканах, в России, Грузии и др.
Однако как сама святость, отражением которой является икона, проявляется по-разному в разных народах и эпохах в соответствии с их особенностями, так и каждый народ и каждая эпоха, передавая в образах одну и ту же истину, создают иконы различных типов, порой очень близких, порой сильно отличающихся друг от друга. В этом нет противоречия, ибо единое Откровение выражается в различных своих аспектах в зависимости от потребностей той или иной эпохи, того или иного народа. Так, суровая иератичность икон византийских не противоречит мягкости и умиленности икон русских, ибо Бог не только Вседержитель и грозный Судия, но и Спаситель мира, принесший Себя в жертву за грехи людей. Как уже в первохристианскую эпоху, так и впоследствии икона не ограничивается выражением одной догматической, духовной, т. е. внутренней, жизни Церкви. Через людей, которые ее творят, она находится в живой связи с внешним миром, являя духовный облик каждого народа, его характер, его историю средствами и способами, свойственными каждой эпохе и каждому народу, отвечая на всю сложную проблематику момента и места. Но как бы сильно ни проявлялись в иконе черты, связывающие ее с внешним миром, все же они являются только внешними признаками, а не сущностью иконы, которая заключается прежде всего в выражении церковного учения.
В связи с даром выражения, свойственным как отдельному человеку, так и целому народу, а также в связи с тем, в какой мере Откровение опытно переживается, оно и передается в образе более или менее совершенно. Эти два положения лежат в основе как общности, так и различия, которые существуют между иконами различных народов и эпох. Степень подчинения дара выражения Откровению, которое он должен выразить, обусловливает духовную высоту и чистоту образа. В этом смысле наиболее характерен пример Византии и России, двух стран, в которых церковное искусство достигло наибольшей высоты своего выражения. Искусство Византии, аскетическое и суровое, торжественное и изысканное, не всегда достигает той духовной высоты и чистоты, которые свойственны общему уровню русской живописи. Оно выросло и сформировалось в борьбе, и эта борьба наложила на него свой отпечаток. Византия (хотя ею были восприняты и достижения римской культуры) – главным образом плод античной (греческой. – Ред.) культуры, богатое и разнообразное наследие которой она была призвана воцерковить. На этом пути в связи с присущим ей даром глубокой, изощренной мысли и слова она воцерковила все, что касалось словесного языка Церкви. Она дала великих богословов; она сыграла большую роль в догматической борьбе Церкви, в том числе решающую – в борьбе за икону. Однако в самом образе, несмотря на высоту художественного выражения, часто остается некоторый налет не до конца изжитого античного наследия, которое дает себя чувствовать в большей или меньшей степени в разных преломлениях, отражаясь на духовной чистоте образа[115]115
Развитие церковного искусства на византийской почве вообще «было сопряжено с целым рядом затяжных кризисов и “ренессансов” античной классики <…>. Такой рецидив античности был особенно силен в IV в., когда торжествующее христианство почти целиком переняло изобразительный аппарат античности. Аналогичные возвраты к классике были спорадическим явлением на византийской почве» (Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 1. М., 1947. С. 39). По существу, эти «ренессансы античной классики» были не чем иным, как отзвуками в области церковного искусства того общего процесса воцерковления, которому подвергались все стороны античного мировоззрения. В этом процессе вливания в христианство в Церковь шло много такого, что воцерковлению не подлежало и потому воцерковиться не могло, но налагало на церковное искусство свой отпечаток. Это и делали такие «ренессансы», вводя в это искусство иллюзорность и чувственность искусства античного, совершенно чуждые Православию. Много позже те же самые элементы, искусственно возрожденные в итальянском Ренессансе, вторгаются в церковное искусство под видом натурализма, идеализма и пр.
[Закрыть]. Даже памятники классической эпохи этого искусства, как, например, мозаики XII в. Святой Софии в Константинополе, не лишены определенно выраженной плотской тяжести; в них ощущается не до конца обретенный душевный и телесный покой[116]116
Например, Деисус – мозаика южной галереи.
[Закрыть]. Мозаики IX в. той же Константинопольской Софии дышат определенной античной чувственностью[117]117
Например, мозаики апсиды: Богоматерь с Богомладенцем на троне и Архангел Гавриил на своде вимы.
[Закрыть]. С этой неизжитостью и зависимостью от материи мы часто встречаемся и в византийских, и, позже, в греческих иконах.
Наоборот, Россия, которая не была связана всем комплексом античного наследия и культура которой не имела столь глубоких корней, достигла совершенно исключительной высоты и чистоты образа, которыми русская иконопись выделяется из всех разветвлений православной иконописи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?