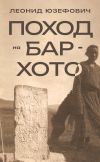Текст книги "Маяк на Хийумаа (сборник)"

Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
На вопрос, где он, Рихо махнул рукой куда-то во тьму. В той стороне над черной стеной леса, туманя высыпавшие к ночи звезды, вставало слабое сияние, похожее на расплывающийся по дождевой мороси свет уличного фонаря. Во времена Отто-Рейнгольда-Людвига маяк зажигали весной, с 15 марта по 30 апреля, и осенью, с 15 августа по 30 сентября, но теперь, наверное, он горел дольше. Навигация удлинилась, октябрьские штормы не помеха проходящим возле Хийумаа сухогрузам и танкерам.
Рихо отобрал у Наташи ключ и продемонстрировал, как надо им пользоваться. Это имело смысл, поскольку даже ему замок поддался не с первой попытки. Он включил свет. Вошли в тесную, по-спартански обставленную комнату, чистенькую, но холодную. Температура как на улице. От обклеенных белесыми обоями дощатых стенок дохнуло сыростью. Наташа отогнула край покрывала, пощупала простыню и вздохнула.
Рихо понял ее без слов. С улыбкой волшебника он извлек из шкафа экономный, на три секции, масляный обогреватель, воткнул вилку в розетку.
– Сейчас будет тепло. Постельное белье надо снять и развесить на стульях.
– Может быть, есть комната посуше? – предположила Наташа.
– Это у нас лучшая комната, – весомо сказал Рихо. – В сезон мы за нее берем дороже, а в сентябре цена как у других. Раньше в ней жил германский посол, когда приезжал из Таллина. Ему нравилось. Он часто сюда приезжал.
– Нынешний посол? – спросил я на всякий случай, хотя сразу догадался, о ком речь.
– Другой. Его уже нет.
– Роденгаузен?
– Он. До войны это была земля его деда по матери. Он по матери из Унгру.
Рихо ничуть не удивился, что я назвал имя давно покинувшего свой пост немецкого посла в Эстонии. В таких местах люди думают, что если уж даже им что-то известно о большой политике, человек из Петербурга тем более должен это знать.
– По-эстонски Унгру – это Унгерн, – пояснил я Наташе.
Имя моего берлинского собеседника откликалось в окрестном пейзаже и в сиянии над лесом, но не вязалось ни с этой тумбочкой, ни с единственной в комнате полутораспальной кроватью, на которой не слишком-то комфортно лежать вдвоем. Дивана не было.
– С кем он приезжал? – поинтересовался я.
– Один.
– Совсем один?
– С собакой.
– И что делал?
– Ничего. Гулял, ходил к морю.
Рихо ушел. Снимая наволочку, я прочел Наташе стихи, которые студентом перевел с английского:
“Какое прекрасное место,
чтобы прийти сюда однажды ранним утром,
утром ранней осени”, —
сказал старый человек, разговаривая с самим собой,
или со своей собакой,
или с пролетающим ветром.
– Чьи? – спросила Наташа.
Я ответил, что это неважно. Имя автора стихов ничего бы ей не сказало, зато могло оторвать их от человека, ночевавшего тут до нас и ходившего теми же маршрутами, по которым мы пойдем завтра. Без собаки, но тоже в том возрасте, когда люди говорят о себе не только с другими людьми.
Наташа поняла и не настаивала. Мы сняли простыню, наволочки, пододеяльник, повесили их над обогревателем и пошли на ужин. Рихо принес обещанную рыбу. Кроме нас, в столовой не было ни души, но Мае даже не посмотрела в нашу сторону. Напудренное лицо и ярко накрашенные губы делали ее похожей на состарившуюся куклу. Она ножницами обрезала цветочные стебли и раскладывала цветы по кучкам, чтобы потом в известных ей одной сочетаниях расставить их по настольным вазам. На руках – перчатки. Ее мертвенная опрятность казалась суррогатом былой женственности.
Наташа полушепотом обсудила со мной возможные отношения между хозяйкой и Рихо. По ее мнению, он состоял при Мае поваром, кастеляном, электриком, разнорабочим и помощником во всех делах, исключая, должно быть, финансовые. Жгучий вопрос, является ли Рихо ее любовником, остался открытым.
Мае сказала, что заплатить за ужин желательно прямо сегодня, но кошелек мы оставили в рюкзаке. Я взял его и вернулся, а Наташа принялась стелить постель. Воздух в комнате нагрелся, белье немного подсохло.
Рихо сидел в каптерке напротив столовой. Рассчитываясь, я заметил, что он успел приложиться к рюмочке. В глазах у него стояла не местного разлива тоска.
– Она, – обреченно кивнул он на Мае, менявшую цветы в вазах, – сказала мне: “Я детей не имею, родственников нет. Скоро умру, кому это все достанется? Живи у меня, достанется тебе”. Год живу, второй, третий, четвертый. – Рихо на русский манер начал загибать пальцы, а не разгибать их, как делают западные люди; СССР длил фантомное существование в такого рода привычках. – Пятый, – продолжил он свой горестный счет, – шестой, седьмой… Денег не получаю. Она говорит: умру, все тебе достанется… Восьмой, девятый.
Мизинец на правой руке остался нетронутым, но по тому, как бодро бегала по столовой Мае, можно было заключить, что весной Рихо придется загнуть и его.
Он мог быть ее любовником, мог и не быть. Их объединяло другое: оба они уходили корнями в скудную здешнюю почву, значит, их предки были крепостными предков Унгерна.
Я спросил, знает ли он о бароне-пирате и его кострах. Рихо все это знал, но версию с кострами отверг как чересчур примитивную для гения здешних мест.
– Он не так делал. Он брал хромых лошадей, привешивал к ним фонари и заставлял конюхов водить их по берегу друг за дружкой. Капитан думал, что видит огни другого корабля, значит, здесь можно укрыться от бури. Направлял корабль в эту сторону и налетал на камни.
Лошадь припадала на увечную ногу, фонарь то нырял вниз, то взлетал вверх, как на палубе раскачиваемого морской зыбью судна. Меня поразила эта островная хитрость в духе Одиссея. От нее веяло не двухвековой стариной, а тысячелетней древностью.
– Он грабил корабли, потому что должен был поддерживать огонь на Кыпу, – объяснил Рихо. – Лесорубам надо платить, возчикам, кострожогам, смотрителям. Даром никто работать не станет. Лес у нас тоже недешев. Он просил денег у царя, царь не дал.
– Все равно нехорошо, – усомнился я в праве барона губить одни души, чтобы спасти другие.
– Лучше, если бы все погибли? – традиционно оправдал его Рихо. – Унгру был добрый человек. Ему приходилось так поступать, но этот грех не на нем.
– А на ком?
Рихо деликатно промолчал. Я понял, что ему не хочется обижать меня прямым указанием на жадного русского царя.
Кругом был лес, за открытым окном, невидимые в темноте, верхушки деревьев раскачивались и слитно шумели. Внизу ветер почти не ощущался. Море, видимо, оставалось спокойно. Его характерный рокот сюда не долетал.
При Отто-Рейнгольде-Людвиге эти места были голыми, лес свели на дрова в радиусе десяти верст от маяка. Кыпу требовал много пищи, зато мореплаватели видели его свет на расстоянии двадцати миль от побережья. В течение трех столетий исполинский костер на вершине каменной башни кормили елями и соснами, но теперь они вновь густо покрывали остров.
– Филины тут водятся? – спросил я, меняя тему.
С этой птицей связан был один эпизод из детства Унгерна. О нем рассказал знавший его ребенком Германн фон Кайзерлинг, такой же эстляндский немец и очарованный Востоком странник; изданный им в 1919 году “Путевой дневник философа” соперничал в популярности с “Закатом Европы” Шпенглера.
Его отец дружил с отчимом Унгерна, бароном Хойнинген-Хюне. Однажды тот с женой и пасынком приехал в гости к Кайзерлингам, а у них дома жил подобранный детьми в лесу филиненок. Девятилетний Унгерн или пытался с ним поиграть, или дразнил его сквозь прутья клетки, и пернатый узник клюнул мальчика в руку. Кайзерлинг, тогда подросток, на всю жизнь запомнил, как его маленький гость в припадке ярости, какими будет славиться позже, выволок обидчика наружу и начал душить. Птичьи когти в кровь расцарапали ему руки, но он не обращал на это внимания. Двое взрослых мужчин с трудом отняли у него полузадушенную птицу. Он был в невменяемом состоянии – нелюдимый мальчик, не нужный ни отцу, после развода забывшему о существовании сына, ни матери, родившей от нового мужа еще двоих детей, ни отчиму, которого ненавидел.
Второй филин появился в его жизни спустя четверть века. Он обитал в сопках рядом со станцией Даурия в шестидесяти верстах от китайской границы; здесь Азиатская дивизия квартировала до ухода в Монголию. Рассказывали, будто вечерами, отправляясь на верховую прогулку, Унгерн обязательно проезжал возле дерева, где находилось дупло его любимца, и умело подражал его крику до тех пор, пока не добивался ответного уханья. Почему-то я верил в правдивость этой истории. В ней могло отразиться и подсознательное желание Унгерна избыть в себе давнюю детскую вину перед несчастным филиненком, и столь же неосознанное стремление дать волю ночной, демонической стороне своей личности. Предпочтение отдавалось то одной версии, то другой. Обе были недоказуемы в принципе, поэтому все зависело от моего настроения.
Вопрос Роденгаузена, какие чувства я испытываю к моему герою, по-прежнему был для меня актуален. Кто я, историк или адвокат дьявола? Иногда утреннее сожаление, что я недостаточно его осудил, вечером сменялось чувством вины перед ним, и я находил его грехам если не оправдание, то хотя бы объяснение. Эти качели выматывали мне душу. То я заставлял себя быть к нему снисходительнее, ведь без жестокости он не мог бы поддерживать дисциплину в состоявшей из всякого сброда дивизии, да и совершенные по его приказу убийства происходили не в обычной обстановке, как было при немцах в Литве и Польше, когда евреев убивали их же соседи, а после многомесячных скитаний по пустынным монгольским степям, на фоне зимы, войны без правил, одичания, ожесточения; то отвергал эти доводы и вспоминал слова одного унгерновского офицера, писавшего, что его начальник не имел не только милосердия, но и самого сердца.
– Филины есть, – сказал Рихо, но воспоминаниями о встречах с ними делиться не стал.
Через полчаса мы улеглись, Наташа быстро уснула, а я попытался додумать мысль, явившуюся мне в машине, среди рулонов линолеума. Главный ужас истории барона-пирата, осенило меня в те минуты, заключается в дьявольском перевертыше: путеводный огонь, символ надежды и спасения, он превратил в орудие зла, сделал его вестником гибели. К этому примешались еще и хромые лошади как намек на моральную ущербность Отто-Рейнгольда-Людвига.
Казалось, отсюда я выйду к пониманию чего-то очень важного, касающегося и его праправнука, но тропы, по которым я пробовал идти, запутывались, глохли, обрывались или, попетляв, приводили в исходную точку моих размышлений, пока я осознал, что меня манит не мысль, а фальшивый огонь самой фразы. Я выбросил ее из головы и тут же почувствовал, что засыпаю.
5
После завтрака отправились к маяку. Рихо указал нам дорогу. Впереди, совсем близко, вставала над лесом белая башня, точнее, верхняя ее часть с маленьким стеклянным куполом на макушке. В нем обитал ведущий ночной образ жизни, как филин, и дремлющий в это время суток маячный излучатель с линзами. На изгибах дороги его хрустальный дворец вспыхивал под солнцем.
От шоссе дорога начала забирать вверх. Я решил, что берег здесь высокий, море откроется не раньше, чем мы выйдем на край обрыва, где должен находиться Дагерорт. Маяк получил это имя от построивших его шведов. Оно нравилось мне больше, чем эстонское. Когда-то на Хийумаа, в то время – Даго, были шведские хутора и даже деревни, но соплеменников Карла xii как возможную пятую колонну выселили с острова еще при Екатерине Великой.
Через пару сотен шагов меня стали мучить сомнения. Дул довольно сильный ветер, но грохота разбивающихся о прибрежные скалы валов я почему-то не слышал, только ровный, звучащий совсем на иной ноте, безмятежный гул соснового бора.
Еще минут десять пологого подъема, и мы – у подножия маяка.
Его сорокаметровая квадратная башня, во времена Ганзы сложенная из каменных плит внизу и булыжного камня повыше, почти на всю высоту подпертая четырьмя мощными контрфорсами, ясно впечатана в бледно-синее небо ранней осени. Она прекрасна в своей белизне и одиночестве, но любоваться ею я не в силах, меня терзает мысль, что в книге об Унгерне я поставил ее не на этом холме, самой высокой точке острова, а у моря, которого отсюда даже не видно. До него, как мне сообщила молодая русская пара, тут километра три. Понятно, из чего Роденгаузен вывел, что на Хийумаа я не бывал.
Вход в маяк – платный. В кофейне возле него сидели туристы, около кассы девушка в национальном костюме торговала сувенирами. Пока я выяснял у нее кратчайший путь к морю, Наташа купила билеты. Я предложил сначала сходить на берег, но она сказала, чтобы я шел без нее. Три километра туда, три – обратно, она лучше подождет меня здесь.
Дорога заняла больше времени, чем я ожидал, а на финише подстерегало новое разочарование. Передо мной, насколько хватало глаз, расстилался плоский глинистый берег с травяными клиньями и оазисами буроватого песка. Кое-где торчали вросшие в почву валуны и слоями лежали камни помельче. Сосны подступали почти к самой воде. Болезненно скрючившиеся под морскими ветрами, они стояли на подмытых приливом обнаженных корнях, напоминающих не то путепроводы межпланетной станции, не то остовы ископаемых монстров. Никаких утесов, о которые могли бы разбиваться суда, направляемые на них коварством Отто-Рейнгольда-Людвига, я не увидел. Заманивать сюда шкиперов не имело смысла, корабли должны были просто садиться на мель, а чтобы брать их на абордаж, барону понадобилась бы ватага головорезов. В такой экзотический поворот сюжета я поверить не мог и не понимал, почему Роденгаузен, гулявший тут с собакой, верит, будто его предок жег обманные костры на этом абсолютно бесперспективном берегу. Так же бессмысленно было прогуливать здесь увечных лошадей с фонарями; Рихо просто пересказал мне одну из тех историй, которыми туристические фирмы завлекают сюда клиентов, как Отто-Рейнгольд-Людвиг – проходившие мимо Хийумаа корабли. Выходило, что прав берлинский бизнесмен: барона действительно оговорили.
Наташу я нашел в кофейне. Она купила мне кофе, придвинула унесенный с завтрака бисквит, обернутый салфеткой и дожидавшийся моего возвращения из похода. Без меня ей рассказали, что хозяйка кофейни – одна из немногих оставшихся на острове русских женщин. Маяк был главной здешней достопримечательностью, и с присущей национальным меньшинствам предприимчивостью она сумела занять эту выгодную коммерческую нишу.
Я съел бисквит, мы еще немного посидели и пошли к маяку. К нему вела обсаженная цветами пряничная дорожка, а раньше трава тут была вытоптана людьми и лошадьми, громоздились поленницы, кругом валялись корье и щепки. Напиленные чурбаки крестьяне привозили на подводах, кололи на месте. Потом появился керосин, за ним электричество; Дагерорт работал уже пятьсот лет, по три месяца в году, каждую ночь. Сменялись поколения и народы, начинались и заканчивались войны, но огонь горел. Было в этом что-то такое, от чего благодарно сжималось сердце.
Внутри охватило каменным холодом. По винтовой лестнице с великанскими ступенями поднялись в круглый зал на последнем ярусе, уже перед выходом на верхнюю площадку. Его древние стены хранили печать недавнего евроремонта. В витринах и настенных планшетах разместилась посвященная истории маяка экспозиция – лампы смотрителей, фотографии, копии документов, старые книги. Одна раскрыта на титульном листе: “Морской путеводитель. Часть, содержащая в себе описание фарватеров и входов в порты в Финском заливе, Балтийском море, Зунде и Скагерраке находящихся. Сочинена по приказу Адмиралтейской коллегии в 1751 году флота капитаном Алексеем Нагаевым. Печатано при типографии Морского шляхетского кадетского корпуса в 1789 году”.
Я переписал название в блокнот и стал читать висевшие рядом выписки из этого сочинения. Первая же убедительно доказывала, что Роденгаузен не ошибся: да, прибрежных скал в этих местах нет, зато есть грозные для судов подводные каменные гряды – “банки”. Самая длинная почти под самой поверхностью протянулась вдоль берега на одну и три восьмых мили, еще три таких же, но покороче, и отдельный риф – на две мили в общей сложности. Все обнаружены лейтенантом Винковым и мичманом Спиридовым – будущим победителем турок в Чесменском бою. Впрочем, строители маяка знали о них за сотни лет до Винкова и Спиридова, да и Отто-Рейнгольд-Людвиг не в лоции капитана флота Нагаева открыл для себя эту многообещающую коммерческую нишу. Диплом Лейпцигского университета помог ему рассчитать, при каком ветре и в каких точках на местности костры или лошади с фонарями будут наиболее эффективны.
Мы вылезли наверх, на обзорную площадку. Страшный ветер обрушился на нас. Стоять у перил было невозможно, мы прижались спинами к стеклянной будке с навигационным оборудованием. Солнце сверкало в кристаллах бездействующей сейчас оптики. От ветра и простора перехватывало дыхание. Леса внизу во все стороны уходили к горизонту, лишь справа виднелся кусочек моря, даже в такую погоду не синего, а серого.
Волосы у Наташи развевались, летели, облепляли ей лицо, как в юности, когда дующий навстречу ветер – это рассекаемый тобой в полете к прекрасному будущему неподвижный воздух. Мир сиял, а я думал о том, что в моей книге есть ошибки, которых уже не исправить, и вообще неизвестно, стоило ли ее писать, если я не определился с отношением к главному герою.
С Отто-Рейнгольдом-Людвигом тоже полной ясности так и не возникло: то ли он был сукин сын, каких мало, то ли оболганный гуманист, то ли то и другое вместе. Байрон списал с него Конрада из поэмы “Корсар”, но этот презирающий все человечество мятежный персонаж далеко ушел от своего прототипа. В ссылке тот вел себя тише воды, ниже травы и радовался как ребенок, если его звали на приемы к тобольскому губернатору.
Воспоминания о берлинской конференции отзывались стыдом. Основной тезис моего доклада был глубок ровно настолько, чтобы курица могла перейти его вброд. В этом плане он ничем не отличался от мысли, явившейся мне среди линолеума, а по энергии мишурного блеска уступал даже ей.
Пряча телефон в собственную тень, Наташа посмотрела на нем время и объявила, что пора идти. Была суббота, а в кофейне нам сказали, что по выходным до Кярдла идет дополнительная маршрутка к парому, дневная.
Наташа начала спускаться, но я медлил. Ей показалось, что решение, принятое мной внизу, в сорока метрах от земли перестало быть таким твердым.
– Хочешь остаться еще на ночь?
– Нет, – ответил я и вслед за ней ввинтился в нарезы каменного ствола.
Мы уложили в рюкзак зубные щетки, туалетную мелочь. За ночлег было уплачено вчера, но Наташа сочла долгом вежливости разыскать Рихо или Мае и лично отдать ключ от комнаты кому-то из них. Ни его, ни ее мы не нашли, оставили ключ в дверях и зашагали к шоссе.
Маршрутка подошла точно в то время, которое нам назвали в кофейне. Мы были в ней первыми пассажирами, но салон постепенно наполнялся. Водитель то и дело тормозил, чтобы посадить ждавших на обочине людей. За ними не видно было ничего, кроме леса, стеной стоявшего вдоль дороги, но, значит, где-то дальше лежали хутора или рыбацкие мызы.
Уже на подъезде к Кярдла в кармане завибрировал телефон. Звонил Марио.
– Есть новости, – сообщил он.
Голос был странный, в первый момент я его не узнал. Имя высветилось, но без очков осталось для меня нечитаемой надписью на экране.
– Что-то случилось? – спросил я.
– Вчера мне позвонил Роденгаузен. На радио ему дали мой телефон. Между прочим, за час до этого я строгал салат и порезал палец.
Марио, видимо, курил и прервался, чтобы сделать затяжку перед главным пунктом:
– Он нашел деньги на фильм.
– Ух ты! Где?
– В том фонде, который поддерживает их союз.
– Это уже точно?
– На девяносто процентов. Он уверен, что проблем не будет. Вопрос решится в течение месяца.
– Поздравляю. Рад за тебя, – сказал я, хотя мне его новость была скорее неприятна.
Я чувствовал себя одураченным. Роденгаузен упрекал меня за книгу об Унгерне, демонстративно не желал находиться в обществе его симпатизанта и, следовательно, сторонника неприемлемых для него, Роденгаузена, взглядов, а теперь нашел для Марио деньги на фильм о человеке, которого назвал садистом.
Почему?
Непохоже, что он тогда со мной лицемерил. Мы говорили с ним в прошлом году, под Рождество. Сейчас сентябрь. Что изменилось за прошедшие девять месяцев?
– Подожди, – перебил я Марио, с избыточными подробностями излагавшего мне ход вчерашнего разговора. – Знаешь, где я сейчас нахожусь?
– Где?
– На Хийумаа.
Он отреагировал спокойно.
– Ты ведь сам говорил, что на главном участке нашей жизни совпадения превышают норму.
Наташа волновалась, что медленно едем, опоздаем на паром, но мы еще прождали его около часа. Наконец отчалили. Погода испортилась. Глядя в пестрое от дождевых капель окно, я вспомнил, как двадцать с лишним лет назад, готовясь писать книгу об Унгерне, сидел в архиве в Тарту, разбирал бумаги его родственников. Письма были на немецком, прочесть их я не мог, но надеялся хотя бы понять, о чем идет речь в том или другом, чтобы, если найдется что-нибудь интересное, сделать ксерокопии, а по возвращении в Москву заказать перевод. Ксерокопировать все подряд было непозволительно дорого. Доброжелательная архивная девушка меня консультировала. Заодно я поинтересовался у нее, как лучше и, главное, дешевле добраться до Хийумаа. Оказалось, попасть туда нельзя, пограничная зона, нужен пропуск. “Вы сможете поехать туда позже”, – обнадежил меня мой добрый ангел. “Когда позже?” – “Когда ваших солдат не будет на нашей земле”.
Из архива я вышел к университету. На площади перед ним над толпой студентов мотались туда-сюда сине-черно-белые флаги на длинных дюралевых шестах. Русский прохожий с не вполне ясным мне чувством, которое он вроде бы хотел выразить, но одновременно, словно стесняясь его, пытался скрыть, объяснил мне, что синий цвет символизирует море и небо Эстонии, черный – страдания эстонского народа под гнетом немецких баронов и советских оккупантов, белый – его светлое будущее. Я не верил, что этот флаг способен стать чем-то большим, чем андреевский или якобы имперский, черно-желто-белый, так же горделиво и на таких же алюминиевых палках реявшие над московскими толпами, но куда более дальновидный Роденгаузен уже, вероятно, готовился ступить на землю предков. Происхождение и знание туземных языков делало его идеальным кандидатом на пост представителя Берлина в Таллине.
6
Через месяц Марио позвонил снова.
– Умер, – сказал он своим обычным голосом.
Спрашивать кто нужды не было.
– Когда? – спросил я.
– Точно не знаю, но недели три назад. Вскоре после того, как он мне звонил.
Возраст, в котором мужчины умирают на улице или в приемном покое, для Роденгаузена давно миновал, но я решил, что смерть была внезапной – сердце. Оказалось, онкология, болел с зимы. Зимой его прооперировали, а летом ему опять стало хуже, положили в клинику, там он и умер. У Нади в этой клинике лежит один русский клиент с тем же диагнозом, она говорила с врачом, и врач по аналогии вспомнил о Роденгаузене.
– Я сопоставил даты, – сказал Марио. – Получается, он звонил мне из больницы.
– И что теперь?
– Ничего.
– В каком смысле?
– Ничего не будет.
– А тот фонд? Если они согласились профинансировать твой проект, обойдется, может быть, без Роденгаузена?
– Я узнавал. Они об этом понятия не имеют.
– То есть он тебя обманул?
– Не думаю. Думаю, он хотел дать мне свои личные деньги, но оформить так, будто все идет через фонд. На документальный фильм не такая уж большая сумма требуется. Для таких, как он, вообще не деньги. Ему обещали еще полгода жизни. Он рассчитывал, что успеет провернуть это дело, но – вот так.
Сквозь его голос зазвучали стихи о старом человеке, которые я читал Наташе на Хийумаа: “Какое прекрасное место, чтобы прийти сюда однажды ранним утром, утром ранней осени…” Если, гуляя в одиночестве у маяка или на морском берегу, Роденгаузен с кем-то и разговаривал, то не с самим собой, не с собакой – с пролетающим ветром. Этим ветром с острова сдуло сначала шведов, потом немцев, потом русских.
Он был дипломат, говорил не Ревель, а Таллин, не Даго, а Хийумаа, не Дагерорт, а Кыпу, но на больничной койке они обрели прежние имена. В ушах шумело море, по берегу тянулась вереница хромых лошадей с фонарями, о которых ему, мальчику, рассказывала мать. В их свете все стало сном, кроме детства. Он проснулся и увидел: то, что разделяло их с Унгерном, исчезло, унесено его летучим собеседником. Два плода с разницей в полстолетия созрели на одной ветке. Кузины первого стали троюродными бабушками второго, двоюродные племянницы – какими-нибудь непрямыми тетками.
– Идешь по улице, – говорил Марио, – издали видишь в толпе знакомого, а подходишь ближе – нет, не он. Идешь дальше и через какое-то время встречаешь того самого человека, за которого принял первого. Ложная встреча – знак, что будет настоящая. С тобой так бывает?
Момент перехода к новому сюжету от меня ускользнул.
– Ты это к чему?
– Если Роденгаузен хотел дать мне деньги на фильм, но не сложилось, значит, скоро даст кто-нибудь другой. Я уже придумал первые кадры.
Он начал излагать свою идею: ночь, Дагерорт; узкий в истоке, но постепенно расширяющийся луч прожектора с вершины маяка падает на темное море. В конусе света, как в стеклянном сосуде, клубится плывущий над водой туман. Сквозь него сверху вниз, наискосок, через весь экран, вырастая из точки и быстро увеличиваясь в размерах, мчится всадник в желтом княжеском дэли с генеральскими погонами. Пока он несется внутри луча, туман за ним багровеет, окрашивается кровью. Унгерн долетает до воды, скачет по морю, и мы видим, что это уже не море, а степь.
– Музыка соответствующая, – закончил Марио. – Бах переходит в монгольское горловое пение.
– Компьютерная графика – это дорого, – заметил я.
– Зависит от объема. У меня будет максимум минута. Просто заставка перед названием, дальше пойдет обычное документальное кино. Как тебе идея?
– Здорово, по-моему, но есть один нюанс. Дагерорт стоит в трех километрах от берега, луч до воды не достает.
– А у меня достанет, – сказал Марио.
Он передал привет Наташе, я – Наде, и мы простились.
2017