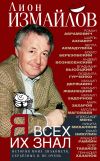Текст книги "Сергей Иванович Чудаков и др."

Автор книги: Лев Прыгунов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
III
Осетинского я увидел впервые в том же кафе-баре гостиницы «Украина» за месяц до знакомства с Чудаковым. Тогда мы снимали комнату с моим грузинским другом Мишей Николадзе рядом со станцией ВДНХ в частном домике с огородом, сарайчиком, курами и свиньями. Сейчас представить себе такое невозможно. Нас попросили освободить комнату немедленно после визита к нам друзей Миши: Саши Рехвиашвили, Важи Орбеладзе, Амира Кокобадзе и ещё каких-то двух «настоящих князей царской крови». Было слишком много чачи, родного кахетинского, тостов, пения и шума. Сам Миша Николадзе был внуком двух великих грузин: Николы Николадзе – учёного и просветителя – и Якова Николадзе – знаменитого скульптора и ученика Родена. В Москве он скрывался от призыва в армию. В ту позднюю осень в Москву на гастроли приехал американский балет Джорджа Баланчина «New York City Ballet», и мы каким-то чудом попали на один из спектаклей. Ещё большим чудом было то, что Миша «скосил» под американца (он всегда одевался «all states» – только во всё «штатское») и прорвался к самому Баланчину прямо в театре. Дело в том, что Баланчивадзе дружил с обоими дедами Миши, и когда Миша с ним встретился, Баланчин просто разрыдался у него в объятьях. Он тут же сунул Мише в спешке две новеньких пластинки и сказал, что будет ждать его у себя в номере после спектакля, и уж там даст ему настоящие подарки.
Мы были потрясены спектаклем, особенно двумя гениальными танцовщиками – Амбруазом и Эдуардом Виллелой, и в назначенное время поднялись на нужный этаж. Я предусмотрительно взял у Миши пластинки и «стал на стрёме» – я должен был сразу перехватить приготовленные для Миши подарки, пока его не засекли кагэбисты – мы это уже проходили с другими знакомыми американцами.
Получив пакет с какими-то журналами и свитерочками, я спустился в бар и стал ждать там Мишу. И – не поверил своим глазам! У стенки за столиком сидел, развалясь, Эдуард Виллела – великий танцовщик, которого мы только что видели, и громко, на весь холл гостиницы кому-то говорил что-то по-английски! Я был в шоке: это был точно он – небольшой, черноволосый, плотный, энергичный, и я уже хотел было подойти и попытаться каким-то образом сказать ему кучу восторженных комплиментов, как вдруг Эдуард Виллела смачно выругался чистейшим русским матом и дальше уже продолжал говорить по-русски громко и хвастливо. Я понял. Это не Виллела. Каким бы дураком я выглядел, если бы подошёл к нему! Минут через десять я узнал у своего приятеля, что это гениальный Олег Осетинский! Сценарист, литератор, скандалист, драчун и прочее. А Миша появился только через час – он всё-таки попался в комсомольско-кагэбистскую мошну, и у него отобрали самое дорогое, что под конец их встречи передал ему Баланчин, – две пары новеньких американских джинсов.
И вот, через несколько дней после ухода от Чудакова Виноградова и Ерёмина, часов в десять утра к Чудакову ворвалась шумная компания – две молодые и очаровательные девицы и два перевозбуждённых молодых человека, очень похожих по темпераменту на Сергея. Это были Олег Осетинский и будущий режиссёр Борис Ермолаев. Девиц они ещё летом подцепили на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ, вчера встретились где-то с ними и заехали к Чудакову после бурной ночи в квартире у Осетинского в двух кварталах от Чудакова. При этом весёлые девочки, совсем не стесняясь, откровенно обсуждали сексуальную мощь и другие достоинства своих любовников. Пробыли Осетинский с Ермолаевым у Чудакова около получаса, но этого было для меня достаточно, чтобы разглядеть их и познакомиться с ними поближе. У Осетинского и Чудакова отношения всегда были как у собаки с кошкой – напор и самоуверенность Осетинского всегда натыкались на хлёсткие и точные, как у китайского мастера акупунктуры, насмешки Чудакова, которые всегда приводили Осетинского в бешенство. Поскольку Осетинский – по-настоящему неординарный и яркий человек – займёт довольно много места в моих воспоминаниях, я постараюсь как можно меньше давать ему свои собственные оценки, а предоставлю самому Осетинскому рассказать о себе, правда, в цитатах, выбранных мною из его собственной книги. Можно, конечно, обвинить меня в субъективном отборе цитат, и я полностью принимаю эти обвинения – конечно, это мой отбор, но никаких подтасовок или каких-либо махинаций с его собственными словами у меня нет. Отношение моё к Осетинскому сложное – были времена, когда мы часами могли вместе восторженно слушать музыку или читать стихи… Способности его были уникальными, но в нашей ТОЙ жизни и в той стране и Осетинский, и Чудаков были обречены изначально. И с этой точки зрения ярый антисоветизм Осетинского был мне всегда по душе. Но, в отличие от Чудакова, Осетинский надеялся, что когда-нибудь он всё-таки сможет сделать в той стране Настоящую карьеру Настоящего художника, а это говорит о том, что либо Олег был ослеплён своей самонадеянностью, либо, как большинство россиян, хотел «рыбку съесть и в тюрьму не сесть».
Итак – передо мной книга Осетинского «Роман Ролан». Интереснее всего для меня то, что, следуя главам этой книги, я мысленно прохожу и всю свою жизнь, и жизнь Чудакова – так всё переплетено там – и люди, и события, и места. Что же касается самой книги, то о ней очень точно сказал в своей аннотации Лев Аннинский: «Драма в жанре яростного мемуара… Дерзко, беспощадно и, я бы сказал, провокационно». Но вся его дерзость, ярость и беспощадность (в большинстве своём справедливая) обрушиваются только на других и, к сожалению, тонут в его бесконечном самовосхвалении. При этом больше всего жаль его самого – страстные натуры больше других и страдают. И ещё – его шекспировские гиперболы не всегда соответствуют истине, и я, как очевидец и правдолюб, вынужден иногда слегка его поправлять. Вот первая цитата:
«Исключали 15-ть раз на разные сроки, терпя, как «гордость школы»– призы за сочинения, всяческие олимпиады, музыкальные доклады, стихи на русском и английском – тогда редкость!» (стр. 7) [2]2
Здесь и далее: Осетинский О. Е. Песнь о Витьке-дураке, или Роман Ролан. – М.: РИАА-А, 2001.
[Закрыть] Примерно через год после нашего знакомства, когда мы уже были «корешами», Осетинский как-то вскользь бросил, что английский и французский он знает свободно и что английский он выучил за три месяца! На меня его слова произвели ошеломляющее впечатление – я тогда ещё верил во всё, сказанное Осетинским, и очень хорошо помню, как, маясь бессонницей в своём подвале на Чернышевского, я подумал – ну, Осетинский, конечно, гений, но если он выучил английский за три месяца, то года за три я уж точно смогу его выучить, если буду заниматься с полной отдачей! Первые три месяца я осваивал только фонетику, каждый день по нескольку часов, прослушивая пластинки и занимаясь со своей замечательной подругой Динарой, которая «передавала» мне знания, учась на первом курсе иняза. И уже через пару месяцев, услышав английский Осетинского, я приободрился – его произношение было ужасным!
Продолжаю цитировать: «Дальше – звучит гордо: «Драматическая студия при Клубе госторговли г. Ялты». Платят зарплату! Ставлю «Гамлета» и «Фабричную девчонку» (вторым после Б. Львова-Анохина – он пришёл ко мне на Морскую – он видел!) Леплю актёров из солдат (Д. Шахов, тоже режиссёр) и школьниц (Галя Дашевская, ныне нар. артистка!) Ставлю голос певцам филармонии!» (стр. 9)
«А про мою АНДРОНИАДУ читайте в моём коротком романе «Бедный Андрон»… Объяснюсь всё же – потому как мой круг гениев и патриотов Искусства меня как бы до сих пор осуждает за «связь» с Андроном. Объясняю: сначала Андрон мне просто нравился, он безотказно бегал за водкой и рассолом, играл мне Прокофьева – а я ведь помешан на музыке! …И, главное, я люблю, когда меня слушают, я рождён пророчествовать и взывать, а Андрон слушал меня часами, как слушали меня потом в Ленинграде и Авербах, и Шлепянов, и Рейн, и сотни людей.
Он принял меня как Гуру, он обо мне заботился, мной восхищался, А мне негде тогда было жить в Москве (выделено мной. – Л.П., – как я его понимаю!), и мне очень нравилась дача Андрона на Николиной горе… Я, кстати, полагаю, что рано или поздно неизбежно буду объектом тайной гордости будущих потомков Михалковых». (стр. 15)
Тут я вздыхаю и очень искренне бормочу: бедный Осетинский! Здесь надо обратить внимание на удивительную детскую трогательность Осетинского – он объясняет ещё и причины, по которым он был вынужден общаться с Андроном! Но когда я вспоминаю книгу Андрона Кончаловского «Низкие истины» – вялую, глупую и вызывающую чувство брезгливости, я полностью встаю на сторону хвастливого, но яркого и открытого Осетинского. В таких, как он, людях меня всегда поражало только одно: неужели им трудно хотя бы на секунду взглянуть на себя со стороны?!
И вот, наконец, первое упоминание о Серёже Чудакове. Осетинский пишет о своём поступлении на сценарные курсы в 1961 году, ровно за год до моего знакомства с Чудаковым: «Всё это организовал великий поэт, русский Вийон, единственный и незабвенный мой друг Серж. Сергей Иванович Чудаков – величайший русский поэт того нашего времени, который тогда – трудно поверить! – был настоящим ангелом – не пил, не курил, не имел любовниц – только читал и писал гениальные стихи!» (стр. 17) Тут Олег Евгеньевич явно перебрал – и насчёт «единственного и незабвенного» (об этом позже), и насчёт «ангельского чина» Чудакова. Либо Осетинский познакомился с Чудаковым в тот год и ещё не «врубился» в реальную чудаковскую жизнь, либо просто привирает, только непонятно для чего. Чудаков в жизни Осетинского был единственной занозой, от которой он никогда не мог избавиться. Чудаков никогда не курил, вино пил всегда – это видно по самым ранним стихам из «Синтаксиса» да по рассказам Ерёмина, Уфлянда, Герасимова, которые пили вместе с ним и в Ленинграде (1956 год!), и в Москве – начиная с 1958 года. Да и я нашёл его уже выпивающим, уже тогда заметил, что пить ему с его «вялотекущей» очень опасно, и несколько раз ему об этом говорил. А уж насчёт любовниц – тут один только веер обведённых ног на стене говорил сам за себя!
И ещё Осетинский: «Много позже меня спрашивали такие разные Илья Эренбург и Леонид Леонов – «но почему не проза, не стихи? Ведь вы (комплимент!)… так почему кино?» Я тогда стеснялся своей «киношности», боялся – не поймут! Но ответ был всегда один – потому что «Летят журавли»! Потому что – Урусевский!» Тоже – либо наивность, либо лукавство: Осетинский прекрасно знал драконовские законы советской цензуры, и не понимать, что в советском кино сценарист всегда являлся всего лишь материалом, он не мог. И уж какие тут могут быть серьёзные разговоры о Настоящем Искусстве! Так что, на мой взгляд, зря Осетинский не послушался вовремя Леонова и Эренбурга.
Как-то этой же зимой 1962/63 года в коридоре «Мосфильма» я столкнулся с Олегом Ефремовым – главным режиссёром знаменитого тогда «Современника». Он сказал, что видел меня в двух фильмах и хочет, чтобы я работал в его театре. Я чуть не подпрыгнул от счастья – это было бы самым великим везеньем в моей тогдашней жизни. «Но – тут же добавил Ефремов, – у меня дурацкий театр, у нас – «демократия»! Тебе придётся показываться всей труппе. В общем, заходи, и мы поговорим». В то время я бредил пьесой Джона Осборна «Оглянись во гневе» и мечтал сыграть в этой пьесе главного героя, и, когда пришёл в «Современник», я узнал, что театр собирается ставить эту пьесу! Олег Ефремов дал мне в партнёры замечательных артистов: Аллу Покровскую (тогда она была его женой) и Геннадия Фролова. И я почти всю зиму и весну с большими перерывами ходил на репетиции своего отрывка, и это всё затянулось до самой осени.
А влюблённость Чудакова в Нонну независимо и параллельно совмещалась с кучей однодневно-недельных романов, и, поскольку я уже плотно осел в комнате Чудакова, некоторые его романы проходили на моих глазах.
Но – я совсем забыл о коммуналке, в которой царила тётя Шура.
Надо было как-то упрочить моё положение в квартире – инициатива была Серёжина – мы оставляли дверь нашей комнаты приоткрытой и в самый час пик коммунальной жизни с девяти до десяти часов утра я устраивал настоящий концерт – я начинал кричать на него самыми мерзкими и грязными словами, стараясь чаще использовать матерщину тёти Шуры. У меня это получалось намного лучше и естественней, чем его вялые и беспомощные ответы артиста самодеятельного театра. А в ругань я вставлял нужную информацию: «Подонок! Негодяй! Дерьмо! Во что ты превратил свою комнату! Как ты относишься к соседям! Убить тебя мало!» Он – «Шери! Я больше не буду! Я постараюсь! Да я соседей люблю!» Я морщился от его бездарной самодеятельности и неубедительных оправданий и орал на него чуть не по-настоящему, а он, подмигивая, подбадривал меня: «Ещё, ещё – матом!» И я крыл трёхэтажным, хлопал дверью, «кидал» в него табуретку, уходил и т. д. и т. п. Зато вечером или на другой день, если я оказывался на кухне или в ванной, меня уже почтительно приветствовали соседи – мол, наконец-то нашёлся человек, который смог повлиять на мерзавца Чудакова.
Однажды у него появилась девушка, которую он называл Сандрой Милой, Сандрильоной, Сандриной и просто Сандрой. Она, как ему казалось, очень походила на актрису Сандру Мило из «8½» Феллини. Что-то на самом деле было общее, только чудаковская Сандра была в сто раз проще и беззащитнее. Она его побаивалась и в первый вечер «ускользнула» от него, хотя я и просидел в баре «Украины» с кофе и сигаретами целых два часа. Каким-то образом Сергей уговорил её прийти ещё раз, и, когда я собрался в бар, он вдруг попросил меня не уходить. Было довольно поздно, метро уже было закрыто, он уговорил Сандру остаться ночевать, часа полтора безуспешно возился с ней, она упиралась, плакала, он шипел, ругался или фальшиво шептал ей всякие смешные нежности и вдруг, рассвирепевший, вскочил со своей тахты и попросил меня выйти в коридор. В коридоре он поспешно сказал, что я очень нравлюсь Сандре, что я должен с ней переспать и что это единственный способ заставить её отдаться ему. Я начал протестовать, но он втолкнул меня в комнату, а сам ушёл на кухню. Сандра с плачем стала просить меня оградить её от Чудакова, и я дал ей слово, что не позволю Сергею изнасиловать её. Через какое-то время появился Чудаков: «Ну, как?» Я вышел с ним в коридор и сказал, что отказываюсь принимать участие в его плане, что это будет классическим групповым изнасилованием, что никакого насилия я не потерплю и требую, чтобы он отправил Сандру на такси домой. И тут начался горячий «философский» спор а-ля виноградовский свитер! Мы то выходили на лестничную клетку, накинув на голые плечи пальто, то возвращались в коридор, я выкурил целую пачку сигарет, а Чудаков с ленинским напором всё пытался доказать мне, что я его предаю как товарища по партии. Но у меня на самом деле всегда было полнейшее отвращение к любому виду насилия, а уж к сексуальному – тем более, если ты противен кому-то, как ты можешь относиться к себе после насилия? Сандра уже спала часа три, а мы всё спорили и спорили. Под утро я сказал, что готов идти куда угодно, но ни за что не соглашусь на его бесовский план. Чудаков поднял Сандру, она оделась, мы посадили её в такси, а сами пошли в «Украину» пить кофе, всю дорогу продолжая наш бесконечный спор. Бар открывался в шесть – мы просидели там часа два, и всё время было одно и то же: Чудаков никак не мог доказать мне, что я был не прав. Но в отличие от истории с виноградовским свитером, он меня не выгнал, хотя ещё несколько лет иногда возвращался к нашему «сугубо философскому» спору. Конечно, с точки зрения Чудакова, его необузданной похоти, уровня Сандрильоны, тактики и стратегии сексуального «захвата», Серёжа был абсолютно прав, но… на моём месте должен был оказаться кто-то совсем другой. Я же видел перед собой напуганную, простоватую, совсем неискушённую девочку 18 лет, которая умоляла меня спасти её от монстра, в чьи лапы она попала из чистого любопытства. И каждый раз, когда я читаю его стихи: «Женщины, которых я изнасиловал…», я вспоминаю Сандрильону.
Но вернёмся к Осетинскому. В то время он носился со своим гениальным сценарием «Катера»: «Самый знаменитый и самый смелый сценарий этой эпохи; его крали со стола редактора… Ненапечатанный и непоставленный, сценарий побил все рекорды по количеству посвящённых ему статей… Алексей Арбузов… настолько возбудился, что написал и – послал! – письмо министру культуры Фурцевой, мол – гений тут у нас завёлся, «раз в сто лет такие рождаются (цитата) надо дать ему пожизненную Госпремию!» И дальше: «Я ещё не понимал главной мысли Ломоносова – не первым быть желаю, а Великим! И никто меня не удержит! Сбудется, что я написал себе в дневник в 10 лет! Всё сбудется! И «Оскар», и Нобелевка!» (стр. 18, 19)
Тут я должен вернуться к нашей компании. Лёня Виноградов около пяти лет был моим самым близким другом. Выпив лишнее, он почти всегда начинал скандалить и кричал: «Бродский говно! Есть один великий поэт – Ерёмин!» (У него, слава Богу, хватало ума не называть великим себя.) А однажды, будучи трезвым, он совершенно всерьёз заявил, что они с Мишей к сорока годам получат Нобелевскую премию. Потом, подумав, добавил: «А если не получим, станем грабить банки». На все подобные высказывания Ерёмин только хитро ухмылялся. И, между прочим, это Миша придумал звать Иосифа Бродского «В. Р.», то есть – «Великий Русский», поначалу с лёгкой иронией, но очень скоро ирония пропала сама собой. В конце 60-х в ресторане ВТО мы отмечали премьеру пьесы Виноградова, Ерёмина и Лифшица (Льва Лосева) по книге А. Милна «Винни Пух и все-все-все», поставленную в Московском ТЮЗе. Я сидел рядом с Лифшицем, а напротив нас разбушевавшийся Виноградов кричал своё наболевшее: «Бродский говно! Уфлянд гений! Ерёмин гений!» и т. д. и т. п. Я показал Лифшицу на Лёню и спросил: «Лёша, ну почему он такой мудак?» Лёша ответил: «Да, он мудак, но мы ведь его любим».
Весной Чудаков потерял свой ключ, и мы какое-то время пользовались одним – вот отрывок из моего письма маме (март 1963 г.): «…А я уже забыл, что такое дом – мотаюсь по Москве без своего угла, без конуры, без места… Вынужден ждать половины двенадцатого, так как товарищ мой раньше не появляется, а ключ от квартиры один. Вот сейчас – зашёл на почтамт и пишу тебе длиннющее письмо… Как надоело спать на бугристых диванах с клопово-монгольской ратью (недавно прочёл в «Юности» фразу: «А ночью клопы двигали диван»). Так у меня поначалу было точно так же. Вчера на своё ложе я вылил очередную бутылку дезинсекталя, и уже два дня домохозяйки принюхиваются, когда я вхожу в автобусы, метро или троллейбусы, – им так приятно ощущать родной запах! Друзей у меня нет. Товарищей сколько угодно. Новых людей искать не хочу. Все одинаковы. И, как ни странно, мне с ними скучно. Единственный яркий и неординарный парень, который мне симпатичен, это Чудаков, у которого я сейчас живу, но он циник и негодяйчик. Он один из друзей Тарковского, теперешней знаменитости, так что на днях мне предстоит с ним познакомиться…»
Повесть А. Гладилина в «Юности» мы с Серёжей читали вместе, и эта фраза о клопах нам показалась очень родной. А потом она перешла в стихотворение Чудакова:
Ползут клопы, раскачивая нары…
А с Тарковским я у Чудакова так и не познакомился – опоздал на пятнадцать минут и только полистал какую-то философскую книгу – то ли Юнга, то ли Юма; одну из тех, которыми Серёжа тогда снабжал Тарковского, «как подающего надежды». Книга вся была испещрена дотошными заметками самого Тарковского – подчеркиваниями, галочками, восклицательными и вопросительными знаками. Видно было, что он очень серьёзно подошёл к чтению этой книги. Как раз тогда Тарковский начинал работать над «Андреем Рублёвым» и даже одно время всерьёз хотел снимать Чудакова в роли Бориски, которого потом блестяще сыграл Коля Бурляев.
Примерно в это же время у нас произошла ещё одна история, которую мы потом часто вспоминали. Однажды часа в два ночи мы решили прогуляться до «Украины» и попить там кофе. Швейцар нас не пустил. А Чудаков решил, что он непременно должен пройти внутрь. Это был, пожалуй, единственный раз, когда я видел Чудакова в состоянии настоящей ярости. Он пытался каким-то образом уговорить швейцара, совал ему деньги, чуть не подрался с ним, и я силой оттащил его, когда швейцар стал звать милицию.
Тогда мне категорически нельзя было попадаться милиции даже на глаза, потому что в феврале меня «замели» в ресторане Киевского вокзала и препроводили в ближайшее отделение. Поскольку у меня не было никакой прописки, меня продержали там больше суток, и выручила меня моя верная подруга Динара, которая привезла какое-то письмо с «Мосфильма». Но мне пришлось дать подписку о моём выезде из Москвы в течение 48 часов, а в случае нарушения режима мне грозил год заключения, правда, неизвестно где. Так что с того дня я вздрагивал и внутренне сжимался при виде милиционера в любом месте в любое время дня и ночи.
Но Сергей закусил удила и с вытаращенными глазами, с безумным оскалом шипел и бормотал только одно: я должен попасть в бар! Я должен попасть в гостиницу! Он потащил меня во внутренний двор гостиницы и – надо же! – где-то в снегу нашёл громадную, метров в пятнадцать, невероятно тяжёлую деревянную лестницу! Как я его ни отговаривал, как ни убеждал отказаться от безумного плана, – всё было бесполезно. Мы вместе – в половине третьего ночи! во дворе интуристовской «Украины»! – с какими-то невероятными усилиями, пыхтением, грохотом дважды роняемой тяжеленной и ужасно неудобной лестницы, приставили это размокшее устройство к стене гостиницы, и она упёрлась как раз в ограждённое сталинскими балясинами «гульбище» на высоте бельэтажа! И Чудаков смело туда полез, пока я в ужасе поддерживал лестницу и молил всех богов, чтобы нас никто не обнаружил и не вызвал милицию. В этом случае нас могли обвинить в чём угодно – покушении на убийство, ограблении и т. д. Серёжа скрылся в темноте и пошёл куда-то по этому «гульбищу», а я отправился к главному входу ждать или его возвращения, или его препровождения в то же самое отделение милиции, где я сам был совсем недавно. И – надо же! Минут через сорок сияющий, возбуждённый, весело и совершенно беззлобно бросив обалдевшему швейцару победную фразу, Чудаков вышел из главного входа «Украины», и мы пошли к себе домой. Я тогда впервые осознал его несокрушимую маниакальность и по дороге домой пытался развивать уже давно мною принятую философию кармы. Мы снова спорили, но на этот раз я ему искренне завидовал – это был всё-таки поступок Свободного Человека! Я же в моём положении не имел права рисковать – слишком глубоким было бы падение и слишком большая цена за этот свободный взлёт на высоту второго этажа интуристовской гостиницы! Через какие-нибудь десять-двенадцать лет на моё совсем «лёгкое» воспоминание об этой «кармической», на мой взгляд, истории Чудаков в письме из Троицкой психушки мне категорически ответит: «А в карму я не верю!»
Воспользуюсь еще Осетинским: «А вот юный Алик Гинзбург, издавший легендарный «Синтаксис» (будущий директор Фонда Солженицына, крестный отец многих знаменитых людей в соборе Александра Невского в Париже), устраивает свой пивной день рождения. Конечно, Серж Чудаков тут, и я его ругаю, как всегда…» (стр. 38) Не знаю, в этот день рождения или в какой-то другой Серёжа Чудаков подарил Алику Гинзбургу старинную вывеску со знаменитого родильного дома № 17 имени Г. Л. Грауэрмана, в котором родился Алик. Я очень хорошо помню эту вывеску, когда она еще висела рядом со входом в родильный дом на Новом Арбате, – с красивым шрифтом, в эмали – ее ночью каким-то образом «выкорчевал» из стены Чудаков, и я потом любовался ею в квартире Алика – она висела рядом с замечательными картинами художников-шестидесятников. И потом, проходя мимо этого особняка, я всегда находил следы этой вывески на стене роддома и вспоминал бесстрашного Чудакова.
Весной 1963 года Серёжа уехал к своему другу-литератору на дачу, а перед его отъездом меня навестила родная сестра с моей верной подругой Динарой – они обе были года на два, на три старше нас с Сергеем. Они пришли взять всё наше бельё – и моё, и Серёжино, чтобы постирать его в прачечной за один день. Тогда на столе всё ещё стояла чудаковская тахта (я писал об этом выше), и было очень неудобно снимать с неё простыню и пододеяльник. Как раз в это время пришёл Серёжа и, вытаращив глаза на весьма симпатичных девушек, спросил: «Это что за палеонтологический музей?» Моя сестра оскорбилась, а Динара с криком: «Ах ты, шибздик!» – стала лупить его грязной простынёй.
Довольно долгое время я жил в Серёжиной комнате один. Со всеми соседями у меня установились прекрасные отношения, и однажды, когда я пришёл раньше обычного, в комнату постучалась соседка и сказала: «А сегодня днём к вам приезжал Серёжа!» Когда я рассказывал это Сергею, мы хохотали – это была полная победа над коммуналкой!
История моя с «Современником», как я уже говорил, затянулась, но вдруг на «Мосфильме» меня встречает сценарист-режиссёр А. Г. и предлагает мне сняться в главной роли в его фильме, который он будет снимать на «Казахфильме» в Алма-Ате, на моей родине! Я читаю сценарий – что-то чудовищное и бездарное, называется «По газонам не ходить!», я должен играть бригадира какой-то строительной бригады – «проблема изображения казённых подвигов бетонирования и лесоповала» (С. Чудаков). Но… у меня нет никакого выхода. Во всяком случае, я мог восстановить мою алма-атинскую прописку, а с ней я был бы в Москве уже получеловеком. Одним из членов моей бригады оказывается Володя Высоцкий. У него тоже была аховая ситуация: его уволили из театра им. Пушкина. Недавно мы снимались с ним в «Увольнении на берег», а перед съёмками провели две недели, пьянствуя в Ленинграде и Таллине. («Другая история!» – как говорит Осетинский.)
И – в начале лета я улетаю в Алма-Ату. Там за полтора месяца нашего пребывания у нас было только два съёмочных дня – более бестолковой и организации работы, и самой студии представить тогда было невозможно. Всё свободное время я проводил или дома, или со своими алма-атинскими друзьями Марковичами и замечательными ребятами-архитекторами из Ленинграда, которых «выписал» Кунаев, дав каждому по трёхкомнатной квартире. А Володя Высоцкий попал в не менее замечательный алма-атинский «культурный салон», конкурирующий с «салоном» Мамцовой, и мгновенно стал алма-атинской знаменитостью – он везде пел свои песни, а благодарные алмаатинцы записывали их на магнитофоны. К нашему всеобщему счастью, картину закрывают, я возвращаюсь в Москву, и моя подруга Динара предлагает мне устроить фиктивный брак.
Должен сказать, что только за этот год мне было сделано два серьёзных предложения от весьма интересных девиц – дочерей очень богатых и влиятельных людей, но мне и в голову никогда не приходило идти на подобные жертвы – отказываться от самого святого для меня в жизни – моей личной свободы. А тут – надёжный человек, «своя в доску», Динка предлагает прописаться в комнату, где живут ещё три человека! Я соглашаюсь, мы расписываемся, но у меня тут же отбирают паспорт, и я попадаю в капкан! Меня должны в самое ближайшее время взять в армию! Гениальная и верная Динара берёт бутылку шампанского, коробку конфет, идёт в военкомат и там находит общий язык с девочками-секретаршами. Они прячут моё дело куда подальше и отдают Динаре мой паспорт!
Я на радостях беру билет в Тбилиси (за наше безделье в Алма-Ате с нами расплатились по тем временам очень щедро) и лечу к своему другу Мише Николадзе. Две недели проходят в безумном пьянстве с «грузинскими князьями», и я понимаю, что если я останусь в Тбилиси ещё на какое-то время – мне конец! Я сбегаю от своего друга ночью, оставив записку, улетаю в Москву, а через два дня какой-то мосфильмовский администратор находит меня в кафе «Националь» и переводит через площадь в гостиницу «Москва». Там меня обнюхивает и осматривает, как какую-то козявку, маленький, шустрый, сам как козявка, итальянский режиссёр Джузеппе де Сантис! Тот самый режиссёр, который снял фильм «Утраченные грёзы» (настоящее название – «Дайте мужа Анне Дзакео») – с самой прекрасной в мире женщиной – Сильваной Пампанини! Этот фильм я смотрел в Алма-Ате, каждый раз обливаясь слезами, раз десять! И этот великий итальянский карлик через переводчика объявляет мне, что завтра я еду в Полтаву, где буду сниматься в его фильме в роли итальянского солдата Лориса Баццоки! В главной роли! Позже я узнаю, что эту роль должен был играть знаменитый Энтони Перкинс, но студия «Галатея» не смогла собрать для него один миллион долларов, и американцы прислали тогда Питера Фалька (известного у нас по роли Коломбо в американском сериале), но у него один глаз оказался стеклянным, что совсем не понравилось Де Сантису.
Но сколько здесь таинственных совпадений! Во-первых, в Алма-Ате картину могли не закрыть, во-вторых, я мог задержаться в Тбилиси или поехать с одним знакомым режиссёром в Сухуми: «Делать ничего не надо! Только загорай и получай в месяц 250 рублей!!» – и, в-третьих, я мог бы не заходить в «Националь» несколько дней и т. д. и т. п.!
В общем, я понял, что это была длань Господня! Я спустился в кафе при гостинице «Москва», тут же на радостях выпил грамм сто пятьдесят коньяка и вдруг увидел знакомую ещё по Ленинграду рожу – это был Лёша Хвостенко с какими-то двумя приятелями. С Хвостом мы встречались у Бориса Понизовского – замечательного ленинградского человека, у которого всегда были открыты двери квартиры, в прихожей прямо на полу навалены горой пальто и куртки, где всегда можно было выпить, услышать всякие стихи и «принадлежать» к ленинградской нищей и наглой молодой богеме. Приятели Хвоста были, как у нас тогда говорили, «гнилые», да и Хвост был совсем не нашей закваски, но я им всем так обрадовался! – как же – земляки! Да у меня ещё такое событие! Кончилось всё просто – мы все ночевали в комнате Чудакова, я их всех полюбил, как родных, на следующий день они пошли провожать меня на Киевский вокзал, где я торжественно вручил Хвосту ключ от чудаковской комнаты, и он, как честный человек, дал мне слово, что будет очень аккуратен и т. д. и т. п., и что, когда будет уезжать, оставит ключ там-то и там-то.
В поезде целые сутки, пока мы ехали, со мной «беседовал» сотрудник первого отдела «Мосфильма». Он строго предупреждал меня, чтобы я «не входил ни в какие контакты с врагами-капиталистами», а на мои возражения, что я должен «работать над образом», учить язык, изучать их пластику, жесты и т. д., он твердил своё: «Держись от них подальше, а не то…» Это была первая в Советском Союзе масштабная совместная картина с капиталистической страной – там итальянцев было человек шестьдесят, и поэтому каждый второй «мосфильмовец» был или стукач, или агент КГБ. Впрочем, у итальянцев, я думаю, было примерно то же.