Текст книги "Что слышно (сборник)"
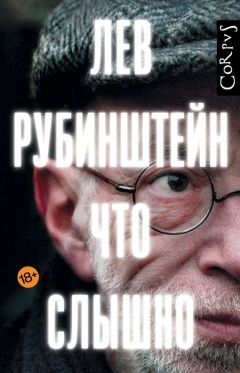
Автор книги: Лев Рубинштейн
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Наше общественно-политическое сознание насквозь пронизано эгоцентризмом, принимающим иногда довольно болезненные формы. Плюс традиционная деревенская подозрительность. Плюс не менее традиционная стародевическая обидчивость. Не потому ли разные события в мире, не имеющие, казалось бы, ровным счетом никакого отношения к российским делам, принимаются здесь исключительно на свой счет? Вроде того как амбициозный, но при этом крайне не уверенный в себе человек нервно озирается, расслышав в гуле толпы слово “дурак”.
Поэтому в мире, как вы, возможно, заметили, постоянно происходят различные антироссийские события.
Вот, допустим, в одной из стран бывшей советской империи заведут разговор о запрете коммунистической, а также нацистской символики. Это, чтобы вы знали, антироссийская акция. Ну а какая еще – не антигерманская же!
Или, например, в другой стране примут закон о люстрации бывших советских функционеров и чекистов. Это все против России. А вы как думали?
Или в совсем далекой стране шарахнут ракетой по дворцу маньяка с опереточным обликом, но с совсем не опереточной манерой пострелять с вертолета в живых людей, посмевших продемонстрировать недостаточно восторженные чувства по отношению к слишком уж долгому сидению на их шее заполошного ублюдка.
Это против России, если вы еще не поняли. Типа сказка ложь, да в ней намек.
Или, скажем, в одной балканской стране выковыряют из-под прелой соломы какого-нибудь очередного Гнидко Вшивича, очередного национально ориентированного живодера – бескомпромиссного борца за святое дело этнической стерильности. Да и поведут его под белые по локоть руки в город Гаагу для его личного участия в процессе публичной юридической квалификации его же пламенной деятельности.
Не преступление ли это против человечности? Не надругательство ли над национальным достоинством народа, позорно купившегося на сладкие посулы бесстыжей и бездуховной еврозоны, вместо того чтобы до последнего патрона и последнего куска хлеба отстаивать величие имени сербского?
И конечно же все это против России. Потому что это удар по традиционной нашей, заскорузлой всемирной отзывчивости, выражающейся, как правило, в снайперски точном выборе всей, какая только водится на планете, мировой швали в качестве объектов любви и сочувствия.
А на кого, как вы думаете, направлены натовские ракеты? Для того они, чтобы в случае чего какой-нибудь полоумный аятолла не вздумал поиграть со спичками? Ха! Не будьте лохами, пацаны. Россия их цель. Только она. И ее ресурсы конечно же. Ну и духовность, само собой.
Антироссийские вылазки не прекращаются. Потому что Россия – кость в горле. Потому что только она одна стоит на пути окончательного закабаления народов заокеанской закулисой, хищными ястребами Пентагона и алчными воротилами Уолл-стрит.
Но это, так сказать, на уровне сознания. Даже не сознания – риторики. На уровне же подсознания дело, мне кажется, в том, что они, то есть те, кто любые мировые события связывает с тем или иным отношением к ним, сами-то про себя отлично знают, кто они такие и что они такое. А потому и любое ассенизационное мероприятие в любой точке планеты совершенно искренне воспринимается как направленное непосредственно против них. А поскольку они еще и уверены, что они и Россия – это синонимы, то, конечно же, указанные мероприятия носят исключительно антироссийский характер.
Почему здесь столь нервозно реагируют на разговоры о том, что коммунистическая идеология родственна фашистской? Почему возникает столь истерическая реакция на попытки бывших окраин бывшей империи изжить советский морок? Откуда такая пламенная страсть по поводу судьбы памятников, монументов, знаков, портретов, флажков, названий улиц? Почему все то, что в годы советской власти маркировалось как антисоветское, стало восприниматься как антироссийское?
Почему, когда кто-то где-то воспринимает нынешнюю Россию как духовную наследницу колхоза имени Сталина, это вызывает такую нервную реакцию? Если вы, господа-товарищи, и сами считаете так же (а ряд высказываний и поступков некоторых видных политических и государственных деятелей это вполне подтверждает), то чего же обижаться. Это же вроде как хорошо. Вроде как правильно. Держим, мол, не роняем знамя дедов-охранников. Или вы так не считаете и уверены, что Россия давно уже избавилась от коммунистической утопии и отважно присоединилась к семье цивилизованных народов? Тогда тем более – зачем обижаться на дураков? Вот если бы, допустим, англичан кто-нибудь заподозрил в массовой приверженности коммунистическим или национал-социалистическим идеям, как бы среагировал на это среднестатистический англичанин? Правильно, он бы улыбнулся и пожал плечами.
Почему все это? Россия ведь уже вроде как другая страна. Она ведь вроде как уже не СССР. Она уже как бы имеет цивилизованную конституцию. Политическая система уже вроде как не однопартийная. Вроде как имеются в ассортименте различные права и свободы, такие же, как “у них”, а то и лучше. Вроде бы рынок и частное предпринимательство. Или это все толстый слой косметики, под которой таится дряблый морщинистый совок? Я, заметьте, всего лишь спрашиваю, хотя ответ мне более или менее известен.
Есть, мне кажется, и еще один мотив этой повышенной мнительности. Очень, надо сказать, грустный мотив. В разное время к России в мире было разное отношение: ее боялись, ее пытались разгадать, ею восхищались, ее ненавидели, ею интересовались. По-разному было.
В наши дни усилиями дорвавшихся до власти унылых ничтожеств Россия стала для мира удручающе неинтересной страной – скучной, безнадежно провинциальной и к тому же не очень полезной для здоровья. Страной, загнавшей саму себя – вроде как в свое время реку Неглинку – в нефтегазовую трубу. И очень скоро может случиться так, что лишь через эту трубу и будет осуществляться зыбкая связь страны с миром.
Если внутри страны и попадаются отдельные особи, искренне верящие, что Путин дал народам России письменность, научил их пользоваться спичками, интернетом и унитазным ежиком, то во взрослом мире он как был, так и остается мелким дрезденским сексотом без облика и склада, которого Россия, как это ни печально, оказалась достойна.
Как тут не ловить повсюду мнимые знаки внимания? Как тут избежать соблазна принимать все происходящее в мире на свой счет? Ну хотя бы и со знаком минус. Ну хотя бы как.
Что хотелось бы забыть, но не получается1.
День моего четырехлетия, когда я больно укусил одного из гостей, соседского Борю Никитина. За что – не помню. Скорее всего, ни за что. А он, между прочим, подарил мне пистолет и набор пистонов.
2.
Девять часов вечера, когда мама “безо всяких разговоров” укладывала меня спать. А они-то все там, за стеной, пили чай с тортом, смеялись. Разумеется, надо мной.
3.
Кто-то ужасный, кто прошел однажды прямо за окном, – не человек, не коза, не собака. Прошел, шурша мерзлыми сухими ветками, и исчез куда-то. Заснешь тут, пожалуй.
4.
“Детский мир”, куда мы поехали с мамой, чтобы наконец-то купить мне матросский костюм. Куда там! Вместо этого почему-то был куплен пестрый колючий свитер. Как я плакал всю обратную дорогу. Как я ненавидел этот свитер, этот магазин, эту маму.
5.
Облеванный мною халат врача, залезшего мне в глотку деревянной палочкой.
6.
Спичечный коробок с кусочком кала на анализ, непостижимым образом потерянный по дороге в поликлинику.
7. Операция на гланды.
8. Рыбий жир.
9. Молочный суп.
10. Боязнь заснуть и не проснуться.
11.
Как я дразнил бабушку за то, что она читает перед сном одну и ту же книжку, причем справа налево, и при этом бормочет себе под нос что-то не по-русски. Это было ужасно смешно.
12.
Как соседская дворняжка Булька стащила с меня трусы на глазах Тани Синотовой.
13.
Как я выпил полстакана постного масла (думал, что квас) и что было потом.
14.
Как по дороге с новогодней елки я съел весь подарок и что было потом.
15.
Как мама обещала, что мы поедем в воскресенье на ВДНХ гулять и есть мороженое, но что-то случилось, и мы не поехали.
16.
Деревянный конь Сивка, который у Сашки был, а у меня – нет.
17.
Бежевый плащ Елены Илларионовны, заляпанный чернилами, которыми я случайно пульнул из водяного пистолета. Уж так вышло.
18.
Витька Леонов из соседнего двора, который обозвал меня жидом, на что я ему сказал, что сам он жид.
19.
Учительница Марья Васильевна, которая не разрешила мне выйти из класса, и я описался.
20.
Завуч Юлия Михайловна, дернувшая меня за ухо так, что пошла кровь.
21.
Историк Иван Тихонович, говоривший “лабровраденческое государство” и называвший меня почему-то Гуревичем.
22.
Англичанка Анна Павловна по прозвищу Половник, которой я однажды зачем-то подставил подножку, и она упала. До сих пор не понимаю, как это получилось.
23.
Субботник, воскресник, сбор металлолома, сдача норм ГТО.
24.
Прием в пионеры, прием в комсомольцы, прием у зубного.
25. Вообще школа.
26. Первые литературные опыты.
27. Вторые литературные опыты.
28.
Ленин, из-за которого я навсегда рассорился с одной девушкой. Она говорила, что что-то же должно у человека быть святое.
29.
Повышенные социалистические обязательства.
30. Песня “Мой адрес – Советский Союз”.
31. Песня “Каким он парнем был”.
32. Песня “И Ленин такой молодой”.
33. Некоторые другие песни.
34.
Памятник Дзержинскому, у которого я однажды назначил свидание, забыв, что подойти к нему невозможно. Свидание, понятное дело, не состоялось.
35.
Пять часов в очереди за водкой в конце декабря 1988 года. Водка нужна на поминки: мама умерла.
36.
Пять часов вечера четвертого апреля тысяча девятьсот девяносто шестого года. В чем там было дело, не скажу.
37. Многое другое.
Косвенная речь
Праздник возвращеньяНу разумеется, радио. Радио, неизбежно висевшее на кухонной стене и не умолкавшее ни на миг, пело и играло нам эти песни с утра и до позднего вечера. Это не было ни искусством, ни культурой, ни поэзией, ни музыкой. Это было чем-то существенно большим – неумолчным фоном повседневности. То есть самой повседневностью, неотделимой от чистки картошки или купания младенца в корыте, коммунальной склоки или запаха маминого борща.
Но и не только радио. Разве ж забудешь одноногого дядю Сережу, которого на все семейные праздники вся квартира зазывала с его трофейным аккордеоном. Это такое было счастье! Для детей особенно. Для взрослых, кажется, тоже. “И пока за тума-а-нами видеть мог паренек”, – пел дядя Сережа, и все ему подпевали. Тогда слова песен знали практически все.
Я тоже пою иногда эти песни. И в детстве, и теперь. И ловлю себя на том, что в своем пении я невольно подражаю не певцам из радиоточки, а дяде Сереже, вносившем в свою певческую манеру слегка дворовые, чуть-чуть приблатненные интонации.
Я думаю, что годы войны были самыми несоветскими годами за всю советскую историю. Это был единственный эпизод, когда практически совпали по большинству пунктов интересы государства и общества, государства и отдельных людей. Все было предельно понятно и ясно: на нас напали, нас хотят уничтожить, мы должны сражаться, чтобы спасти и защитить наши дома и наших родных. Хотя объективно получалось так, что спасали заодно и политбюро, и товарища Сталина, и НКВД, и колхозы, и ГУЛАГ.
Вот и расцвела тогда пышным цветом песенная лирика. И ничего похожего по силе и достоверности не было ни до войны, ни после нее.
О чем эти песни? Да об одном и том же. Они были подчинены единому канону, но не тому ГОСТу, в соответствии с которым производилась большая часть советской художественной продукции, а канону глубинному, фольклорному.
Вот сравните: “Лети, мечта солдатская, к дивчине самой ласковой, что помнит обо мне” – “Всю нежность свою, что в смертном бою, солдат, сберегли мы с тобой, мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой” – “И каждый думал о своей, припомнив ту весну. И каждый знал – дорога к ней ведет через войну” – “Ты ждешь, Лизавета, от друга привета и не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу – к тебе я приеду на горячем боевом коне” – “Чтоб все мечты мои сбылись в походах и в боях, издалека мне улыбнись, моя любимая” – “Мне нелегко до тебя дойти. Ты меня, родная, жди и не грусти. К тебе я приеду – твоя любовь хранит меня в пути” – “Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю – со мной ничего не случится” – “Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви”.
Может показаться, что все эти песни на одно лицо. Но они все разные, потому что все они настоящие. А настоящее всегда неповторимо, как походка, как интонация, как тембр голоса.
Вспомните слова этих песен. Вы не найдете там ни Сталина, ни Ленина, ни ВКП(б), ни колхоза-совхоза, ни пятилетки в четыре года – нету там ничего, что бы отдаленно указывало на конкретные реалии агитпропа и Совинформбюро 1940-х годов.
Нету в этих песнях никакой руководящей роли партии и правительства. А есть там другая руководящая роль – руководящая и направляющая роль мужества, разлуки, смертельной опасности, ожидания, верности, любви и надежды. И всего лишь. И это самое “всего лишь” как трогало сердца людей в те годы, так трогает и теперь.
Если попробовать вынуть эти песни из исторического контекста, не будет даже и понятно, в какое время и о каком времени они поются. О чем речь? О чем и во все времена – “о службе морской, о дружбе мужской”.
Получается, что речь идет о войне вообще. О той единственной, Троянской. И главными героями, что в той, что в этой войне неизбежно оказываются не маршалы и не верховные главнокомандующие, не цезари и не сталины, а все те же вечные и никогда не стареющие Одиссей и Пенелопа. Прямиком из древнего эпоса, чудесным образом помноженного на бесхитростную, почти лубочную эстетику городской окраины, дошли до нас эти вечные, а потому бесконечно трогающие мотивы.
Авторами стихов этих песен, что удивительно, были поэты, прямо скажем, не первого ряда. Многие из них в мирное время производили тягучие и вязкие “споем же, товарищи, песню о самом родном человеке, о самом любимом и мудром – о Сталине песню споем”. Но именно эти стихотворцы волей исторических обстоятельств оказались сверхпроводниками, универсальными медиумами фольклорного сознания, радикально очищенного от плотного культурного слоя.
Это были те самые пресловутые “простота” и “народность”, что столь естественны, насущны и спасительны в годы освободительных войн и столь крикливы, агрессивны и попросту реакционны в мирное время, требующее от художника интеллектуальной отваги, повышенной рефлексии, беспощадного скептицизма и умения сказать твердое “нет” в ответ на всенародное “да”.
В искусстве необычайно важна и насущна уместность высказывания, точечное попадание в конкретный контекст. Предельная уместность, актуальность и точность художественного жеста, безотказно сработавшие однажды, обретают непостижимую способность срабатывать и в других культурно-исторических контекстах. Поэтому мы будем снова и снова перечитывать “Онегина”, “Капитанскую дочку”, “Анну Каренину”, “Трех сестер”. Поэтому мы всегда будем петь песни военных лет, каким бы конъюнктурным натискам ни подвергались вновь и вновь война и победа.
Инерция этой внезапно и мощно прорвавшейся свободы тянулась еще и в первые послевоенные годы, но стала все больше и больше противоречить и мешать трескучей “победной” риторике. Этой болотной ряской, впрочем, духовная жизнь общества стала все заметнее и заметнее зарастать уже к концу войны, когда “великое руководство” перестало ходить под себя от страха, слегка поуспокоилось и начало вновь – сначала робко, а потом все уверенней – напоминать людям о том, кто в доме хозяин и кто для нас с вами выиграл эту страшную и великую битву.
Но намек поняли не все. Сразу после войны Исаковский и Блантер сочинили свой шедевр “Враги сожгли родную хату” – трагическую и бесконечно человечную балладу о вернувшемся с фронта солдате. Это была беспощадная инверсия всей предшествующей военно-песенной лирики. Он воевал. Она ждала. Он вернулся. А ее нет в живых. “Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?”
Вот вам и “жди меня”. Вот вам и любовь. И верность. И надежда. “Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд…”
Песню запретили, кажется, почти сразу же, после первого или второго исполнения. Да разве ж такое запретишь!
Откуда мы все вышлиСтранный был такой предмет у нас в девятом классе. Назывался “машиноведение”. Это потому, что в школах тогда насаждалось “политехническое образование”. Через пару лет эта фигня как-то сама собой отсохла, но тогда, в годы развитого волюнтаризма, цвела она пышным цветом. Вот и машиноведение поэтому. Из всего курса я запомнил всего лишь два слова, хотя и, говорят, очень важных, – “допуск” и “посадка”. Только не спрашивайте, что это такое, не срамите меня.
На этих уроках, проводимых два раза в неделю, мы занимались чем угодно, но только не поиском различий между допуском и посадкой. А уж такие дикие слова, как, например, “станина”, и вовсе пролетали со свистом мимо еще не увядших юных ушей.
Учитель был довольно незлобивый, но нервный – иногда багровел и начинал страшно орать. Его все равно не боялись.
И имя-отчество было у него какое-то мультикультурное – что-то вроде Ивана Моисеевича. Кажется, именно так его и звали.
И выглядел он, изъясняясь в сегодняшних категориях, довольно фриковато: треснутые очки, перекрученный, всегда один и тот же, галстук, выползающие из-под брюк голубые кальсоны, неубедительно крашенные волосы.
И говорил он довольно смешно. Нас, например, приводило в исступленное состояние слово “отверствие”. А еще он говорил “шешнадцать миллиметров”.
В общем, легко догадаться, что над ним издевались, или, как это называлось тогда на нашем поганом подростковом языке, “доводили”. Доводили его со всей доступной нам изобретательностью. Старались, например, с самым невинным видом задать такой вопрос “по теме”, чтобы в ответе непременно прозвучало “шешнадцать”. Были у нас даже признанные специалисты в этой малопочтенной области.
На его уроках в полный голос разговаривали, пулялись жеваными промокашками, пускали под потолок бумажные самолетики, вальяжно фланировали по классу. Когда он вдруг осознавал, что за шумом и гвалтом он и сам не может расслышать ни единого своего слова про допуски и посадки, он хлопал журналом об стол и вопил срывающимся голосом: “Мы будем заниматься или мы будем дурочку валять?” – “Дурочку валять!” – пубертатными петухами отзывалась мужская часть класса, заливаясь безмятежным допризывным гоготом.
Как он все это выдерживал, до сих пор непонятно.
Иногда после коротких приступов нестрашной своей ярости он как-то смущенно спохватывался и говорил тихо, так тихо, что в нескончаемом кошачьем концерте это мог расслышать только я, все десять школьных лет просидевший по причине близорукости на первой парте: “Ребята, ну нельзя же так!”
Если я скажу, что при этих словах я начинал испытывать уколы совести или тем паче пресловутое “щекотание в носу”, то мне, скорее всего, не поверят – и правильно сделают. Я, разумеется, и мысли не допускал, что можно и нужно быть не таким, как все. Еще чего!
“Шинель” уже была прочитана мною. И что? А ничего. Все мы еще из нее не вышли. И, в общем-то, не особенно и собирались из нее выходить. Для того чтобы научиться содрогаться от невероятного “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”, мне понадобился не один год.
Все это я пишу, если кто еще не понял, про Гоголя, про Николай Васильича. И к этому мне добавить особенно нечего.
А что наш непутевый Иван Моисеевич был однажды избит и ограблен, что с него было снято новое зимнее пальто, что он шел до дому пару километров по морозу в одном пиджачке, что он на месяц-полтора слег с воспалением легких и что это обстоятельство несказанно повеселило и обрадовало наш чудесный 9-й “А”, я вовсе не выдумываю. Так и было. По крайней мере могло бы быть.
Шведская сценка“Ну? – бодро и, главное, предсказуемо спросил меня коллега по редакции, лишь только я вошел туда с ритуальным дьютифришным «Абсолютом» в руках. – Сейчас небось засядете за путевые заметки?”
И мы с ним тотчас же предались излюбленному занятию – импровизированию советского заграничного очерка, начинающегося, как правило, со слов “Мельбурн (Осло, Гамбург, Нью-Йорк, Карачи) встретил меня проливным дождем”. Далее обязательно следовали встречи с “простыми людьми”, жадно расспрашивавшими “меня” о жизни в СССР и положении рабочих. Узнав, что с положением рабочих в СССР все о’кей, простые люди горестно вздыхали и сообщали автору, что у них там с положением рабочих даже и близко не о’кей. О чем и просили “меня” рассказать советскому читателю, ни в коем случае не называя их настоящих имен. Автор же, верный данному слову, честно, ничего не перевирая, кроме имен отважных информантов, передавал советскому читателю нерадостные вести о жизни простого люда. Советский читатель, разумеется, верил каждому правдивому слову писателя и его стройной картине мира, где, например, пожилой докер, отогнув ворот спецовки, показывал автору потайной значок с изображением Ленина, отчего у автора наворачивались на глаза непрошеные слезы. Фальшивый блеск витрин там неизбежно служил толстым слоем грима, под которым скрывалась дряблая кожа пресловутой западной демократии. Ну и так далее.
(Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, мой неугомонный коллега ехидно спрашивает, не про “гостеприимную ли шведскую землю” я строчу свой “репортаж”. Про нее, коллега, про нее самую. Не мешайте работать.)
В этот раз я действительно вернулся из города Стокгольма, который встретил меня никаким не дождем, а ярким солнцем и ужасно холодным ветром. Там было очень холодно и очень красиво, тем более что окно моего гостиничного номера выходило прямо на залив с качающимися от шквального ветра яхтами.
С “простым людом” пообщаться по душам не пришлось. Попадался в этот раз, как назло, все больше не самый простой люд в лице университетских славистов – как хорошо знакомых, так и не очень.
На второй день имел место вечер с моим участием в клубе, где кучкуются местные гуманитарные люди. Все это мероприятие называлось “Русский вечер”. Кроме меня была шведская поэтесса, чье участие мотивировалось, по-видимому, тем, что она сочинила поэму про свою давнюю поездку в Ленинград, где, судя по ее устным свидетельствам, она общалась как раз с пресловутым простым людом. Причем едва ли не вся мужская составляющая этого люда дружно, не сговариваясь, проявляла к ней нескрываемый марьяжный интерес. Будучи девушкой по отношению к себе вполне трезвой, даром что поэтесса, она из этого не стала делать слишком лестных для себя выводов, а просто сообразила, что всему этому люду ужас как хотелось умотать в Швецию, где, как было сказано, блеск витрин неизбежно служил толстым слоем грима.
Еще в “Русском вечере” участвовал ансамбль с двумя певцами: один был натуральный цыган с соответствующим репертуаром, другая – рослая красавица, певшая песенки на идиш. Я этого прекрасного языка не знаю, но, услышав слова “Бессарабия” и “эссен мамалыге”, я, кажется, что-то понял.
Среди музыкантов выделялся скрипач – невысокий чернокожий парень в смешной шляпе с узкими полями. Изумил меня не столько его облик, сколько то, что он заговорил со мной на очень неплохом русском. “Вы откуда?” – спросил я его. “С Кубы, – ответил он. – А русский я знаю потому, чтозакончил Киевскую консерваторию. Потом еще и в Одессе жил”. И, радостно засмеявшись, он добавил: “Я кубинский хохол”. Как этот кубинский хохол попал в Швецию, я спросить постеснялся.
Такой вот был “Русский вечер”. Хотя почему бы и нет. Все-таки “всемирная отзывчивость” – не пустые же слова.
Я, кажется, знаю, почему все эти четыре дня я столь пристально приглядывался и прислушивался к разным забавным мелочам, которые в другое время могли бы и пройти мимо моего внимания. Я думаю, что так выразилась психическая реакция на страшные и мучительные известия из Японии, наваливавшиеся на меня то с экрана телевизора, то со страниц газет. Непонятный язык усиливал впечатление нереального кошмара и чувство бессильного сострадания.
В другое время я мог бы и не обратить внимания на забавный речевой казус, случившийся в разговоре со старинным моим приятелем, филологом-русистом из Гетеборга. Когда я спросил, как поживает его семья, он вдруг меланхолически, как мне показалось, сказал: “На сегодняшний день в Швеции четыре идиота”. Не успел я восхититься столь высоким интеллектуальным уровнем шведского населения, не успел я с доброй завистью сказать ему, что всего четыре идиота на всю, даже и не слишком многонаселенную, страну – это очень высокий результат, как он продолжил: “А теперь моя жена…” Тут я впал в легкую панику, лихорадочно пытаясь смоделировать свою дальнейшую реакцию. Но паника была недолгой, потому что он снова продолжил: “А теперь моя жена получила заказ от одного очень уважаемого издательства на новый перевод”.
Фу-ты, черт, слава богу! Слово “идиот” мгновенно оделось в крепкие кавычки, как реки одеваются в гранитные берега, и незыблемая картина мира, хоть и утратила на миг свои привычные очертания, все же обрела их вновь.
Да и как я мог не догадаться сразу! Все же понятно: его жена – переводчица, она уже перевела на шведский несколько томов Платонова. А теперь вот получила заказ на новый перевод “Идиота”. А до этого их было четыре. Кто тут идиот, спрашивается? Не надо мне подсказывать, я сам знаю.
Я поведал об этом казусе своему собеседнику, и он от души повеселился, добавив ради восстановления пошатнувшейся было истины, что идиотов в Швеции все-таки существенно больше, чем четыре. Некоторое время мы померялись масштабами наших национальных идиотизмов и пришли к неизбежному, хотя и печальному, консенсусу: в мире, к сожалению, идиотов больше, чем нормальных людей. После чего отправились на рыбный рынок есть какую-то особенную жареную сельдь.
…А мой редакционный коллега между тем все не унимается. Вот и опять вкрадчиво спрашивает, не собираюсь ли я назвать свой текст “Из стокгольмских тетрадей”. А что, мол, скромно и в то же время оригинально. Собираюсь, коллега, конечно же собираюсь, какие сомнения! А если вы такой умный, то придумайте название сами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































