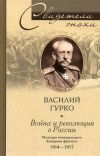Текст книги "С театра войны 1877–1878. Два похода на Балканы"

Автор книги: Лев Шаховской
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
В селении Трестеник
Генерал Гурко, назначенный на днях начальником всей кавалерии (как русской, так и румынской), расположенной в окрестностях Плевны, обратил свое внимание главным образом на Софийское шоссе, которое может поистине назваться единственной и самой важной жизненной артерией Плевны. Через Софию сообщаясь с Константинополем, турецкая армия, сосредоточенная в Плевне, может получать из самой столицы Османлисов жизненные и боевые припасы, подкрепления войсками, вывозить раненых и больных и, наконец, в крайнем случае отступить из Плевны за Балканы. Благодаря такому важному значению Софийского шоссе для Плевненской армии, турки употребляют все старания, чтобы укрепить и обеспечить для себя этот единственный спасительный для них путь. Окруженный со всех сторон русскими и румынским силами, Осман-паша держит еще в своих руках этот последний ключ в Плевне – дорогу в Софию. Укрепления, возведенные турками для защиты Софийского шоссе, начинаются у самого города Плевны, именно у каменного моста, ведущего через реку Вид. Этот мост защищается так называемыми предмостными укреплениями (têtes de pont), расположенными на окрестных к мосту высотах; из этих укреплений самое значительное находится на возвышенности близ деревни Опанец севернее Плевны. Затем, все селения вдоль Софийского шоссе заняты турецкими войсками всех трех родов оружия; в селениях Дольнем и Горнем Дубниках, Телише, Луковицах, Брестенице, Яблонице и других воздвигнуты редуты для артиллерии, накопаны ложементы и ровики для пехоты. Турецкие транспорты, двигающиеся по шоссе от селения к селению, прикрываются обыкновенно густыми колонами кавалерии и пехоты при орудиях, причем кавалерия держит по сторонам дороги разъезды для предупреждения неожиданного нападения. Едва показывается где-нибудь вблизи шоссе русская или румынская кавалерия, пехотный конвой турецкого транспорта немедля сходит с шоссе в сторону вместе с орудиями и выстраивается в боевой порядок на двойное и тройное расстояние ружейного выстрела этого транспорта; посылают тотчас же в соседнюю деревню гонца за подкреплениями, а из деревни посредством условных знаков, флагов или зажженных пучков соломы дают знать в Плевну, что неприятель приближается к шоссе, и из Плевны выходят войска на помощь транспорту. Таким образом, каждое селение на Софийском шоссе грозит ежеминутно обратиться в крепость и каждый пункт на шоссе во время движения турецкого транспорта – стать местом продолжительного и ожесточенного боя. Но не всегда удается туркам привести в действие эту хитро задуманную организацию защиты Софийского шоссе. Вчера, 3 октября, сотня казаков, завидя из селения Митрополь вереницу подвод, выходящих из Плевны, прорвалась сквозь цепь турецких аванпостов и под выстрелами Опанца и предмостных укреплений достигла турецкого транспорта, не потеряв при этом ни одного человека убитым или раненым. Турецкие пехота и кавалерия, конвоировавшие транспорт, ошеломленные таким неожиданным нападением, кинулись назад в Плевну, не сделав по казакам ни одного выстрела, а турецкие батареи принуждены были замолчать, так как иначе им пришлось бы стрелять по собственному же транспорту. Транспорт этот шел в Орхание с больными и ранеными, и казаки ограничились тем, что выпрягли волов из телег, самые телеги испортили и угнали вместе с волами гурт баранов в количестве 300 штук.
Сегодня у нас первый теплый и ясный осенний день; до сих пор сеял тонкий и беспрерывный дождь наполовину со снегом, было невыносимо сыро и холодно. От холода много турок бежало из Плевны, много их было поймано казаками на наших аванпостах. Которых приводили к генералу Гурко для допроса, все имели жалкий и несчастный вид, жаловались на голод и сырость и, прежде чем отвечать на вопросы, просились отогреться. В течение двух последних дней было приведено до 25 человек турецких беглых солдат, с посинелыми губами, с желтыми худыми лицами, с воспаленным взором, одетых легко; они, входя в избу генерала, тянулись все руками к топившейся печке, и когда генерал давал им хлеба и чаю, они с жадностью поглощали и то, и другое, повторяя: «Аллах наградит тебя за твою доброту». На вопросы они отвечали односложно, не пускаясь в объяснения и ограничиваясь только необходимым ответом. Их показания рисовали положение турецкой армии в Плевне в плачевном свете и во многом были согласны между собой. Между прочим, эти дезертиры показывали, что с наступлением дождливой и холодной поры десятки турецких солдат оставляют свои посты и по ночам уходят из Плевны. Больных много, преимущественно лихорадками, так как теплой одежды у солдат нет вовсе, и с переменой погоды одежда солдат осталась все той же. Обыкновенно больных этих и раненых помещают в самом городе в болгарских домах, из которых выгнали хозяев на улицу: болгарские дома остались единственными уцелевшими от бомбардировки в Плевне, турецкая же часть города вся разрушена русскими снарядами. Раненых и больных вывозят из Плевны небольшими партиями (повозок во сто и полтораста) в Орхание (на Софийском шоссе), где находится турецкий госпиталь, и оттуда в Софию. Между прочим, в Плевне уцелели от бомбардировки все болгарские церкви, в которых, по показаниям опрошенных дезертиров, хранятся склады пороха и боевых припасов, и вход в эти церкви охраняется часовыми. Число турецкого войска в Плевне простирается до 50 тысяч низама, который за потерями пополняется редифом и мустегафизом из Софии. Продовольствие войска весьма скудное, состоящее обыкновенно из отпускаемого на каждого солдата в день трех четвертей фунта хлеба, испеченного из смеси кукурузы и ячменной муки, и, кроме того, полфунта мяса, выдаваемого на два дня. В настоящее время запасы муки и мяса доставляются в Плевну из отдаленных мест, так как окрестные деревни дочиста обобраны турками, и находившиеся в них болгарские склады хлеба, так же как и стада баранов, съедены плевненской армией. Осман-паша живет в палатке за городом, в лощине, близ дороги, ведущей в Гривицу; он каждый день объезжает некоторые из позиций Плевны и посещает в городе больных и раненых. В боевых припасах оказывается также недостаток: прежде, по показанию беглых солдат, отпускали до 300 ружейных патронов на человека, а теперь выдают всего по 60 или 80 патронов. Свое бегство из Плевны дезертиры объясняют голодом и сыростью. По большей части дезертиры эти страдают от лихорадки, и показания их сводятся к изображению такого печального существования в Плевне, при котором им жить больше невмоготу. Этим печальным положением дел они объясняют и оправдывают свое бегство.
К генералу Гурко приводят также ежедневно по несколько человек болгар, жителей Плевны. Изгнанные из своих домов на улицу турками болгары, несмотря на запрещение под страхом смертной казни уходить из Плевны, бегут оттуда целыми семьями к линии наших аванпостов, обыкновенно по ночам, но показания этих беглецов ничтожны. Они сами говорят, что турки скрывают от них все и так презирают их, что не только не сообщают им ни слова о своих нуждах, но и ни с чем, кроме приказаний, не обращаются к ним. Болгары эти только и делают, что жалуются на свою несчастную долю и на то, что турки их окончательно обобрали.
Совершенно противное показали два солдата, захваченные вчера в плен казаками при нападении на турецкий транспорт (больных и раненых). Солдаты эти имели бодрый и здоровый вид и на все вопросы отвечали, что положение турецкой армии в Плевне блестящее, что плевненская армия ни в чем не нуждается, имеет теплые одежды, получает достаточное количество продовольствия, а именно по два с половиной фунта в день хлеба и по два фунта мяса на человека, и что бегают из Плевны одни только трусы и негодяи, словом, которым доверять никак не следует.
Генерал Гурко, перейдя реку Вид, расположил временно свой штаб в селении Трестеник северо-западнее Плевны. Это бедная, печальная деревушка, выглядевшая еще печальнее сквозь сетку мелкого дождя, не перестававшего идти две недели кряду. Домики врыты в землю, крыши покрыты землей, и вся деревня имеет вид сотни разбросанных на большом пространстве землянок. Подъезжая к этой деревушке в сырую погоду, не различишь даже вблизи домов; дым, выходящий из крыш, стелется низко по земле, и видишь только будто сама земля дымится и курится. На улице деревни – невылазная грязь, глубокая, липкая, в которой уходят и вязнут ноги лошадей. А под земляными крышами, в какой домик ни заглянешь, царит одна и та же невеселая картина. Внутренность землянки без окон, в углах темно, свет проходит через единственное отверстие, пробитое где-нибудь сбоку в крыше. Это отверстие служит вместе с тем и трубой для выхода дыма. Под этой дырой на полу горит целый день огонь, которому в пищу отдаются высохшие стебли кукурузы. Пламя мгновенно вспыхивает ярко и сильно и на минуту освещает темные углы землянки красноватым отблеском; огонь ослабевает, и густой дым поднимается в отверстие и борется там со снежинками и каплями мелкого дождя. В углах землянки сыро и холодно; просачивающийся сквозь крышу дождь формируется в большие капли, и капли эти глухо падают на пол. В одном из углов охает и стонет болгарин в лихорадке, накрытый разного рода тряпьем, женским платьем, полушубками, а вокруг огня десяток ребятишек протягивают свои захолодевшие ручонки к пламени, на котором варится тут же их незатейливый обед, по большей части – кукуруза в разных видах: вареная, печеная, хлеб из кукурузной муки… Женщины то и дело снуют по избе, кто с ведром воды, кто с дровами; другие сидят с работой – прядут нитки и прикрикивают на детей. На вопросы: кто они, откуда? – звучит один и тот же ответ: «Беглые из селений Ракиты или из селения Яблоницы; пришли к ним турки, взяли у них все: телеги, быков, овец, ячмень, одежду и повыгнали их из домов; едва сами успели спастись бегством». Женщины-болгарки безропотно переносят суровую долю и, принужденные приютиться в чужом доме, целый день работают на себя и на семью хозяина. Наоборот, мужчины-болгары только и видишь, что сидят без дела у огня, глядят тупо в одну точку и на вопросы отвечают односложно и неохотно.
Между тем по улицам этой бедной деревушки, по невылазной грязи проезжают ежеминутно блестящие рошиоры (регулярная румынская кавалерия), на высоких и красивых конях офицеры, элегантно сидящие верхом, на голове маленькая шапочка, кокетливо накинутая набекрень. Тут же сторонкой плетется невзрачный кубанец и тащит за собой десяток лошадей к ручью, протекающему через деревню; проедет партия осетин. Последних сразу не отличишь от черкесов. Та же маленькая лошадка, порыжевшая бурка, небрежно накинутая на плечо, мохнатая папаха и восточный тип лица. Но зато эта невзрачная на вид кавалерия навела панический страх на все виды турецкой кавалерии с тех пор, как появилась за рекой Вид. После двух-трех стычек с черкесами и регулярной турецкой кавалерией она достигла того, что ни один черкес и ни один турецкий всадник не осмеливается отъехать за версту в сторону Софийского шоссе. Турецкие пули кубанцы и владикавказцы презирают, говоря, что турки стреляют, не целясь, да и вообще ружейную перестрелку считают ни к чему не ведущей забавой, в которой и время тратишь, и людей губишь.
– Настоящее сражение, – объясняют они, – состоит в том, чтобы с гиком кинуться на турок и рубить их шашками: кто больше зарубил турок, тот и герой.
При этом они указывают на одного осетина, коренастого, невысокого роста, который под Ловчей зарубил 18 человек турок и больше бы зарубил, прибавляет рассказчик, да на 18-м удар пришелся по затылку, а всякий дурак знает, что эту кость хоть топором руби, только топор сломаешь; на 18-м у него и выскочил клинок из рукоятки.
Третьего дня у владикавказцев было большое празднество по случаю раздачи Георгиевских крестов за дело под Ловчей. Много было по этому случаю изжарено и съедено шашлыка, немало выпито вина, празднество окончилось танцами, лезгинкой и заключилось комической сценой. Между владикавказцами есть несколько мусульман, которые получили орденские знаки Святого Георгия, установленные для нехристиан, то есть с изображением на кресте орла, а не Георгия, скачущего на коне. После вина и танцев мусульмане обозревали кресты своих товарищей и, заметив разницу между ними, пришли к своему полковому командиру, жалуясь на то, что их обидели.
– Не хочу птицу, – говорили они, – давай джигита! Командир отправил их спать, и они успокоились. Под Плевной все эти дни не умолкает канонада. Турки редко отвечают на наши выстрелы.
Трестеник,4 октября 1877 г.
Императорская гвардия под Плевной. День генерала Гурко
Генерал Гурко, получив новое назначение командующего всеми войсками, которые будут переправлены за реку Вид, избрал своим временным местопребыванием селение Иени-Беркач, на юго-востоке от Плевны. Это селение лежит в местности, пересеченной холмами, на склоне возвышенности и представляет то удобство, что отсюда открывается обширный кругозор на линию Софийского шоссе, начиная от селения Дольний Дубник, под самой Плевной, и до селения Телиш. В ясные осенние дни, какие стоят теперь у нас, невооруженным даже глазом видно из Иени-Беркача сквозь прозрачный воздух ряды турецких транспортов, двигающихся по шоссе взад и вперед из Плевны и обратно, а по вечерам и ночью линия шоссе усеивается светящимися точками от огней турецких биваков. Видимо, турки зорко стерегут и внимательно блюдут свой единственный путь в Плевну и, следуя своему военному правилу врастать в землю, окружили себя и здесь ровиками, ложементами, редутами, словом, по линии шоссе вросли в землю, озаботившись из каждой возвышенности у шоссе образовать новую маленькую Плевну.
В настоящую минуту, как оказывается из наблюдений и расспросов пленных или беглых из Плевны турецких солдат, на Софийском шоссе царит особенно оживленное движение. Что касается транспортов, идущих по направлению к Плевне с продовольственными и боевыми запасами, то транспорты эти всегда часты и многочисленны, так как в самой Плевне и те, и другие запасы истощились, между тем как для прокормления 50–60-тысячной армии в Плевне требуется огромный ежедневный подвоз провианта. Но навстречу этим транспортам выходят в настоящую минуту не менее многочисленные транспорты из Плевны, направляясь в Орхание и Софию. Эти последние транспорты наполнены больными и ранеными солдатами, которых турки, по последним известиям, вывозят всех из Плевны до последнего раненого или больного. Вместе с тем Осман-паша распорядился о немедленной высылке из Плевны всего как болгарского, так и турецкого населения города, отобрав уцелевшие от бомбардировки здания под зимние квартиры для солдат. Жители Плевны, как рассказывают, воспротивились было такому распоряжению Осман-паши, но турецкий начальник объявил им, что они могут, пожалуй, оставаться в городе под условием не выходить за черту города за добыванием себе пищи. Этого было достаточно, чтобы население потянулось на другой же день по Софийскому шоссе, уходя в Орхание и Софию. Подобные меры, принятые Осман-пашой, показывают только, что турки, удалив от себя лишний балласт и укрепив дорогу в Софию, намереваются держаться в Плевне до последней возможности. Наши орудия продолжают напоминать им о себе. Но система пальбы с нашей стороны несколько изменилась в последнее время. Отдельных выстрелов не слыхать вовсе, одни лишь глухие звуки залпов из многих орудий разносятся в окрестностях Плевны. Принято теперь направлять орудия многих батарей в одну точку, представляющую почему-либо наибольшую важность, чтобы сосредоточенным таким образом огнем наносить в данной точке наибольшее количество вреда туркам.
Возвращаюсь к селению Иени-Беркач, в котором находятся в настоящую минуту генерал Гурко и его штаб. Оно совершенно покинуто жителями. Турецкое население бежало от страха быть застигнутым русскими войсками, болгарское – в страхе от возможности турецкого занятия, при этом турецкое население, уходя из Иени-Беркача, ограбило и сожгло многие болгарские дома, а болгарское, в свою очередь, излило свое чувство мести на покинутых турками жилищах. Полуразрушенные домики Иени-Беркача печально выглядывают из-за густой разноцветной осенней листвы деревьев; несколько уцелевших в селении хат заняты болгарами, да и то не настоящими хозяевами, а пришельцами, беглыми из Плевны или с Софийского шоссе – из деревень Яблоницы и Ракиты. Сам генерал Гурко и штаб отряда помещаются на краю деревни, в стороне ее, обращенной к Софийскому шоссе и к линии турецких аванпостов; генерал и штаб занимают пять турецких домиков, потерпевших значительное крушение: печи в них все сломаны, окна выбиты, а в иных не хватает порядочной части стены. Готовить кушанье и греться приходится на воздухе у костров, даже спать на воздухе приятнее, ибо внутри этих домиков к ночному холоду присоединяется сырость, гнездящаяся на полу и в углах. Но зато с места, занимаемого штабом отряда, хорошо виден в бинокль неприятель, расположенный вдоль шоссе, видны также и наши аванпосты, стоящие с версту впереди по линии реки Вид, протекающей здесь параллельно шоссе. Впрочем, для наблюдений за тем, что делает неприятель, генерал Гурко приказал утвердить на одном из соседних курганов длинную подзорную трубу, при которой дежурят ординарцы и ведут журнал всего, что в течение дня замечают сквозь эту трубу на неприятельской линии.
Позади селения Иени-Беркач, с его стороны, не обращенной к неприятелю, – стоит только спуститься с возвышенности – в лощинах стелется и облаками поднимается дым костров, сливаясь в холодном воздухе с паром шипящих котлов; шум и говор стоят над лощиной – там готовят себе обед и располагаются биваком только что пришедшие части гвардии. Какое чудное, великолепное войско! Рослые, здоровые, крепкие мышцами солдаты; красивые и чистые мундиры, вся одежда, дышащая опрятностью; вид, импонирующий бодростью. Во всем заметна какая-то отчетливость и чистота отделки: и в стройности и порядке расположения бивака, и в маршировке какой-нибудь группы солдат, отправляющихся на смену поста, наконец, даже в той строгой и внимательной манере, с какой стоит гвардеец-солдат на часах.
Генерал Гурко, объезжая третьего дня некоторые из прибывших под его команду частей гвардии, здороваясь с офицерами и солдатами и сказав, что для него большое счастье и честь стать начальником лучшего в России войска, выразился между прочим, обращаясь к офицерам:
– Господа! я обращаюсь к вам и должен вам сказать, что люблю страстно военное дело, на мою долю выпала такая честь и такое счастье, о котором я никогда и не смел мечтать – вести гвардию, это отборное войско, в бой. Для военного человека не может быть большего счастья, как вести в бой войско с уверенностью в победе, а гвардия по своему составу, по обучению, можно сказать, лучшее войско в мире. Помните, господа, вам придется вступить в бой и на вас будет смотреть не только вся Россия, но весь свет, и от успехов ваших будет зависеть исход дела. Бой при правильном обучении не представляет ничего особенного, это то же, что учение с боевыми патронами, только требует еще большего спокойствия, еще большего порядка. Влейте, если так можно сказать, в солдата, что его священная обязанность беречь в бою патрон, а сухарь на биваке, – и помните, что вы ведете в бой русского солдата, который никогда от своего офицера не отставал.
Обращаясь к солдатам, генерал Гурко сказал:
– Помните, ребята, что вы – гвардия русского царя и что на вас смотрит весь крещеный мир. Турки стреляют издалека и стреляют много, это их дело, а вы стреляйте, как вас учили, умной пулей, редко, но метко, а когда придется до дела в штыки, то продырявь его. Нашего ура! враг не выносит. О вас, гвардейцы, заботятся больше, чем об остальной армии, у вас лучшие казармы, вы лучше одеты, накормлены, обучены, вот вам минута доказать, что вы достойны этих забот.
Сегодня четвертый день как генерал Гурко находится в Иени-Беркаче, дожидаясь сбора всего вверенного его командованию отряда. Части отряда ежедневно подходят и собираются; когда и в какое дело поведет их генерал Гурко, известно ему одному, но сомнения нет, что императорская гвардия в соединении с именем Гурко, прозвучавшим уже для турок за Балканами, недолго останется без дела. Между тем в ожидании сбора всего отряда генерал Гурко проводит здесь свой день по одному и тому же образцу. Едва начинает светать поутру, из турецкой хаты, где проводит генерал свою ночь, раздается его глухой, но далеко слышный голос:
– Соболев, седлать коня!
В седьмом часу утра, с восходом солнца, Гурко уже сидит верхом и выезжает в сопровождении дежурного ординарца, переводчика Хранова, денщика Соболева и конвоя из десяти казаков: он едет на аванпосты, выезжает далеко за цепь, взбирается на холмы и возвышенности, с которых с биноклем в руках высматривает турецкие позиции, изучает местность; у местных болгар по деревням, по которым проезжает, постоянно расспрашивает о расстояниях, о расположении селения, занятого неприятелем; затем генерал едет осматривать войска, появляется неожиданно на самых отдаленных аванпостах и глядит, все ли в порядке. Он не пропустит мимо себя ни одного солдата, попавшегося ему навстречу, чтобы не поздороваться с ним; то и дело слышишь, когда едешь с генералом Гурко, его суровые восклицания:
– Здорово, улан! Здорово, гусар! Здорово, стрелки!
Солдатам это очевидно нравится. Но зато Гурко очень строг ко всему, что касается нарушения дисциплины. В особенности преследует он в своих прогулках фуражировки солдат в болгарских домах, если они делаются без разрешения. Объехав все войска, генерал Гурко в конце дня возвращается в Иени-Беркач. Луна покажется на небе, зажгут уже костры на нашем биваке, когда раздадутся в темноте звуки копыт и снова глухой голос генерала:
– Соболев, принять коня!
Прикомандированные к генералу Гурко адъютанты князя Карла – румыны не могут скрыть своего удивления, постоянно спрашивая: «Когда же генерал спит?», так как, приехав вечером, Гурко садится за работу со своим начальником штаба; «Когда генерал обедает?» – ибо с собой в прогулки он не берет никакой еды; и наконец: «Что за странность, что генерал, начальник гвардии, не дозволяет себе иметь никакого экипажа за исключением верховых лошадей?». Вообще, на румын спартанская суровость жизни генерала Гурко производит сильное впечатление.
В штабе генерала Гурко находится большинство тех, кто с ним делал Забалканский поход, и генерал, по своей русской натуре несколько суеверный, с особым удовольствием видит в своей свите сотоварищей по походу за Балканы, усматривая в их присутствии при себе залог успеха. Начальник штаба у генерала Гурко тот же, что был и за Балканами – полковник, а ныне генерал Нагловский, человек невозмутимо хладнокровный, не теряющий присутствия духа в самые критические минуты.
Иени-Беркач,9 октября 1877 г.