Читать книгу "Кавказский пленник. Хаджи-Мурат (сборник)"
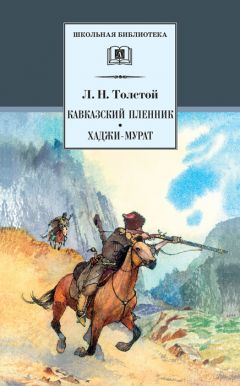
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXI
Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.
Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.
Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.
В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.
Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:
– Осрамится наш «как».
– А что?
– Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?
– Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, – говорили между собою офицеры.
Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:
– По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, – сказал он. – Но считайте меня всегда, как, с вами… Вам, господа, знакома, как, истина – один в поле не воин. Поэтому всё, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем – всем, всем решительно, как… – здесь голос его задрожал, – я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! – И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. – От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность…
Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.
Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.
И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо», – думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.
Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.
На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.
– Я бы дал, – сказал Иван Матвеевич, – сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?
Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.
XXII
Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.
Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.
В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.
Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.
– Якши, – сердито сказал Хаджи-Мурат.
Чиновник Кириллов не понравился ему.
– А деньги привез?
– Привез, – сказал Кириллов.
– За две недели теперь, – сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. – Давай.
– Сейчас дадим, – сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. – И на что ему деньги? – сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос:
– Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.
И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.
Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.
– Что с ним станешь делать, – сказал пристав. – Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.
Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый, черный тавлинец, другой – худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:
– Идите.
– Какой будет ответ?
– Ответ будет, какой даст Бог. Идите.
Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.
«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? – думал Хаджи-Мурат. – Он лисица – обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне», – думал Хаджи-Мурат.
И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, – сказали они, – туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.
«Так заклюют и меня», – думал Хаджи-Мурат.
«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»
«Это можно», – думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.
«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».
Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.
XXIII
К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, – Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.
Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.
– Зашей и эти, – сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.
Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.
– А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, – сказал Хаджи-Мурат.
– Порох есть, пули есть. Будет готово, – сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.
Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.
Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.
Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.
В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».
Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» – и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.
Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.
Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.
Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было – было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.
Песня была такая:
«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».
Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.
Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать – не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.
И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.
– Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку, – сказал Хаджи-Мурат.
И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.
И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.
Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.
– Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, – сказал он.









































