Текст книги "Кошмар"
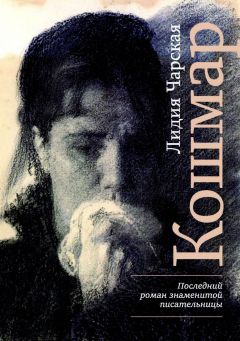
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
XVI
Чудесный, немного хмельной и пьянящий вечер начала апреля.
В открытые форточки гостиной несет свежим и душистым весенним холодом. Там, за двойными рамами, уже давно поет весна свою вечную песню в честь бога Ярилы. Шуршат низко присевшие снега, хрустят молодые потоки, вырвавшиеся из-под оков зимнего плена. Весело и радостно чирикают воробьи, голуби нежно и хлопотливо справляют свои весенние свадьбы. Набухают почки в лесу, и меняют свежий зимний наряд вновь помолодевшие сосны. Кое-где робко смеется изумрудная травка навстречу весеннему дерзкому солнцу и синим, непроницаемо-ярким, апрельским небесам.
Нина Корсарова, ставшая еще полнее в последний месяц, с белыми, неприятно припухлыми губами и с изжелта-бледным лицом, сидит у окна за ручной машинкой. Нужно заранее заготовить детское белье, бинты, мягкие простыни. Со дня своего поселения в глуши Сосенок она не выезжает отсюда. Здесь, в лужских магазинах, трудно приобрести что-нибудь, а просить об этом Николая, который делает изредка наезды в столицу, как-то не поворачивается язык. Она шьет и заготовляет сама, пользуясь отлучками мужа за десять верст на почту и за покупками в Лугу.
Сейчас его тоже нет, и ее руки проворно сшивают, подрубают и наметывают. Еще проворнее их работает мысль.
Весна уже, апрель… Теперь уже скоро… Два месяца неполных… Великий Бог!.. Два месяца жизни ей осталось только. О, она умрет! Она знает это – так же непоколебимо верит, как нынче весна, апрель. Пусть так! Она рада этому концу. Жизнь, которую они ведут сейчас, хуже смерти. Она любит Николая, но не прежней, а какой-то усталой, вымученной любовью. Его ревность, его бешеные порывы совсем подавляют ее. Она так смертельно устала… так устала душою, скоро нечем будет любить. Пусть и это! Каким наслаждением было бы вытянуться, не думая ни о чем, ничего не страшась, и замереть, уснуть навсегда, одинокой и забытой всеми, без сознания того ужаса, который непроглядной, серой тьмой заволок их жизнь. Как она подурнела! Кто узнает в ней еще недавнюю красавицу Нину Корсарову? И эти отеки лица, эта неестественная одутловатость. Она видела беременных. О, они далеко не такие! Значит, еще одним неопровержимым доказательством больше – она умрет. Она знает, чувствует это и бесконечно рада. Да, рада, насколько может только воспринять радость ее донельзя истерзанная душа.
Через месяц приедет сюда Катиш. Ее больница, как и само село, давно в руках немцев. Она приедет уже заштатной докторшей, она обещала. Всегда забывает о себе, думает прежде всего о других. Хотела ехать в действующую армию на помощь докторскому персоналу, а вот позвала ее Нина – и все планы на близкое будущее рухнули. Теперь скоро увидит ее здесь она, Нина. Она так ждет ее приезда, так жаждет его! Она верит, что Катиш привезет с собою частицу спокойствия и развеет их кошмар, увезя с собою ребенка. Разумеется, это будет, если только он родится. Но вернее – нет, вернее, они оба умрут – и мать, и дитя. Так было бы много справедливее со стороны судьбы… Конечно!
Мысли Нины обрываются сразу. За три комнаты глухо ударила входная дверь, звякнул крюк в сенях деревянного домика, и вместе с этим звуком почему-то болезненно-мучительно сжалось сердце.
– Боже мой, что с тобою? Что опять стряслось, Николай? На тебе лица нет, милый! – восклицает Нина навстречу мужу.
Она в тумане захватившего ее волнения видит его серое, без признаков живых красок, лицо, округлившиеся от бешенства глаза, протянутую к ней левую, здоровую, руку. Что-то словно обрывается и падает у нее в груди, а сердце начинает стучать больно, громко и нервно.
– Что еще? Боже мой!
Корсаров молча, одним движением сбрасывает с рабочего столика холст, бинты и пеленки и глухо выдавливает из себя, разглаживая пред женою газетный лист:
– Читай!.. Вот здесь… читай, где мой ноготь!
С минуту, по крайней мере, Нина не может прийти в себя. Строки прыгают у нее пред глазами, шрифт странно сливается. Она чувствует горячее, обжигающее ее шею дыхание мужа позади себя, и ей делает почти физически томительно и страшно. Мелькает мысль: не сошел ли Николай с ума?
И вдруг глаза ее разбирают как будто огнем выписанные строки:
«Нашему молодецкому энскому полку удалось окружить и взять в плен штаб какого-то германского корпуса, во главе с командиром дивизии принцем X. Его светлость препровожден в город Энск, откуда будет скоро переведен в один из поволжских городов нашей империи, где и пробудет до окончания войны».
Теперь только смутная догадка пронизывает мозг Нины, и буквы, и строки снова начинают прыгать.
– А теперь смотри… это – он? – спрашивает Корсаров.
Нина вскидывает быстрый взгляд на лицо мужа. Сейчас он страшен – с округлившимися глазами, с искаженным безумием ненависти и торжества лицом.
Шуршит газетный лист под трепетной рукой. Дрожащие пальцы Корсарова перекидывают страницу. Чей-то портрет в поясную величину. Военный в иностранной форме.
С минуту Нина ничего не понимает.
Но вот постепенно яснеет мозг, и с тихим криком она хватается за сердце.
Да, она узнала – наконец, узнала эти тонкие, словно выточенные, женственные черты, этот молчаливый, холодный, как у русалки, взгляд, эти надменные брови и капризную линию почти женского рта. Она смотрит, не шевелясь, почти не дыша, в это лицо, рождающее в ней мучительный стыд и жгучую ненависть, смотрит не отрываясь, вся белая, белее чистого батистового пеньюара, наброшенного на ее плечи.
Мгновенно острая физическая боль заставляет ее протяжно и громко застонать.
Рука Николая, как железное кольцо, обвила судорожными, скрюченными пальцами ее плечо.
– Любуешься? Вспоминаешь? Переживаешь снова? – услышала Нина трепетный, прерывистый шепот мужа у своего уха.
И тотчас же вслед за этим происходит что-то дикое, безобразное, лихорадочно-туманное, как бред.
Николай, с налившимися кровью глазами, с багровым лицом, вырывает у нее из рук газету, рвет ее на клочья, как дикий зверь добычу, швыряет обрывки на пол, долго и упорно мнет и топчет их ногами.
Нине становится страшно не за себя, а за него в этот миг. Она бросается к нему с жалобным и мучительным криком:
– Николенька! Милый мой! Опомнись! Побереги себя!
Но это только подбавляет жару ему, исступленному от бешенства и слепой ревности. Он уже не помнит себя.
– Тебе жаль его? Жаль его прекрасного искореженного изображения? Жаль этого мозглявого красавца… Так знай же, что я с самим оригиналом сделаю то же, что и с этой копией! Я искалечу его, изувечу прежде, нежели убью, как собаку!.. Слышишь, искалечу и убью!
* * *
Только свежая струя апрельского воздуха отрезвила Корсарова от его новой вспышки. Пьяный ревностью и бессильной злобой, тяжело волоча ноги, шагал он теперь по направлению к городу.
Он и сам вовсе не знал – куда и зачем он идет.
Какие-то беспорядочные отрывки, клочья мыслей безостановочно вертелись в голове, ни одной сознательной, сколько-нибудь трезвой, спокойной не было.
Он бежал от Нины. Он чувствовал, что не должен был видеть ее нынче, пока не утихнет в нем этот его дьявольски-бешеный порыв.
Прошло немало времени, пока он пришел в себя. От Сосенок до Луги насчитывалось около десяти верст, и Корсаров прошел их почти незаметно. Он очнулся, пришел в себя только на лужском вокзале. Там стоял поезд из Пскова, сновали носильщики, суетились пассажиры. Обычная железнодорожная сутолока вернула Корсарову некоторое равновесие. Движение жизни и обыденщины окончательно привело его в себя.
Сам не зная для чего, он купил билет второго класса в кассе и тотчас сел в поезд, уходящий в Петроград.
XVII
– Вот приятный сюрприз, Николенька! Какими судьбами? A maman на заседании какого-то теологического общества, раньше двенадцати не приказала себя ждать. Ну и какой же вы умница, Николашенька, что вспомнили о нас, бедняжках! – так звенела своим ребяческим голоском Мариэлла, тряся Корсарова за руку и заглядывая ему в глаза своими невинно-бесстыдными глазами. – A я, как видите, голову собираюсь мыть и ванну себе заказала. Поэтому прошу извинения за мой немного экстравагантный костюм.
Она тряхнула короткими, как у мальчишки, круто завивающимися, густыми волосами и кокетливым движением запахнулась в пестрый распашной, экзотического вида и цвета, халатик.
Горничная только что доложила ей о внезапном приезде Корсарова, но Мариэлла все-таки успела мимоходом тронуть кармином губы, попудриться и накинуть эту праздничную хламиду, сквозь ткань которой сквозило ее знойное тело смуглянки.
Когда Корсаров сел в вагон на лужском вокзале и колеса поезда застучали в такт его мыслям свой четкий аккомпанемент, впервые резко, с поразительной ясностью мелькнула дикая мысль: чтобы избавиться от звериной ревности, надо заставить себя провиниться пред женою. Необходимо, чтобы их положение сравнялось, чтобы он почувствовал себя оплеванным и виноватым, грязным и ничтожным пред обожаемой женщиной. Тогда собственная вина, может быть, заставит его смириться и уменьшить его жуткий ревнивый гнев, заставит замолчать, затихнуть того зверя, который все эти месяцы клокочет в нем.
Вспомнился кстати доморощенный афоризм одного из приятелей, постоянно страдавшего в начале своего брака от измен молодой сожительницы и наконец решившего платить ей тою же монетою:
– Э, батенька, кол колом вышибают! Сначала я бесился, Отелло разыгрывал в лучшем виде, а потом потихоньку и сам пошаливать начал, и, веришь ли, как волной ревность эту самую смыло.
– Пошляк! Циник! – возмущался тогда Николай, а теперь сам задумался над рациональностью такого средства.
Правда, его жена, его прекрасная Нина, ни в чем не виновата. Но сам он, Николай, разве виноват в чем-нибудь пред ней? А эта лютая мука, эти непосильные страдания его, ни в чем не повинного, могут свести окончательно с ума, превратить в конце концов в сущего зверя, в преступника пред нею, вечно желанной и вечно милой. Он не изменит ей сердцем, мозгом… о, нет, никогда! Его душа принадлежит ей одной всецело. Пусть будет так!.. Хотя бы этой ценою заставить замолчать вопль раненого насмерть зверя.
Эта мгновенная мысль, пришедшая Корсарову на ум в вагоне, постепенно перешла в решение. Теперь он уже знал, что делать. Он поедет прямо с вокзала в одно укромное местечко, где бывал еще раньше холостяком. Там он встретит француженку Бланш, искренне увлекавшуюся им еще до его брака с Ниной. Он знал, что она выступает в одном из петроградских кабаре, и хорошо помнил название последнего. Это облегчало задачу. Там он узнает адрес Бланш и отправится к ней. О дальнейшем он не думал.
Пока тряский, апатичный петроградский возница трусил по Забалканскому проспекту, Николай успел надумать повидать мать. Времени до открытия ночного кабака было еще достаточно. А старухи он не видел больше месяца, будучи занят своими личными переживаниями, с головой окунувшись в них.
– Но вы как будто не очень досадуете, что не застали maman, Николаша? Не правда ли? – продолжала лепетать Мариэлла, скромно потупляя в присутствии горничной свои пылающие глаза и одновременно смутно обещая что-то алыми, как кровь, губами.
От ее экзотического капотика, от сухих черных волос, от всего ее гибкого тела пахло все теми же сильными, одуряющими духами, от которых мутнело в голове.
Извиваясь, как змейка, она проворными и мягкими движениями котенка орудовала теперь за чайным столом.
– Хотите закусить?
– Не хочу, Мариэлла!
– И чаю не хотите?
– Тоже не хочу. Впрочем…
– А. – девушка выждала, пока скрылась пожилая горничная, и вдруг зашептала с затаенным смехом: – А кофе и ликеров хотите? И то, и другое есть у меня… в будуаре. Я уже распорядилась, как только вы вошли.
Ее беззвучный смех уже явно задрожал в призывных сейчас глазах и в странных, обещающих губках.
Корсаров невольно засмеялся.
– Вы предусмотрительны, маленькая обезьянка.
– Это потому, что я… люблю вас, – ответила Мариэлла.
Ее глаза снова призывно сверкнули на него и тотчас же снова потупились.
Корсарова начала забавлять эта полуженщина-полудевочка, невольно зажигая в нем любопытство.
– Зачем вы так опрометчиво шутите таким большим словом, Мариэлла? – спросил он и взял ее за руку, протянувшуюся к нему со стаканом.
Ее маленькая смуглая ручка была горяча, как огонь.
– Шучу? Ничуть не бывало, – резко бросила Мариэлла. – Я не идиотка, чтобы шутить подобными вещами. Ну, пейте чай и пойдемте ко мне. У меня уютнее и потом там кофе и ликеры. О, до приезда maman мы еще покутим, покутим! – захлопала она в ладоши и запрыгала, как девочка.
Корсаров не узнавал ее нынче. Всегда эксцентричная вдали от своей благодетельницы и затаившая тысячи всевозможных дерзновений в своей темной маленькой душе, она казалась в присутствии почтенных людей скромной и заурядной девушкой, типичным продуктом своей среды.
Но нынче Николай не мог надивиться на Мариэллу. «Маленькая обезьянка», как он в глаза и за глаза называл ее, сегодня превзошла себя. Она вся горела и трепетала в каком-то ей одной понятном порыве и все больше и больше забавляла его теперь. Все пережитое нынче еще остро болело, еще мучительно, невыносимо саднило рану, и Мариэлла являлась каким-то лекарством от насевшего на душу Николая больного недуга. Она казалась сейчас каким-то совсем новым существом, явившимся из другого, потустороннего мира, чтобы развлечь и рассеять его боль.
Через несколько времени перешли в комнату Мариэллы.
– Не правда ли, как у меня уютно? – спросила она, и глаза ее засмеялись, и чуть дрогнули губы, когда она прибавила: – И удивительно невинно! Да?
– Пожалуй, – с усмешкой согласился Николай.
Он опустился в низенькое белое кресло, затканное большими белыми же цветами, и казался несоразмерно огромным в сравнении с этой прелестной комнаткой, затянутой крепоном по стенам, с крепоновой же мебелью, с наивно-целомудренной белой кружевной постелью и игрушечным письменным столом. На туалете, пред трехгранным зеркалом, умирали в граненом бокале уже тронутые первым запахом тления розы.
– Чьи это цветы? – против собственного желания вырвалось у Николая.
Мариэлла звонко, по-детски, рассмеялась своим раздражающим смехом.
– Эти цветы, по секрету от maman, – надеюсь, вы меня не выдадите, Николенька? – прислал мне один прехорошенький пай-мальчик. Вы помните, надеюсь, лицеиста Жоржа Волховского? Да? Вы еще уверяли всегда, что у него… ха-ха-ха… неприличные глаза… Помните?
– Но разве вы с ним знакомы, Мариэлла?
– И даже очень! – ее невинно-бесстыдные глаза вдруг договорили красноречивее всех слов, и, поправляя свои пушистые кудри небрежным движением вдруг оголившихся рук, она добавила уже с вызовом: – Не думаете ли вы, что я все та же невинная тихая девочка, какой была в двенадцать лет, Николай? О, будьте покойны! Лицеист с «неприличными глазами», а до него пажик Ника Хрущов своевременно позаботились о моем просвещении.
– Негодяи! – вспыхнув, крикнул Николай.
– Да? Вы такого о них нелестного мнения? А по-моему, они только умные и чуткие юноши. Послушайте, что я вам скажу, мой милый Николенька! Постарайтесь понять и не слишком судить бедную Мариэллу… Только прежде я все-таки налью вам еще ликеру и кофе. Да?
Своей кошачьей походкой она не подошла, а как-то подкралась к маленькому столику и стала хлопотать около серебряного кофейника-машинки.
Корсаров невольно следил за нею.
– Пейте. Вот ваша чашка! – продолжала Мариэлла. – Что касается меня, то я страстно люблю бенедиктин. Он содержательнее всего остального.
Вслед за тем она, смеясь, наполнила рюмки и стала, смакуя, маленькими глоточками отпивать из своей, прихлебывая кофе и щурясь от удовольствия, как кошка. Потом она обтерла губы и, вынув из сумочки плоское, оригинальной обманчивой формы, серебряное портмоне, оказавшееся портсигаром, закурила тоненькую пахитоску[8]8
Пахитоса – старинная тонкая дамская папироса из мелкого резаного табака.
[Закрыть].
Николай давно знал про эту слабость молоденькой воспитанницы матери. Но сейчас ее папироса, манера курения, как и все остальные манеры ее, неприятно раздражали его.
– Зачем вы сознательно старите себя, маленькая скороспелка? – недружелюбно бросил он.
– Ого, как мы заговорили, однако, молодой старичок! – зазвенела Мариэлла своим ребяческим смехом. – Не старю я себя, Николенька, а просто хочу жить – жить полной жизнью теперь, когда глаза мои горят страстью, а тело упруго и крепко, как сталь. Вы назвали тех моих просветителей негодяями. А я их благословляю, Николай: и Никса, и Жоржа, и того интересного художника-дилетанта, который одно время зачастил к нам для партии бриджа с maman. Само собою понятно, что не в бридже, а во мне тут было дело. Он рисовал меня в том виде, как создала меня природа, – конечно, в своей студии, – и, уверяю вас, вышло совсем недурно.
– Опомнитесь, Мариэлла! Ведь вам тогда не было и шестнадцати лет.
– Так что же? – и в пламенных цыганских глазах девушки снова вспыхнул вызов. – Разве вы не знаете, что на Востоке женщины начинают жить много раньше? А в моих жилах, по всем данным, течет восточная кровь. Там в четырнадцать лет девушку продают в супружеское рабство, в пятнадцать она уже мать, и двадцать семь – старуха. А это – женщины моего типа, уверяю вас…
– И эти мерзавцы способствовали вашему «просвещению»?
– Увы, без учителя здесь нельзя обойтись! – ответила Мариэлла и снова залилась откровенно-бесстыдным и в то же время детски-наивным смехом.
От его ли металлического звона или же от дурманного запаха модной эссенции у Корсарова начала кружиться голова. Противная ломака! Она действовала на нервы ему, которому нужны были теперь тишина и покой. Он почти злобно смотрел на пеструю, беспокойно двигавшуюся пред ним фигурку, а затем произнес:
– И бедная maman в своем ослеплении не подозревает.
– Какую змею отогрела у себя на груди? – подхватила Мариэлла. – Не правда ли, вы это именно хотели сказать, милый доктор? Но будьте же справедливы, в конце концов! Видели ли вы меня когда-нибудь разнузданной и недостаточно добродетельной на людях? Никогда! Я всегда блестяще демонстрировала собственной особой продукт воспитательного метода ее превосходительства адмиральши Корсаровой. Я держу себя в обществе недотрогой и даже не понимаю, что значит флирт. А если это так, то, верьте мне, Николенька, никому нет дела до того, что общепризнанная добродетель давно прошла на практике «науку страсти нежной»[9]9
«Наука страсти нежной» – цитата из пушкинского «Евгения Онегина».
[Закрыть], как сказано поэтом, и в восемнадцать лет живет настоящей жизнью.
– Но это же возмутительно, Мариэлла! Вы – настоящее чудовище!
– А вы – большой урод, доктор. Нет, нет, нравственный урод, ужасно интересный и милый, – со смехом поспешила поправиться Мариэлла. – А так как меня безумно влечет ко всякому уродству, то и не удивительно, что я, что я… страстно влюблена в вас, Николенька!
– Что такое? – воскликнул он с искренним недоумением.
– Ну, да, влюблена, как кошка, как тысяча кошек! Или для вас это – новость? Не знаю, что со мною, но меня влечет к вам давно, влечет неудержимо. Не верите? Клянусь. Ради вас я даже прогнала Жоржа. Как увидела вас там, на платформе, такого большого, сильного, такого мужественно-сильного, и притом такого героя, так вся и загорелась сразу. И сразу опротивел мне Жорж со своим примасленным пробором и вечным запахом «Peau d’Espagne»[10]10
«Peau D’Espagne» – популярный в прошлом аромат для мужчин.
[Закрыть]. И тогда же мелькнула у меня мысль: «Хорошо было бы отдаться во власть этого богатыря-героя», то есть в вашу власть, Николенька!
Корсаров криво усмехнулся.
– Не говорите вздора, Мариэлла!
– А если я говорю вздор, зачем вы не смотрите мне в глаза?.. Ага! Опять отвернулись. Николенька! Честное же слово, я жадно хочу ваших ласк.
– Но вы с ума сошли, глупая девочка! Стыдитесь, Мариэлла! Вы – безумная девочка. Вас следовало бы высечь за такие слова.
– Я безумна, потому что пьяна…
– От этого глупого ликера, который вы тянете, как старый гусар, – резко сказал Корсаров.
– О, нет, от страсти к вам, Николаша! Или вы не видите? Я с ума схожу, сама не знаю, что со мною. Вы же видите, вы же чувствуете! Ты видишь… я вся дрожу. Слышишь, чувствуешь, как бьется мое сердце? Мне душно, я близка к обмороку. О, как я люблю тебя!.
Мариэлла стояла близко-близко к Корсарову, опираясь рукою на спинку отделявшего их друг от друга кресла, и судорожно царапала крепон обивки своими розовыми ногтями.
«Совсем как кошка!» – мелькнуло в мозгу Николая.
Ее глаза горели призывом, накрашенные губки шептали что-то тихо и бессвязно. Кровь ударила ей в лицо, и оно стало теперь смугло-румяным и мгновенно похорошевшим, каким Корсаров еще никогда не видел ее.
Должно быть, Мариэлла поймала в его глазах произведенное ею на него впечатление, потому что быстрыми, сильными руками вдруг отбросила стоявшее у нее на пути кресло и вся рванулась к Николаю.
– Я люблю тебя, дорогой, люблю безумно!
Ее тонкие, смуглые, горячие руки с силой обвились вокруг шеи Корсарова, а тонкое, гибкое, извивающееся тельце все прильнуло к нему, волнуясь и трепеща.
Запах неведомых, дурманных эссенций ударил ему в голову вместе со странным, острым ароматом смуглой кожи и волос Мариэллы. На миг у него закружилась голова и темный хмель бросился в мозг.
А она, уже ликуя, роняла тихим, упоенным лепетом:
– Как хорошо. Боже, как хорошо! Целуй меня, милый, целуй! Здесь нет ни измены, ни пошлости. Гляди же на меня! Я стройна и изысканно изящна, у меня гибкое, змеиное тело и горячие цыганские глаза, сводящие с ума тех… глупых, ничтожных. Да, сейчас я хороша, я это знаю, я лучше Нины. Сейчас она предо мной – дурнушка, она, заведомая красавица, со своим обезображенным беременностью телом… Ай, что с тобою? Ай, мне страшно! Николаша, милый!.. Какие у тебя… у вас… жуткие глаза!..
Корсаров действительно был страшен в эту минуту. Туман мгновенной страсти мигом застлался другим туманом – ненависти к этой извивавшейся пред ним маленькой фигурке с ужимками обезьяны и богохульным языком. Да, богохульным, раз она осмелилась хулить ее, его божество, его Нину!
Как раненый зверь, вытянулся он во весь рост и здоровой рукой, с силой оторвав от себя еще опьяненную страстью девушку, отбросил ее, шепча в полусознании:
– Прочь, гадина! Ты гадка мне, отвратительна. Противна!
Затем он, как безумный, ринулся из комнаты.
Было уже около двенадцати часов, и последний поезд в Лугу уже давно ушел.
Не задумываясь ни на минуту, Корсаров поехал в гараж и взял до Луги мотор. Он весь трепетал любовью к Нине, любовью, страстью, жгучим раскаянием – и благословлял те силы, которые удержали его от рокового шага. Он казался себе теперь преступником уже только за одно свое намерение загрязнить пошлостью мелкой грязной измены их светлые, чистые отношения. Никогда еще в жизни не любил он Нину так, как сейчас, никогда не испытывал к ней такой страстной, такой тоскующей нежности.
Когда, вымотав у него по весенней распутице всю душу, автомобиль доставил его наконец, только к позднему утру, в Сосенки, Корсарову показалось вдруг, что он не увидит больше жены.
Крадучись, как вор, он пробрался задним крыльцом в комнаты и, взволнованный, как никогда, порывисто вбежал в спальню.
Нина лежала на постели неподвижная, бледная и, казалось, без признаков жизни. По отекшему лицу бродили темные тени. Николаю показалось, что все кончено, что она не дышит, что она умерла.
Однако, когда раскрылись ее темные, сейчас испуганные, но все же загадочные, все те же прекрасные глаза сфинкса, вопль отчаяния, любви и муки потряс все его существо.
– Прости меня, милая! Прости, обожаемая! Чистая! Прекрасная! Святая! Прости!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































