Текст книги "Кошмар"
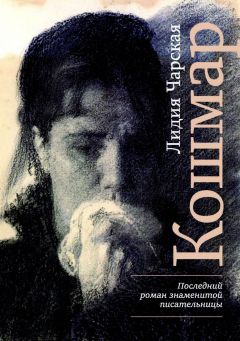
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
XVIII
Царственно, дивно священнодействуя, как неведомая жрица неведомого культа, служила своему богу красавица-весна.
Стоял май, мечтательный и страстно-грустный. Белые ночи жгли своей непонятной истомой. Заливчато-упоительно и нежно звенела в этом ночном молчании сладострастная, тоскующая, влюбленная песнь соловья.
В одну из таких ночей, когда уже белый прозрачный туман майского томления расплывался, выводя себе на смену розовую зарю, от станции Луга ехала, тряско прыгая по дороге, наемная извозчичья пролетка.
Маленькая горбатая фигурка, сидевшая на заднем сиденье ее, то и дело окликала возницу, дремавшего на козлах:
– Эй, ты, скоро ли Сосенки, дяденька долговязый?
Извозчик хихикал, одобрительно поглядывая на «горбатенькую барышню».
Было что-то бодрящее в ее бойких, умных и смелых глазах, и не замечалось ничего желчного, специфического в этом энергичном, крайне некрасивом, но удивительно располагающем в свою пользу птичьем личике.
«Веселая горбатенькая-то!.. Ишь, Бог ее милуй, смеется да шутит все!» – решил извозчик и, как бы в угоду «горбатенькой», энергичнее задергал вожжами.
А Катиш, положив маленькие ножки на старенький дорожный чемодан и закинув руки в рукава дорожного манто, с жадным любопытством оглядывала малознакомую ей северную природу.
– Эй, долговязенький, – вдруг сказала она извозчику, – лошади ты не хлещи! Небось, тебя бы так! Скотина, брат, ведь тоже чувствовать умеет.
– Само собой! Да ленива она больно, барышня.
– А ты-то сам разве не ленив?
– Ишь, что выдумали! Да нешто я – скотина? Что скажете тоже!
– Все мы скоты, миленький, – с неопределенным взглядом проронила горбунья, – да говорить-то об этом бесполезно, ибо все равно не очеловечимся. А ты вот скажи лучше, что это за дымок там вьется поверх деревьев?
– Сосенки, они самые, кажись, и есть. Сосенки!
– Благодать. Ишь, куда забрались! Рай у вас здесь – что и говорить.
– Поживете – поцарствуете. Эй, ты, каменная, не ленись! – и все время через пень в колоду трусивший извозчик вдруг гикнул и фертом подкатил к крыльцу.
Солнце уже золотило верхушки сосен, и от птичьего гомона звенело в ушах, когда Екатерина Иосифовна Стадницкая вошла в домик Корсаровых.
Там все еще, по-видимому, спало крепким сном.
Приказав извозчику помочь открывшей ей дворничихе перетаскать вещи, она вошла в сени, а оттуда – в первую комнату, где были спущены желтые жалюзи, и невольно попятилась, задержав в груди крик испуга, готовый вырваться у нее.
Навстречу ей в золотистом сумраке спущенных штор поднялась с кресла высокая, неуклюже-грузная фигура и, протягивая ей издали руки, заговорила с передышкой на каждой фразе:
– Наконец-то, Катиш! О Господи! Отчего не оповестила телеграммой? Мы еще не ждали нынче. О, как я рада тебе!
– Нина, ты? Милая! Почему ты здесь? Отчего не спишь?
Нина Сергеевна махнула рукой и вдруг, не выдержав, обвила шею горбуньи и, припав к плечу подруги, зашептала жалобно, как-то по-детски плача:
– Катиш! Милая Катиш! Если бы ты знала, как мне тяжело!
Стадницкая стала нежно успокаивать ее.
Через несколько времени, дав Татьяне распоряжение сварить кофе для гостьи, Корсарова, все еще не выпуская из объятий горбунью, вышла с нею на крошечную террасу-балкон.
Здесь смолисто пахли сосны и разливался медвяно-вкусный аромат ландышей, невинно белевших всюду на столе, в вазах, на тумбочках и просто на полу, в тарелках с землею. Все говорило о пышном возрождении природы, о прелестях дивной весенней сказки.
– Моя бедняжка Нина! Объясни же мне все по порядку! – воскликнула маленькая горбунья, причем ее глаза с откровенной тревогой смотрели сейчас в лицо подруги.
Нужно быть слепой, чтобы не заметить, как изменилась бедная Нина со дня их разлуки!
– Нечего говорить, – глухо произнеслись в ответ тяжелые, как камни, слова Корсаровой. – Все то же, о чем я уже тебе писала. Николай не может примириться с фактом. Он…
– Дурак! Вот дурак-то!.. Господи! Хочешь, я пойду разбужу его и скажу ему это?
– Что ты! Что ты! Разве он волен в своем чувстве? Он так любит меня, одна мысль об обладании мною другим, хоть бы насильственно, хотя бы случайно, доводит его до бешенства, будит в нем зверя. О Господи, если бы ты знала только!
– Но тогда он – мерзкий эгоист. Послушай, моя бедняжка, я узнаю в нем мужчину-мужа, собственника и крепостника. Он был, есть, будет и останется таковым до скончания века, и нам с тобой не переделать его. Прежде всего в мужчине сидит самец, готовый зубами оспаривать обладание собственной самкой. А нежность и заботы о ней у него уже на втором плане. Заботы приходят вместе с пресыщением, когда утолится вполне его физический голод. Это старо, моя милая, как мир. И дело далеко не в этом, а в том, что я нашла тебя бодрствующей под утро с таким несчастным лицом. Ты: не спала всю ночь? Вы ссоритесь, Нина?
– Не спала, да! Но этот ад нельзя ни в каком случае назвать ссорой. Он едет, понимаешь? Уже решил, и никакими силами его нельзя отговорить.
Корсарова вздрогнула. Ее глаза страдальчески расширились, в трагически-скорбном изломе бровей чувствовалась напряженная мука.
– Куда? – спросила Стадницкая.
– Не знаю. Он не говорит. Но я предчувствую. О Катиш! Мне страшно за эту поездку. Сердце подсказывает, что он едет к «тому».
– К немцу?
– Да. Ты: же знаешь из моего письма. Ведь тот у нас в плену, живет на Волге, в Энске, и я более чем убеждена, что Николай едет убить его.
– И на здоровье… Давно бы следовало! Таким мерзавцам не место на Божьем свете, – резко произнесла горбунья.
– Но… разве ты не знаешь, чем такой выпад грозит самому Николаю?
– Ах, милая, полно тебе заботиться о Николае и о всех последствиях его безумства! Думай теперь только о себе! Ты: имеешь на это полное право – ты ждешь родов, а каждая женщина должна быть узкой эгоисткой хотя бы в это время.
– Но я люблю его!
– И прекрасно, что любишь, и люби себе на здоровье, но люби разумно, а не безголово, как звериная самка или невинное дитятко! Твой Николай хочет убить того мерзавца? Пускай убивает! Это – его право, право мстителя-мужа за честь любимой. Поверь мне, что его оправдают, если даже он совершит это убийство.
– Но Николенька не хочет огласки, Бог мой! – воскликнула Нина. – Он дрожит за мою честь!
– Тогда пусть держится осторожнее, пусть остерегается. Все просто как день. Когда он едет? Не знаешь?
– Кажется, хотел дождаться тебя. Но уж скорее бы! Мы не спим ночи, а наши дни еще страшнее этих ночей. Я не живу, Катиш, пойми!.. Я устала от муки, от его и своей муки, устала до смерти и жду, как избавления, решающего мгновения. О, я знаю давно, твердо, что умру!
– Вот-вот! Умнее ничего не могла придумать? – иронически заметила горбунья. – Ох, и закисли же вы здесь оба, как я на тебя погляжу! Слушай, Нинка! Встряхнись, а не то, ей-богу, я тебя возненавижу. Не терплю кисляк – им место у подножия Тарпейской скалы[11]11
Тарпейская скала – отвесная скала в Древнем Риме, с которой сбрасывали осужденных на смерть преступников, совершивших предательство.
[Закрыть]. Подтянись! Слышишь? С такой физиономией, с такой светлой головкой и страстной жаждой жизни тебе ли думать о смерти? Ведь все минует благополучно, я более чем уверена в этом. Я увезу ребенка, как мы списались об этом, и, клянусь, всю свою жизнь посвящу воспитанию его. Знаешь, у меня точно птицы запевать в душе начинают, когда я думаю об этом. Ведь подумай только: у меня, сухой старой девы и никому не нужной уродки, является теперь новая цель. Девочка моя, пойми! Может быть, этот твой будущий немчонок – прости мне, ради Бога, мой цинизм! – будет обнимать меня за шею, говорить мне «мама», дрыгать голыми ножонками у меня на руках. Послушай, с той минуты, когда я получила твое письмо с полным и откровенным признанием и просьбой взять и определить куда-нибудь навсегда твоего будущего ребенка, у меня вся душа заколыхалась и сердце расцвело неведомой радостью, как цветок. Ведь в каждой женщине, в каждой старой деве где-то глубоко-глубоко прячется мать с ее материнскими инстинктами и с позывами к заботам, с нежностью к беспомощному – даже чужому – ребенку. На твоем горе как будто выросло мое счастье, Нина.
Подруги еще долго говорили на эту тему за кипящим самоваром. Николай застал их обеих на той же терраске у чайного стола и впервые после долгого промежутка времени увидел в темных глазах жены какую-то тихую, покорную примиренность.
А на другой день вечером они обе провожали его за садом.
До поздней ночи Корсаров гулял накануне по лесу с женой. Он был нежен и мягко-ласков с Ниной, просил прощения за дикие вспышки непроизвольной ревности и казался снова милым, влюбленно-нежным Николаем, как в годы студенчества, как в первые весенние встречи на заре их чувства. Лишь когда она, видя его по-прежнему милое, ласково-спокойное и словно примиренное лицо, снова заикнулась об ужасе его поездки, он грубо оборвал ее:
– Ага, боишься? За него боишься? Жалеешь, значит? Любишь? Его любишь, эту сво.
– Николенька! Тебя… тебя… одного! – крикнула Нина на весь лес, в голос, забывшись, сжимая обеими руками его перекосившееся в судороге бешенства лицо.
Он очнулся на этот раз скорее, чем прежде, и его ласки теперь были нежнее, человечнее, глубже тех, которыми прежде обычно сопровождались эти аффекты.
– Я должен увидеть его и… не мешай мне в этом, родная! – произнес он. – Теперь я спокоен. Катиш, добрый друг, будет около тебя. За меня не бойся! Ради тебя и моей любви я буду благоразумен, и эта моя любовь к тебе мне будет оградой от несчастья. Я верю, что вернусь, вернусь благополучно. Все кончится, ужасный кошмар исчезнет с нашего пути. Нина!.. Золотая Нина! Или я голову себе разобью, или ты отпустишь меня как можно скорее, или я совсем погублю, замучаю тебя, мою жизнь, мою ни в чем неповинную голубку.
Что оставалось Нине отвечать на эти слова?
На другой день Корсаров уехал, дав слово вернуться как можно скорее, чтобы ухаживать за нею во время родов.
XIX
Роды наступили непредвиденно рано, когда никто еще не был к этому готов.
Событие ожидалось в начале июня, но уже в вечер отъезда мужа измученная до последней степени Нина Сергеевна почувствовала себя плохо. Она спокойно простилась с Корсаровым, словно застыв в своем последнем градусе отчаяния и страха. Ей показалось в последний миг, что уже никогда-никогда не увидит она его больше, и она как-то подчинилась этой мысли, этому решению, сделанному за нее судьбой. Безжизненная апатия, все это время не покидавшая ее, теперь окончательно овладела ею.
«Я все равно умру, – решила Нина, – умру наверное, так что же мне беспокоиться о Николеньке? Если что-либо случится, мне будет безразлично. Я умру теперь уже скоро, в июне-месяце, во время родов».
Со смутным чувством какой-то побежденности, с глухой болью в спине и полости низа живота, она прошла к себе в спальню в этот вечер. Поцелуи Николая, пропитанные скорбной, страстной нежностью, еще ощущались на ее губах, а мысли были уже далеко от минуты прощания с мужем.
– Что с тобою? – тревожно осведомилась Катиш. – На тебе лица нет сегодня, Нина.
– Я пойду лягу, нездоровится что-то.
– Не бойся же за свое сокровище – Николая, Ниночка! Ну, уехал, ну и приедет, как провинившийся пес, притащится, и все войдет у вас снова в свою колею. Ну, а ему, этому эгоисту, твоему муженьку, я с наслаждением оборвала бы уши! – и маленькая горбунья сжала свои крошечные бессильные кулачки.
– Все равно. Теперь уже все равно, Катиш! – как-то безучастно и странно проронила побелевшими губами Корсарова и, пошатываясь, прошла к себе.
А ночью уснувшая только с петухами Екатерина Иосифовна проснулась вдруг от странного ощущения паутины, обволакивавшей ей лицо. Она, как ни странно, и во сне увидела эту паутину: шла будто по лесу в погожий осенний день и то и дело попадала лицом в сверкающие на солнце, чуть видные, шелковистые нити.
Она открыла глаза и сразу, по своему обыкновению, села на постели.
Пред ее кроватью, трогая ее лицо легким прикосновением пальцев, скорчась в три погибели, извиваясь от боли, стояла Нина и глухо шептала, обрываясь на каждом слове:
– Скорее… ради Бога… скорее, Катиш!.. Телеграмму Илье… Чтобы выехал немедленно. И маме тоже. Я чувствую, что это смерть!.
Начались ни с чем несравнимые родовые муки. Целую ночь Нина металась по комнатам деревянного дома, то сгибаясь надвое, как столетняя старуха, то судорожно хватаясь за встречную мебель или за плечи сопровождавшей ее по пятам Стадницкой. Закусывая до крови губы, с трудом удерживаясь от стона, скрежеща зубами и обливаясь холодным потом в минуты потуг, она шептала глухим голосом, исходящим, как из могилы:
– Это смерть, Катя? Смерть?
– О глупенькая! – отвечал ей бодрый голос горбуньи. – Напротив, это дань нарождающейся жизни. Если бы все от этого умирали, верь мне, мир давно перестал бы существовать.
И опять глухо, как из склепа, до нее донеслось:
– Скоро ли приедут Илья… и мама? Мне кажется, я не доживу до них.
– Я рассержусь на тебя за этот вздор, Нинка.
– Милая, как мне тяжело!
А в окна откровенно смеялся светлый май-жизнодатель.
Сирень хмельно зацветала под открытым окном, говоря о весенней радости и жгучих любовно-пьяных утехах, ее лилово-розовые гроздья назойливо лезли в окна. И было как-то странно-нелепо видеть среди этого пира весеннего праздника другое возрождение: среди муки и невероятных страданий – возрождение человеческого бытия.
Со скорым поездом наконец приехал Илья, заранее взвинченный, взволнованный, но наружно бодрый.
– Ну, как тут у вас? По-хорошему, надеюсь? – бодро спросил он и обратился к Стадницкой: – Коллега, здравствуйте, рад пожать вашу руку. Ниночка, да ты что же это нас, матушка, надуваешь? Скажите, скороспелка какая! Вместо июня – май. Ну, да ладно уж: чем скорее, тем лучше! Приляг на минуточку, разреши познакомиться с ходом события, так сказать…
И, надев белый халат, он занялся роженицей.
К ночи приехала Серафима Павловна с Лидой и тотчас же начала плакать, забившись в дальний уголок гостиной.
– Николашенька-то… Николашенька? Дали ему знать, по крайней мере? – тревожно спросила она. – Ведь преждевременные роды-то. Нехорошо.
Лида тоже надела докторский передник и предложила себя в помощь Илье и Стадницкой. Оба доктора – и маленький Котулин, и женщина-врач – теперь уже не отходили от Нины. С трудом удалось убедить ее лечь в постель.
Откуда-то появилась маленькая, узкая, высокая кровать, которую и поставили посреди комнаты.
На ней, корчась и извиваясь в невыносимых муках, теперь лежала Нина с искаженным лицом, с надувшимися жилами, потная, холодная, делая нечеловеческие усилия задавить в себе стоны.
– Да ты кричи. Право, легче будет. Кричи, родная! – советовала Катиш, наклоняясь к ней с тревогой в глазах, смягченных сочувствием.
Но Нина только сильнее стискивала зубы и закрывала теперь горевшие лихорадочным огнем, неестественно расширенные глаза.
Она еще сдерживалась кое-как эти первые сутки. Но, – когда чудовищно-мучительные схватки начали рвать к утру следующего дня ее внутренности, – животные, пронзительные вопли, казалось, потрясали до основания весь маленький деревенский дом. Ничего человеческого не было в этих криках. Их исторгала нестерпимая боль, превращая в зверя-самку эту терпеливую и выносливую по натуре женщину.
– Скажите, это смерть? – обращалась она снова с тем же вопросом в минуты затишья к хлопотавшим подле нее докторам и Лиде.
Все трое с озабоченными лицами не отходили от ее постели.
– Что ты! Что ты чушь городишь! – неумело отмахивался Илья.
Но Нина видела слезы в глазах младшей сестры и вдруг заплакала.
– Скажи Николаю, что я умираю с мыслью о нем. И еще скажи, что я его… одного его я любила… единственного, всегда… Всю жизнь! Скажешь?
– Да, конечно, скажу! Но ты же будешь жить. Что за глупости, Ниночка!
Старуха Дарцева не выдержала и вошла – после нового такого звериного вопля на всю усадьбу, на весь лес.
Трое людей замахали на нее руками.
– Уйдите, мамочка. Ей и так тяжко!
Новый вопль заставил Лиду рвануться к матери и увести ее подальше.
– Убейте меня… дайте мне морфия… дайте хлороформа! Убейте или усыпите! – молила в короткие мгновения передышки несчастная Нина, с исковерканным невыносимым страданием лицом мечась по постели.
Теперь доктора работали не покладая рук. У обоих не прекращался звон в ушах от этой непрерывной полосы криков, то притихавших, подающих надежды, то снова нарастающих с умопомрачительной, все заглушающей силой звука.
К двенадцати часам муки достигли своего апогея. Илья после нового короткого исследования о чем-то тихо посоветовался с Катиш. И, наконец, желанный, как долгожданный бесценный подарок, сладковатый вкус наркоза наполнил нос, рот и, казалось, всю голову роженицы, приглушая своим действием эти мучительные страдания.
* * *
Нина раскрыла напухшие глаза, и первой сознательной фразой ее было:
– Я еще жива? Как странно!
Около нее всхлипывала, целуя ее руки, Серафима Павловна и устало улыбалась измученным лицом бледная Лида.
Нина хотела пошевелиться и не могла – что-то тяжелое давило ей живот. А в голове было как-то странно-пусто и прозрачно.
– Ты должна держать пузырь со льдом, Нина… и вот выпей это, голубушка! – сказала Катиш и поднесла рюмку с чем-то черным и вонючим к ее губам.
Корсарова покорно выпила горькую, противную жидкость и вдруг, с усилием и трудом, припомнив, спросила:
– Кто родился? Мальчик или девочка?
По смущенному виду Катиш и внезапно нахмуренному лицу Ильи она поняла все сразу.
– Он родился мертвым? Правда? И мальчик? О, да не лгите же мне! Вы видите, я сильна.
Как-то судорожно подернулись губы маленькой горбуньи.
– Было бы глупо скрывать. Ну, да, это был мальчик. Он родился мертвым, ты права.
– Покажи мне его, Катя!
– Но, милая. Не лучше ли подождать до завтра, пока ты совсем придешь в себя?
– Покажи!
Голос Нины звучал теперь повелительно и твердо, несмотря на слабость, сковавшую ее тело. Было бы неосмотрительною опрометчивостью раздражать ее сейчас.
– Покажите ей трупик, коллега!
Это сказал Илья и принялся трясущимися пальцами закуривать папиросу.
И вот он пред нею, подле нее – ее маленький, беспомощный, жалкий и синий мертвый мальчик, ее ребенок, принесший ей столько горя, боли, страданий и тревог, ее ребенок, случайный продукт чужого преступления, нежеланным гостем явившийся в мир и заплативший ценою своей маленькой, никому не нужной жизни за позор своего рождения.
Сделав невероятное усилие над собой, Нина чуть приподнялась на локте и стала жадно смотреть в это синее, холодное, неподвижное личико. Она увидела уже тонко намеченный, однако еще крошечный носик, красиво изогнутые губки и совершенно светлые, большие, широко открытые, стеклянные глаза, – глаза и черты «того»… преступника, и с тихим стоном откинулась на подушку.
– Катиш, – шепнула она с усилием минутой позже, – милая Катиш! Распорядись гробиком, а также цветами. Я хочу много-много цветов… белых ландышей. И чтобы был белый же атласный гробик… такой же маленький и невинный, как и он сам. Ведь он все же сын мой, мой ребенок. Крошка мой бедный… плоть от плоти моей!..
Ее голос дрожал и глаза замалчивали о трагедии, происходившей в их глубине.
Последние слова Нина прошептала уже бессвязно, и всем показалось, что это бессознательный бред.
Докторша Стадницкая осторожно взяла с постели завернутый в пеленки холодный трупик и с неопределенным выражением туманной грусти унесла из спальни.
В тот же вечер Илья телеграфировал из Луги до востребования по адресу, оставленному Николаем:
«Родился мертвый ребенок. Возвращайся немедленно! Нина очень слаба».
XX
Ясным погожим утром Николай вышел из вагона на платформу станции одного из поволжских городов.
Приказав извозчику отвезти себя в лучшую гостиницу города, он сел в неудобную, специфически-провинциальную пролетку и быстро покатил по старательно вымощенной улице.
Город был полон беженцами Западного и Остзейского краев.
В гостинице «Палермо», куда Корсарова привез извозчик, чудом нашелся небольшой затхлый номерок с видом на крыши домов, на Волгу и на ближайшую пристань. Но нечистоплотный матрац и обои с явными следами клопов внушали отвращение приезжему, поднимая в нем тошноту. Наскоро умывшись, Николай поспешил на воздух.
Май сиял и улыбался синими высокими небесами, зачарованными ослепительным блеском солнца.
Было половодье, и пароходы крикливо переговаривались на реке. Беляны[12]12
Беляны – гигантские деревянные суда-барки с плоским дном, использовавшиеся на Волге в XIX – начале XX века.
[Закрыть] с домиками-будками, часто с крошечным огородом или садиками на палубе, пестрели яркими кумачовыми рубахами гонщиков и цветными сарафанами баб. На обоих берегах реки красиво раскидывался город. Со скамьи на набережной, отведенной под бульвар, Корсарову были видны как на ладони чистенькие белоснежные монастыри, церкви и дома, сообщавшие какую-то особенную прелесть чистоты старому городу. Зелень пышно разросшихся деревьев красиво тонировала на белом фоне высоких зданий.
А буро-мутная вблизи берега и синевато-коричневая дальше, за поясом, река невозмутимо спокойно катила вдаль, в мир вечно молчаливых и царственно-величавых степей свои сонные воды.
Погуляв несколько времени, Корсаров зашел в столовую.
– Где у вас тут помещается знатный немецкий пленник? – спросил он у расторопного мальчика-лакея, подававшего ему завтрак.
В этот сравнительно ранний час здесь почти не было посетителей. Только маленький, невзрачный акцизный чиновник спешно и жадно прожевывал у окна кусок ростбифа, да какие-то две незаметные женские фигуры шушукались в сторонке за стаканом молока.
– На Любской улице изволят проживать, – предупредительно пропел тонким голоском слуга.
– А где же приблизительно эта улица? Я ведь приезжий… не знаю.
– А вот-с изволите пройти перво-наперво по Никольской, затем надо будет свернуть на Лошадиную, а там и упретесь сразу.
– Что же, под строгим караулом у вас содержится этот принц?
– А уж это как полагается. По всей видимости, офицер к ним приставлен… и опять же часовые. Все чин чином. Потому, изволите видеть, не простой пленник, а. – так и посыпал как горохом мальчишка.
– А гуляет когда-нибудь по городу принц? Видят его?
– Спервоначалу выпускали, а нынче не видать что-то. Сказывали, заболел немец-то. Доктор к нему ходит кажинный день. Да вам, собственно, вашество, ежели на него взглянуть любопытно-с, так вы бы к коменданту проехали. Они всех, ежели с запиской, пущают.
– Я не знаком с комендантом. А вот если разве к доктору? Кто его лечит?
– Обыкновенно-с Павел Иванович. Они у нас за первый сорт – и у самого губернатора, и во всех-с аристократических домах опять же, вроде профессора как бы-с.
– А адрес его знаете?
– Как же-с, как же-с! – и предупредительный слуга очень подробно и толково пояснил адрес «доктора за первый сорт».
Часом позднее Николай сидел в кабинете пожилого, коротко остриженного седого толстячка-доктора с красным жизнерадостным личиком.
– Вы не здешний, коллега? Вижу-вижу. Проездом по Волге, значит? Любопытно, любопытно, что и говорить, взглянуть на эту птицу! – добродушно выслушав просьбу Николая устроить ему как-нибудь возможность повидать пленного принца, оживился доктор. – Такие просьбы не новость. Наш брат, мужчины – это еще ничего, а вот от барынь, говорю я вам, просто отбоя нет. Словно на заезжего тенора или на мировое чудо сбегались смотреть, когда этого самого немца выводили на прогулку. А что он, собственно, представляет собой? Посудите сами! Так себе, маленький герцогенок какой-то, принц малого двора, выскочка, сумевший завладеть милостью кайзера. А сколько таких выскочек развелось в эту войну у немцев, ужас! Да, война! Подумать только, что из-за ненасытного, кровожадного, деспотического милитаризма одной нации гибнут по мановению руки маленькие, никому не причинившие вреда, благороднейшие королевства.
– Нация здесь ни при чем, коллега, – усмехнулся Николай.
– Тем хуже, многоуважаемый, тем хуже! Нация не может оправдывать безумия одного монархического индивида, и раз она, во главе со всем рейхстагом, слепо повинуется кретинству своего кайзера, то и она ответственна за все происходящее. А, да впрочем, тут до ночи не переговоришь на эту тему! – круто оборвал самого себя Павел Иванович и перевел разговор на неподвижную руку Николая. – Где ранены? Под Сольдау? Вы говорите, безнадежно? О Господи! И сколько вас, таких мучеников нелепейшей идеи нелепейшего из всех властителей! Ну, да вы еще молоды и такой богатырь-здоровяк, – унывать не следует. Бывает много хуже! А ведь пред вами вся жизнь с ее возможностями на поприще науки. Этот мир неисчерпаем до скончания мира. Видите, я даже острю, так рад свежему человеку. Пойдемте чайку выпить! Я вас познакомлю с женой и детьми.
Но Николай нашел возможность отказаться от чая, и, условившись с новым знакомым встретиться ровно в два на следующий день у дома пленника, они расстались, как приятели.
В этот вечер, прежде нежели возвратился к себе, Корсаров разыскал улицу принца и с похолодевшим сердцем прошел раза два мимо его дома. У дверей стояли часовые, а в окнах дома, за ревниво непроницаемой шторой, был виден свет.
Вернувшись в номер, Корсаров проглотил облатку веронала[13]13
Веронал – барбитал, снотворное.
[Закрыть] – по привычке, усвоенной им в последнее время, – и заснул как убитый.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































