Текст книги "Кошмар"
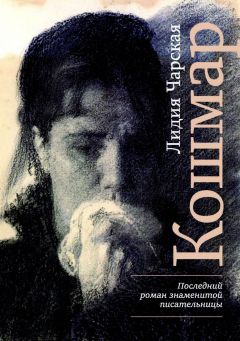
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
XI
С самого утра стоял над городом туман, белый, липкий промозглый. Из противно клубящейся впереди пены вдруг внезапно появлялись неясные очертания извозчичьих и собственных одиночек. Вынырнув тусклыми желтыми пятнами, эту млечную затопь прорезали фонари автомобилей и трамваев. Одинокие темные фигуры прохожих совсем пропадали в этом серо-белесом мареве.
Извозчик, попавшийся Нине, вез отвратительно плохо, пробираясь с опаской стороною по пути к Варшавскому вокзалу.
Всюду горели фонари, но они мало давали света в это сумрачное, жутко-неясное утро.
Вдруг нелепым чудищем вынырнула из млечного сумбура огромная бесформенная махина. Нина испуганно отпрянула всем корпусом в глубину извозчичьих саней.
Посыльный в красной фуражке провез большую зеленую елку.
«Через три дня Рождество, – промелькнуло в голове молодой женщины, – и надо было бы в силу старой, патриархальной традиции устроить елку. К maman не пойдем – слишком тяжело встречаться с чужими. Да и старуха видит на три сажени под землей».
Пока она это думала, в голове уже мелькал образ красивой, деспотичной и властной старухи Анны Аристидовны Корсаровой, матери Николая.
Никогда не любила Нина старую адмиральшу, даже как будто чуть-чуть побаивалась ее, вернее – ее злого, язвящего, как жало, языка. Та была действительно несносна – со своим всеподавляющим деспотизмом и нетерпимостью к чужим взглядам и мнениям. К Николаю она особенно нежных чувств теперь не питала и всю свою привязанность сосредоточила на молоденькой воспитаннице, тихонькой и лукавой Мариэлле, взятой ею в дом после свадьбы Николая, как бы «в пику» последнему.
Саму женитьбу старуха никак не могла простить сыну. Ослепленная своим материнским эгоизмом, она страстно жаждала видеть Николая до самой своей смерти подле себя, самоотверженно любящим, не желающим смотреть ни на одну красавицу в мире, пока жива она, Анна Аристидовна, его мать. И каково же было негодование старой адмиральши, когда однажды, вскоре после защиты диссертации, ее Николай привез к ней высокую, оригинально-красивую девушку, смело смотревшую на нее своими значительными и загадочными глазами сфинкса. И с первой же встречи старуха глухо возненавидела свою будущую невестку.
Вдова адмирала русской службы, она была чуть ли не похищена молодым еще лейтенантом из патриархального дома в Афинах, повенчалась с ним и уехала в Россию. Влюбленная в своего избранника, Анна Аристидовна с его смертью перенесла всю свою страстную привязанность к усопшему на его сына. Казалось, бурный темперамент гречанки, не использованный в пятнадцатилетнее супружество, буйно искал выхода и нашел его в заботах о сыне. Но тут-то и пришлось терпеть разочарования властолюбивой женщине едва ли не на каждом шагу.
Николай, по окончании гимназии, куда едва упросил отца отдать его вместо корпуса, решительно заявил, что не имеет влечения к боевой службе и желает быть врачом.
Старуха скрепя сердце согласилась на это. Они имели «средства», и она не видела цели в такого рода труде ее Николая. Она так жаждала видеть своего Николашу в блестящем кавалергардском или конногвардейском мундире, и если страстно отвергала каждый раз совет мужа сделать сына моряком, то уж во всяком случае не думала видеть его и «каким-то лекаришкой».
За первою «обидой», нанесенной материнскому чувству Анны Аристидовны, не замедлила подоспеть и вторая. Ненавистная девушка с глазами сфинкса стала женой ее любимца.
Тогда, замкнувшись в себе и постоянно растравляя до раны этот укол, нанесенный ее самолюбию, адмиральша решила во что бы то ни стало выкинуть из сердца привязанность к сыну и заменить ее другою.
В ее доме появилась воспитанница, девочка лет двенадцати, Мари, сирота, дочь какой-то захудалой учительницы пения. Ее звали Машенькой, но адмиральша сразу переделала Машеньку в Мари, а Мари – в Мариэллу, – благо, девочка со своим некрасивым смуглым лицом и огромными глазами походила на итальянку.
Корсарова решила сделать из нее светскую барышню и оставить раз и навсегда при себе в большом, осиротевшем со времени ухода Николая, доме.
Едва только извозчик притрусил к перрону вокзала, наскоро расплатившись с ним, Нина вбежала в зал, а оттуда – на платформу. Первое, что ей бросилось в глаза, была старая адмиральша Корсарова, своей высокой, видной фигурой резко выделявшаяся из среды других женщин. Совершенно седые волосы и черные, еще далеко не потухшие глаза Анны Аристидовны с совсем черными бровями вместе со строгим, сухим, брезгливо поджатым ртом, оттененным по верхней губе усиками, давали если не иллюзию былой красоты, то уж несомненного стиля.
Около нее вертелась маленькая, гибкая и проворная, как обезьянка, с преувеличенным подчеркиванием моды одетая Мариэлла, со смуглым, неправильным, но свежим лицом и блестящими, все понимающими и многое обещающими глазами.
Нина Сергеевна сама оповестила их накануне письмом о несчастье, происшедшем с Николаем, и о его возвращении в Петроград. И теперь старуха Корсарова, с красными пятнами волнения на лице, беспокойно шагала по платформе, опираясь на зонтик, с которым не расставалась ни в зимнее, ни в летнее время.
– Ну, наконец-то, мать моя! А уж я думала, что не приедешь, – брезгливо поджимая губы, встретила она невестку.
Та молча наклонилась и поцеловала руку свекрови, отчетливо почувствовав прикосновение захолодевших на морозе губ последней к своему виску.
– А где же твои? Я их что-то не вижу, – сердито пожевывая губами, продолжала старуха.
– Вы же знаете, maman, что мама со смертью отца никуда не ходит, а Илья и Лида умышленно не приехали, чтобы не помешать своим присутствием.
– Поезд опаздывает на пять минут. Я только что слышала, как говорили рядом, – желая прервать не совсем приятный разговор, тоненьким детским голоском протянула Мариэлла, скромно опуская глазки пред офицером, проходившим мимо них в эту минуту и окинувшим беглым взглядом ее изящную, заманчивую фигурку. Затем она снова подняла свой взор и значительно добавила: – Maman очень волнуется. Мы всю ночь не спали, как получили ваше письмо с Пашей. Ужасно! Maman так любит Николеньку.
Мариэлла проговорила все это с особенными театральными интонациями, незаметно скашивая глаза по соседству: есть ли кто-нибудь, заслуживающий внимания, стоит ли продолжать в том же духе последующий разговор.
Потом она одернула свою утрированно короткую юбку, делавшую ее похожей на маленькую девочку, и снова зазвенела в адрес Нины:
– Ужасное известие!.. Конечно, не опасно… Но все-таки тяжело будет для Николеньки. Он так любит свое дело.
– Поезд! Поезд подходит! – послышалось рядом.
Старуха Корсарова вся выпрямилась и тяжело налегла на зонтик. Мариэлла затихла и, незаметно стрельнув за ее спиной в проходившего мимо господина в бобрах, тайком потерла нос какой-то бумажкой под прикрытием муфты.
Глаза Нины впились в приближавшийся поезд.
XII
«Вон он! Там, далеко!» – сразу увидела Нина знакомую богатырскую фигуру мужа, с правой рукой на черной повязке, перекинутой через голову, и побежала, как девочка, мимо длинной вереницы медленно подвигавшихся вагонов.
– Николай!
Кто это крикнул? Кажется, она сама, не отдавая себе в том отчета.
Он услышал, отыскал ее по голосу и улыбнулся.
И с этого мгновения для обоих, казалось, перестал существовать весь этот мир с его чужими встречами и чужими восторгами, с поездами, дебаркадером и шумливой – не то радостной, не то слезливой толпой.
Нина Сергеевна сама уже не помнила, как очутилась подле мужа, как обвилась руками вокруг его шеи, как, приподнявшись на пальцы (она на голову была ниже него), прильнула губами к его губам знакомым ему, мягким и милым движением. И радость встречи – первая, хмельная, как вино, радость затопила ее всю своей влажной волной. Она шептала, как безумная, одно и то же, одно и то же:
– Николай мой! Николай мой! Милый, милый Николай!
В этот миг словно рассеялся черный дым ужасного кошмара, не отпускавшего ее в последние три месяца из своей власти. Кошмар исчез, и на его месте загорелось, засияло, засверкало миллиардом алмазных искр солнечное счастье.
Нина Сергеевна ничего не видела сейчас, кроме черных, всегда задумчивых, а теперь ответной радостью напоенных глаз мужа, из которых на нее глядел целый мир почти экстазного восторга. Пред нею было его лицо, преображенное сиянием счастья встречи и любви, бесконечной любви.
Она между поцелуями всматривалась в это похудевшее, опавшее лицо, в заострившиеся вследствие перенесенных физических страданий черты, затем с робким страхом взглянула на раненую, мертво покоившуюся руку и, повинуясь непреодолимому порыву, быстро и нежно поцеловала ее, воскликнув:
– Николенька! Родной мой! Герой мой!
В этот момент старуха Корсарова, почти грубо отстранив невестку, бросилась на грудь сына и замерла на ней.
Сияющий взор Николая перешел с лица жены на увядшие щеки матери. Здоровой рукой он обнял ее плечи, говоря:
– А вы молодцом, maman… все такая же! Не постарели нисколько…
– Я так беспокоилась за тебя, Николаша! – воскликнула мать. – А вчера, когда получила от Нины известие о том, что ты ранен и возвращаешься обратно, веришь ли, чуть не умерла от страха.
– Но, слава Богу, все обошлось благополучно! Здравствуйте, Мариэлла! А вы все цветете?
Николай говорил своим прежним, беспечно-спокойным, с оттенком легкой насмешливости голосом, но что-то новое было в его запавших глазах и улыбке.
– Ты к нам, Николушка? Завтракать, правда? – вытирая капавшие из глаз одна за другою скупые старческие слезы, осведомилась адмиральша.
Корсаров кинул быстрый, мимолетный взгляд в сторону Нины и – поймав ее ответное: «Со мной! Ради Бога, вдвоем со мной!» – поспешил сказать матери:
– Maman, голубушка!.. Не сердитесь на меня, ради Бога! Но я столько времени не видел жены: с самого отъезда в действующую армию, четыре месяца!.. Я приеду к вам вечером, приеду непременно… вы увидите. А сейчас позвольте мне проводить вас до кареты.
Старуха прищурила свои и сейчас еще молодые, жгучие глаза. Ее лицо потемнело, и она глухо произнесла:
– Не беспокойся, если так, Николашенька! Меня Мари-эллочка проводит. Я понимаю, хорошо понимаю. Четыре месяца не виделись с женой, есть поговорить о чем, слава Богу… Уж подожду до вечера, авось не умру от ожиданья. Приедешь, расскажешь все по порядку… Теперь только скажи, как чувствуешь себя. Сними груз с сердца, Николушка!
Адмиральша говорила спокойно, но буря, бушевавшая у нее в эти минуты в душе, отражалась на лице и в глазах, зажигая их пламенем вражды к Нине.
Но та даже и не заметила этих взглядов. Их заслонила от нее безбрежная радость, целый океан бесконечной радости, в которой утонула ее душа с минуты появления Николая.
Тяжело опираясь на руку сына, старуха Корсарова направилась к выходу. Стреляя скромно опущенными глазами, Мариэлла засемёнила за нею, наивно-юная в своей модной, по-детски короткой юбке.
Николай вел мать, отвечая на ее короткие и быстрые вопросы и то и дело поворачивая голову в сторону жены, шедшей по другую сторону, рядом с ними.
«Милая! Милая! Люблю! Люблю!» – читала в его запавших глазах Нина, и ее сердце до боли сжималось сладким предчувствием блаженства.
Здоровой, сильной рукой Николай крепко обнял жену, когда они сели в извозчичьи сани, побросав багаж на руки носильщика.
– Милая! Ждала? Помнила? Любила? – снова закидал он жену вопросами и, не ожидая ответа, будучи уверен в нем, продолжал: – Калека – твой Николай, теперь капут ему, Ниночка! Рука-то все равно что ампутирована. Хирургия потеряна для меня отныне и навеки. Кабинетной крысой будет теперь твой Николай… Не разлюбишь? Не надоем? О милая!
Короткий, знакомый смех, подернутый нотками грусти, прозвучал ему в ответ на эти речи.
Туман на улице еще не совсем рассеялся и сырым паром дышал в лицо.
Нина прижалась к мужу так тесно, как могла. Ее головка упала на его плечо. Ее горячее дыхание жарко веяло в его захолодевшую щеку.
А он снова в ответ воскликнул:
– Я дома!.. Я с тобой!.. Сейчас не хочу даже и думать о своем несчастье, буду переживать его потом. А сейчас ты моя, ты снова моя, Нина!
О, милые слова! Милое лицо! Милые глаза, врывающиеся прямо в душу!
Нина чувствовала себя сейчас маленькой, прямо-таки ничтожной рядом с мужем-героем, отдавшим родине если не жизнь, то все заветное в смысле труда, своих молодых надежд, иллюзий и, наконец, здоровья.
Он был бодр и весел по-прежнему, как тогда, когда еще не был калекой, – Нина с радостью заметила это. О, она принесет ему, к его ногам, все свои силы, всю свою энергию и жизнеспособность, лишь бы не дать ему почувствовать это его злосчастное увечье.
И вдруг, как молния, быстрая и жгучая мысль пронизала ее мозг, точно острой стрелой: «А захочет ли он принять теперь от меня эту услугу? Сумеет ли он примириться с моим собственным несчастьем, с моим, увечьем“?»
Она помертвела вся, опустилась, словно размякла в руке Николая ее прямая, сильная фигура, и тень отчаяния, упавшая в душу, мгновенно заслонила сверкавшую в ней до этого мгновения детскую, солнечную радость.
Корсаров, однако, не заметил этого перехода – он был слишком занят новыми впечатлениями. Извозчик уже подвез их к подъезду большого дома на Надеждинской.
Выбежал швейцар, шумно поздравлявший доктора с приездом. Подъехал другой извозчик с вещами и рассыльным. Надо было отвлечься, говорить, платить.
– Я буду ждать тебя наверху, дома, – крикнула мужу Нина и побежала на третий этаж. – Паша, сойдите вниз помочь барину! – бросила она открывшей дверь горничной, а сама, как была в шубке и ботиках, прошла в гостиную и беспомощно опустилась в первое попавшееся кресло.
Недавней блаженной радости как не бывало в ее душе. Все смыла в один миг ужасная волна воспоминаний. Черный, мучительный кошмар последних четырех месяцев ее жизни всплыл снова ужасным, неодолимым, чудовищно-ярким воспоминанием и снова оцепил ее своими отвратительными, скользкими щупальцами спрута. Ей хотелось со злостью отмахнуться от жуткого, незримого видения, колотиться до полного одурения и полнейшей прострации мыслей головой о пол, чтобы забыться хотя бы на один короткий миг.
– Где ты, милая? – раздался вдруг возглас Николая.
Это снова вывело Нину из тяжелого оцепенения.
Боже, как ей захотелось сейчас умереть, с тем чтобы родиться снова, встретить снова Николая и снова точно так же любить его, как сейчас, но только без этого яда в сердце и жуткого кошмара, стерегущего ее за ее плечами.
А мысль-вопрос, едкая, как ядовитое курение, уже плескалась в ее пылающем тревогой мозгу: «Сейчас признаться ему или позже?.. Сейчас или позже, когда мы будем только вдвоем, под покровом ночи?..»
Весь день прошел как в чаду. Сидели близко за завтраком, интимно-близко, как в дни медового месяца. Нине Сергеевне было болезненно-сладко и радостно-грустно в душе услуживать, как ребенку, раненому дорогому существу. Отослав на кухню слишком шумную Пашу, она сама подавала блюда и разрезала для мужа мясо, любовно-нежно, как мать смотрит на свое дитя, наблюдая за тем, как он ел с видимым наслаждением, смакуя каждый кусочек.
– Такой лукулловской роскоши давно не видел… Иной раз неделями сидел на одной картошке, а то и целыми днями на пище святого Антония[7]7
«Сидеть на пище святого Антония» – жить впроголодь.
[Закрыть]. Даже курить пристрастился, веришь ли, в это время, благо табак отбивает аппетит, – сказал он, как бы оправдываясь и раскуривая зажженную папиросу.
После завтрака супруги сидели, обнявшись, в широком кресле, «двуспальном», как его прозвал Илья, и вели те милые, незначительные, но бесконечно дорогие сердцу беседы, которые ведут обыкновенно после долгой разлуки близкие люди.
– Боже, как хорошо!.. За эти вот минуты я готов благословить даже мое калечество. И, если бы не грозный призрак войны, не тысячи гибнущих братьев, не дело, кровавое дело, зовущее так или иначе приобщиться к нему, я был бы почти счастлив, Ниночка! – произнес Николай. – Не знаю, верно ли, или это только так кажется, но ты любишь меня как будто больше, чем прежде.
– Милый!
Ее поцелуй лучше всяких слов подтвердил это его предположение.
– А что если это жалость, Нина? Скажи!
– Глупый!
О, как заразительно-звучен, как раздражающе-нежен был смех, когда она, прижавшись к нему всем телом, смотрела на него снизу вверх своими темными, загадочными глазами сфинкса.
Кровь бросалась в голову от смеха очаровательной женщины, от пушистых, мягких завитков, щекочущих щеки, губы. Тело Корсарова, четыре месяца не знавшее жгучих позывов страсти, теперь снова громко заявляло о себе. Эта женщина, его жена, шесть лет подряд остро и страстно желанная им, как в первые дни медового месяца, всегда обаятельная и всегда влекущая, притягивала его сейчас к себе как никогда.
Весь трепещущий, как влюбленный юноша, он порывисто поднялся с кресла.
Поднялась и Нина… Поднялась, увидела призывное мерцание в его влажных, словно туманом подернутых глазах и ответила ему смелым взглядом: «Твоя… вся твоя… без остатков твоя!»
Закружилась голова, ударила разгоряченная кровь в виски. И в хаосе властного порыва утонуло само представление о действительности.
Но вдруг Нина опомнилась. Она почувствовала, как охватила ее стан крепкая рука, а вслед за тем приблизилась белая, преображенная страстным порывом, непроницаемая маска человеческого лица. Что-то ужасное промелькнуло пред застланным туманом страсти взором молодой женщины. Близко-близко склоненное над нею, окаменевшее в экстазе бурных переживаний лицо любимого вдруг видоизменилось: резкие, крупные черты постепенно сузились и помельчали, темные, дышащие истомным восторгом глаза посветлели, уменьшились и стали прозрачно-стеклянными, пустыми, как у русалки.
Кошмар ужасной, никогда не забываемой ночи встал снова пред глазами Корсаровой.
Горничная Паша долго потом рассказывала на кухне Настасье, как она, заслышав дикий, пронзительный крик барыни, выронила графин с водой, который несла в столовую, и как, бросившись на звонок Корсарова, увидела бледную, извивавшуюся в истерике, рыдающую и хохочущую в одно и то же время Нину Сергеевну и самого Корсарова, с растерянным видом хлопотавшего подле жены.
Но вот Нина стала постепенно успокаиваться.
– Что это было, Нина? – с бесконечной тревогой в голосе спросил ее муж. – Милая!.. Что с тобой? Я голову теряю.
– Ничего… Теперь прошло, ненаглядный! – ласково ответила молодая женщина, но ее зубы беспомощно стучали о край стакана, пока она широкими глотками пила холодную воду. – Совсем прошло. Видишь? – продолжала она. – Милый, присядь около!.. Мне необходимо говорить с тобой. Нет, не сюда… ближе, ближе, вот так! Теперь охвати меня покрепче рукой. Крепче, еще крепче, Николай! Или ты не чувствуешь? Не видишь? Предо мною бездна и пред тобой. И пред тобой она тоже, мой бедный, ненаглядный муж.
Ее отрывистый голос напоминал что-то бредовое, ее глаза были дико устремлены в глаза мужа.
И вдруг слезы, облегчающие душу слезы хлынули из этих жутко расширенных ужасом переживаемого мгновения глаз. Нина трепетно забилась на близкой, родной ей груди, безудержно рыдая.
Николай сжал ее так сильно, как только мог, и дал ей выплакаться без слов утешения, ни в чем не мешая, ни о чем не расспрашивая. Он дрожал сам, как в ознобе, зараженный ее непонятной ему, смутной, тревогой.
И вот он снова среди судорожных всхлипываний услышал прерывистый, тихий шепот:
– Ты… ты любишь меня, Николай? Не правда ли? Бесконечно, всепрощающе любишь?
– Какой вопрос, моя деточка! Больше жизни люблю. Конечно!
– И забудешь все, что бы ни случилось? Да?
– Постой! Что такое? Ты пугаешь меня. Разве случилось что-нибудь? Говори же!.. Ради Бога, говори, Нина! – с тревогой воскликнул Корсаров, силясь одной рукой оторвать от своей груди ее залитое слезами и исковерканное страданием личико. – Бог мой… Да говори же, не мучь!
– Нет, раньше скажи ты, обещай, поклянись все забыть, все, что бы ни было, милый! – возразила она.
– Нина!
Сколько потрясающего отчаяния было в этом голосе, в этом его крике.
А Нина, словно ища защиты от мужа у него же самого, еще теснее прижалась головою к его груди, шепча:
– Любишь? Забудешь во что бы то ни стало?
Тогда смутная и страшная догадка словно иглою уколола мозг Николая.
– Нина!.. Девочка моя! Ты разлюбила? Ты… изменила мне, Нина? – воскликнул он.
Рыдания молодой женщины прервались сразу, как по волшебству, ее глаза странно и сухо горели.
– Я тебя обожаю, ты знаешь это, – горячо заговорила она. – Вели мне умереть – умру сейчас без колебаний. Я же люблю тебя первой и последней любовью, смертельной любовью люблю тебя, Николай, и, что бы ни было после моего признания, буду любить тебя вечно. Слышишь? Всегда, до могилы и за нею, если там суждено людям жить и любить.
– Так говори же, не мучь! Говори скорее, во имя всего святого, Нина!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































