Текст книги "Кошмар"
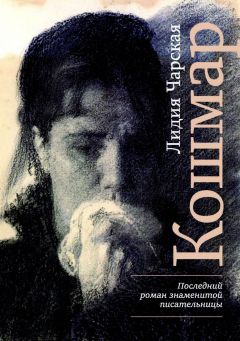
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
VIII
Настойчиво затрещал электрический звонок в передней.
Вертлявая Паша, вихляя по привычке боками и стуча высокими каблуками, пронеслась туда.
Что-то дрогнуло в груди Нины. Глаза, обведенные синими тенями от бессонницы, испуганно расширились и заблестели.
С того дня, как ужасная истина стала неопровержимой, она перестала спать по ночам, потеряла аппетит и вся воплотилась в один сплошной трепет постоянного ожидания. Каждый звонок, малейший шум на лестнице, какая-нибудь ничтожная суета за окнами во дворе – все давало ей странную, ничем не преодолимую тревогу. Но письма Николая волновали ее больше всего. Они были по-прежнему полны страстного обожания, по-прежнему говорили ей и своими строками и между строк о той великой и самоотверженной любви, которую чувствовал к ней ее молодой муж.
Но Нина, прежде отвечавшая ему вдохновенно и с никогда еще не потухавшим огнем, продиктованным ей собственным чувством, теперь ограничивалась короткими открытками, еженедельными бюллетенями, посылаемыми ею в действующую армию, и все ждала, ждала.
Она ждала, ждала, ждала неминуемого, замирая, воскресая и снова замирая по несколько раз при каждом звонке, при каждом появлении почтальона, телеграфиста, газетчика, как вот и сейчас, в этот момент.
– Барыня, Илья Фёдорович пожаловали, – доложила с порога Паша.
Нина вздрогнула всем телом и с минуту глядела на горничную далекими, невникающими глазами.
– Илья? Хорошо. Попросите подождать Илью Фёдоровича. Да спросите, обедал ли он. Если нет, то поставьте на стол сыр, масло, подогрейте ростбиф. Да яичницу закажите Настасье. Супа, должно быть, уже не осталось.
– Слушаю-с, барыня.
Быстро, как тень, исчезла Паша, дробно застучали в коридоре ее каблуки.
Нина Сергеевна подошла к зеркалу. От желтого капота она казалась еще бледнее. Ее узкие глаза запали в эти две недели и стали больше, значительнее. Они уже не мерцали по-прежнему, а горели диким, нездоровым огнем. Небрежно причесанные волосы беспорядочно ниспадали прядями вдоль лба и висков. Нина машинальным движением руки привела их в порядок, посмотрела с минуту на свое изжелта-бледно-землистое лицо, отраженное в зеркале, на свой чуть-чуть начинавший округляться живот, потом с кривой усмешкой закуталась в темный пуховый платок и переступила порог гостиной.
С той знаменательной поездки ее в Красное Село они не видались.
Декабрьские предрождественские сумерки уже царили за окном, когда она переступала порог гостиной.
– Здравствуй, Илюша. Ты хорошо сделал, что вспомнил обо мне.
Какой странный, чужой, незнакомый и вместе с тем смертельно спокойный голос!
Трепет прошел по телу доктора Котулина. В надвигающихся сумерках он увидел маску неподвижного серо-бледного, мертвенного лица и запавшие глаза, заключенные в синеву темных кругов.
– Нина, бедная Нина, что с тобою?
– А что? Разве я плоха? – спросила Нина и быстро тронула выключатель.
Вспыхнуло электричество, и Илья Фёдорович увидел ясно при свете то, что только намечалось, угадывалось в полутьме.
– Милая Нина, ты нездорова?
– Я скоро умру, Илья. Я предчувствую это. Умру в родах. Это так же верно, как то, что нынче холодно, темно и скучно, – прозвучал далекий, чужой голос откуда-то из мертвой глубины.
– Ну, вот глупости, Ниночка! У тебя просто нервы расшатались. Да, наконец, именно так, в сущности, чувствует себя каждая беременная женщина. Но это нелепость… Мы спасем тебя… я и Николай, мы не дадим тебе умереть.
– Напрасно! – прозвучало в ответ, как дуновение ветерка.
«Или я ослышался?» – подумал Илья Фёдорович.
Нет! Быстрым движением Нина схватила его руку бледной, влажной, холодной, как лед, рукой и, словно в самозабвении, в бреду, залепетала:
– О, если бы так, Илья! Если бы умереть. Дня, часа не имею покоя. Если бы ты знал… знал все!.. Боже мой, Илья! Ты подумай только, что ждет меня впереди там – меня и его, моего Николая!
Она заломила руки, бессильно опустилась на пуф и уронила голову на спинку соседнего кресла.
«Ну, как ей сказать? Как ей сказать, такой подкошенной и без того несчастной?» – мучился в свою очередь Котулин.
А не сказать нельзя. Это телеграмма и письмо, которые он привез сюда с собою.
«Но прежде ей надо дать отойти, подкрепиться. Скажу после», – решил он после долгих мучительных колебаний и глубже засунул за обшлаг тужурки какую-то серую бумажку и большого формата конверт.
А Нина все еще сидела с низко опущенной головой, с бессильно брошенными на колени руками. Его голос, заговоривший вдруг с преувеличенной бодростью, заставил ее вздрогнуть.
– Послушай, Нина, все твои предчувствия – вздор. Ты: преувеличиваешь. Я, не зная факта, конечно, ничего не могу сказать тебе в утешение, но послушай, моя бедная детка, мне кажется, несчастье не так уж велико, как ты его представляешь себе.
– Увы, Илья, ты действительно не можешь судить об этом.
– Не могу, конечно, пока что, но, надеюсь, ты поделишься со мною своим горем. Послушай, Нина! Побольше доверия и уверенности ко мне. Я же твой друг.
Его голос дрогнул. Она подняла глаза.
– Да, Илья… Но не сейчас, после…
– Хорошо, – пересиливая все накипевшее в себе волнение, продолжал Котулин. – А теперь я хочу предложить тебе хоть немного встряхнуться, проветриться, поехать, что ли, на Острова. Тряхнем стариною, в кабачок какой-нибудь заедем по дороге, за Николашино здоровье выпьем, музыку послушаем.
– Но я таким страшилищем стала теперь, Илюша. Мне и на люди стыдно показаться.
– Вздор! Всегда была красивой и сейчас такая же красавица, как всегда. Да если не по сердцу ресторанные ротозеи, мы в кабинет спрячемся. Идем? Слушай, в «Вилла Родэ» или в «Аквариум» махнем. Теперь там нет ни души. А оттуда Николаше пошлем двухаршинную телеграмму. Кутить так кутить. Я жалованье получил вчера только. Что мы, старики с тобой, что ли?
– Милый Илюша!
Сердце Нины вспыхнуло благодарностью. Она знала, что он – домосед и ненавистник всякого рода кабацких развлечений – делает это исключительно для нее.
На минуту черный кошмар отчаяния отпустил свои крепкие руки с ее души и какая-то светлая точка мелькнула вдали – крошечный огонек оживающей молодости, жажда жизни, туманной надежды на счастье, которое когда-нибудь воскреснет. Мимолетная искра его уже запала в душу и зажгла ее, унылую и на смерть зашибленную горем. Пробудилась вдруг короткая, случайная, бледная радость.
– Едем, Илюша, едем! – горячо воскликнула Нина. – На воздух хочется, в свежую морозную ночь – к деревьям, снегу и звездам… и…
– И чтобы дух захватывало, – подхватил Котулин, – чтобы как птицей несло. Ладно, побегу за автомобилем.
– Нет, нет, только не так. Илюша, милый Илюша, если тебе все равно, возьми извозчика, да получше.
– Лихача возьму… черта. Кутить так кутить. Бегу, а ты тут пока что одевайся.
Он был смешон, этот маленький, суетливый человек с козлиной бородкой, в старенькой докторской тужурке. Ему не шли ни это оживление, ни эту суета.
И снова Нина Корсарова отметила в душе своей его трогательную, подкупающую о ней заботу.
Илья исчез, умчался – маленький, смешной и суетливо-нелепый.
Нина пошла одеваться, позвонив на ходу горничной.
IX
– Что, хорошо?
– Безумно хорошо, Илья!
– Ну, слава Богу, удружил, значит!
Он действительно удружил, этот маленький доктор.
Недаром прождала его Нина Сергеевна около часа, пока он привел беса вместо коня.
Рысак под синей сеткой летел как птица. Ветром и мелкой изморосью било в лицо, дух захватывало от этого бескрылого полета. Гиканье гиганта-кучера, испуганные вскрики прохожих, тревожные гудки автомобилей, звонки трамваев – все это слилось в один общий стремительный сумбур. Промелькнула быстро, как сон, обрамленная поясом фонарей белая равнина Невы. Потянулся ровный, прямой, как стрела, Каменноостровский проспект с его стильными каменными махинами и деревянными скромными особнячками, с его пустырями и закоулками, и заснеженной прелестью деревьев.
– Тепло ли тебе, Нина? – спросил Котулин.
– Тепло… тепло… Но, ради Бога, – молчи, Илья!
Нине хотелось этого молчания. Даже глаза сомкнула она, чтобы не видеть окружающих картин природы и быта. Ей хотелось улететь, с головой окунуться в царство мечты, где нет страданий, нет прошедшего и будущего. Соболья шапочка низко съехала на лоб, но не хотелось поправлять ее: лень было вынуть руку и откинуть запушенный инеем локон, щекотавший и холодивший щеку.
Промчались по Строганову мосту, влетели в парк. Редко посаженные фонари освещали белую чащу, причудливыми многогранными блестками играли в их свете снежинки, сверкая у полозьев саней.
В этом зачарованном царстве Нина словно проснулась. Она тихо, невесело рассмеялась, глухо уронив:
– Дворец Снегурки. О, если бы не знать страданий, как она!
– Если ты из оперы, то она растаяла от любви и страданий, твоя оперная Снегурка, – попробовал отшутиться Илья.
– Но не с отчаяния, – веско поправила Нина.
Доктор сделал вид, что не расслышал, и неожиданно рассмеялся.
– Чего ты?
– Послушай, Нина, – Котулин повернулся к ней всем своим корпусом и заговорил преувеличенно оживленно: – а не находишь ли ты, что наша сегодняшняя прогулка похожа на прогулку влюбленных, а?
– Не нахожу, – твердо, без тени улыбки, точно отрезала она.
«О, и осел же ты, Илья Котулин, – мысленно выругался в следующую минуту доктор. – И поделом тебе! В какое время вздумал, старый болван, говорить свои неуместные шутки? Но как подготовить, как подготовить ее, бедняжку, к тому, что караулит ее уже, как дикий зверь, как притаившийся хищник? Как облегчить ей, бедной, новый удар, который вот-вот свалится на нее?»
И, обескураженный, изнемогающий сам под гнетом ответственности, Котулин неожиданно гаркнул на лихача:
– Подбавь ходу!.. Подбавь ходу!.. Живо на Стрелку… Марш!..
Конь встрепенулся и помчался в бешеном аллюре.
Дворец Снегурки раздвинулся, и белым, дремлющим в своем ледяном оцепенении фантомом глянуло взморье.
А двумя часами позднее лакеи-татары, во главе с метрдотелем с удивлением таращили глаза на странную пару, явившуюся в такой ранний час в их убежище и требовавшую вина и ужина.
Прошли в боковой кабинет с топившимся камином, с синими обоями и палевыми диванами, с картинами необычайно откровенного и легкомысленного жанра, в изобилии украшавшими стены.
При свете электричества оживленная ездою и морозом Нина Сергеевна снова похорошела и помолодела почти на глазах успокоившегося доктора.
– Устрицы хочу и вина. Ледяного шабли хочу… Я разорю тебя нынче, Илюша, – срывалось с ее посвежевших губок.
– Если бы ты знала, как я рад твоему аппетиту, Нина! – ответил он и снова засуетился, милый и смешной, неподходящий в своей старенькой тужурке к роскоши модного, дорогого кабака.
Появились, словно вынырнули откуда-то, предшествуемые важным, министерского вида, метрдотелем лакеи-татары.
Затем, словно священнодействуя, с бесстрастными физиономиями они стали расставлять закуски.
Нина задумалась. Ей вспомнился муж. Еще будучи невестой, она, жаждавшая новых впечатлений, убедила его привезти ее сюда, в эту самую «виллу», о которой она имела тогда самое смутное понятие. Тогда, она помнит, там, в провале залы, все кишело народом, а на сцене ломалась полуголая немка, выделывая эксцентричные па какого-то неприличного танца. Нине было тогда и стыдно перед Николаем, и душно. Насыщенная тонким развратом атмосфера невольно била по нервам. И в тот вечер, кажется, захваченная врасплох настроением, господствующим здесь, она дала Николаю после его нового пылкого признания свой первый поцелуй.
Боже, как далеко все это было! Боже, как далеко!
– Ты, кажется, уже успела соскучиться со своим косолапым кавалером, Нина? – преувеличенно развязно, вспугивая ее задумчивость, умышленно громко произнес Котулин, а затем добавил: – Ну, Ниночка, за твое здоровье!
Он чокнулся с нею стопкой шабли и стал подкладывать на ее тарелку лучшие устрицы.
Молодая женщина оживилась. Вино сразу подействовало после мороза. Зазвучал ее неожиданный смех, заблестели глаза удивительной удлиненной формы.
– Не так плоха жизнь и рано еще отчаиваться! – воскликнула она. – Ты прав, Илюша. И какой ты умник, что повез меня кататься, голубчик! Это подбодрило меня.
– Хочешь, останемся посмотреть номера кабаре? Начнется в одиннадцать.
– Пожалуй! Хорошо!
Нина Сергеевна запрокинула на высокую спинку стула свою маленькую, гордую головку и прихлебывала частыми глотками вино.
Котулин стал вспоминать эпизоды их общего детства, потом юность и знакомство с Николаем Корсаровым. Нина окончательно успокоилась и оживилась.
«Ну, теперь, когда она в таком состоянии, ей можно сообщить», – решил про себя доктор и, добавив еще вина в ее недопитый бокал, еще интимнее придвинулся к ней и заговорил:
– Я рад, что ты ожила немного. Взгляни на себя в зеркало! Снова прежняя красавица, как ни в чем не бывало, и, когда вернется Николай…
– Он не скоро еще вернется, Илюша. До конца войны я его, во всяком случае, не жду.
– Напрасно.
– Или ты не знаешь Николая? Разве похоже на него, чтобы он мог оставить дело, которому служит слепо, как фанатик, и вернуться сюда?
– Но… его могут вернуть, помимо его желания, другие.
– Например?
– Ну, начальство, что ли, да и мало ли что, Боже ты мой!
– Каким образом? Почему? – и в голосе Нины уже зазвучали нотки тревоги.
– А ты не хочешь допустить мысль, что он может слегка переутомиться, занемочь, наконец, или.
Илья Фёдорович не успел договорить начатое. Как раненая птица вскинулась и затрепетала молодая женщина. Две сразу похолодевшие руки упали на плечи Котулина и цепко впились в его погоны.
– Ты что-нибудь знаешь? Ты слышал? Говори! Он болен? Ранен? Убит? – прерывисто, с ежесекундными придыханиями вырвалось из горла Нины Сергеевны.
Маленький доктор совсем растерялся.
– Ты сумасшедшая… ты положительно сумасшедшая женщина, Нина, и я решительно не знаю, как мне с тобой говорить. Откуда столько фантазии? Бог мой!.. На, на, на, читай – и успокойся, ради Бога! Вот тебе: вот письмо, вот телеграмма. Сама убедишься, что никаких ужасов нет.
Нервными, быстрыми, трепетными движениями доктор вытащил из-за обшлага серую скомканную бумажку и конверт большого формата, полученные им нынче утром, и, разгладив, положил пред нею на стол.
Бледная до синевы Нина развернула бумажку. Там стояло:
«Подготовь Нину! Ранен осколком снаряда. Опасности для жизни нет. Приеду 22-го. Подробности письмом. Николай».
Яркий свет синих обоев и палевой обивки мебели вдруг странно перепутались в глазах Нины. Палевый оказался где-то наверху, под самым потолком, синий – под ногами. Казалось, комната закачалась и поплыла вверх, как карусели. Сразу стало вдруг душно-душно, точно изо всех сил сжали горло, и она зашаталась в руках подоспевшего к ней Котулина.
Он принялся приводить ее в чувство и наконец это удалось ему.
– Не опасно для жизни… Не опасно для жизни. Пойми ты это, сумасшедшая женщина, – растерянно и жалобно лепетал Котулин, с радостью видя, как оживает Нина.
Она с трудом подняла веки.
– Домой, ради Бога, отвези меня скорее домой, Илюша!
X
Был печален и молчалив их обратный путь к дому, и только у себя, среди привычной, милой сердцу обстановки, Нина Сергеевна пришла окончательно в себя.
Котулин раздел и уложил ее в постель при помощи Паши, заменил свет в ярких электрических грушах крошечным боковым зеленым ночником в изголовье постели и, приготовив успокоительное питье, присел на край кровати.
– Я побуду, пока ты не уснешь, – сказал он. – Нынче у меня свободный вечер. В госпитале дежурит Шатилов. Тебе лучше сейчас?
Нина молча кивнула головой.
Так, среди белизны и мягкой уютности спальни, лежа среди взбитых подушек на огромной двуспальной кровати, эта женщина, еще недавно гордая и недоступно-прекрасная, казалась теперь маленькой и жалкой Илье. Он взял тоненькую, инертно подавшуюся ему руку и мягко поднес ее к губам. Теперь он уже не сомневался: не тревога, не страх за жизнь, за рану Николая довели Нину до обморока, окунули ее в темный колодезь беспросветного горя. Ужас пред неминуемым объяснением с мужем, отчаяние пред грядущим событием бросили ее в эту бездну. Едва оправившись от обморока, она потребовала от Котулина письмо и прочла его.
В нем было подробное описание случившегося с Николаем несчастья. Он работал в полевом госпитале на передовых позициях. Шла усиленная канонада. То и дело приводили и приносили раненых – все свежих и новых, казалось, без счета и числа. И вот шальной снаряд влетел в палатку. Николай плохо помнил этот момент и потому не мог передать в письме подробно. Кажется, он потерял сознание, а когда пришел в себя и увидел свою бессильно опущенную руку, понял весь ужас свершившегося. Теперь он потерян для дальнейшей практической работы, для того труда, который заложил фундаментом и основой всей своей жизни. К счастью, его голова светла и ясна по-прежнему: ему остаются кабинетный труд по пути новых изысканий, наконец – лекторство. Он не будет трутнем… Только бы не волновалась Нина. Пусть его друг Илья подготовит его любимую жену (в письме так и стояло «любимую») к обрушившемуся на них удару. Он, Николай, не так наивен, чтобы создавать себе какие бы то ни было иллюзии по этому поводу, чтобы не понять, что его правая рука потеряна для него навеки. Хорошо еще, что можно обойтись без ампутации, а то совсем дело дрянью пахнет. И так уже один сюрприз налицо для бедняжки Нины: сухорукий муж. И все только Нина, о Нине, о ней.
Она читала письмо с болезненной гримасой, то и дело сводившей ее губы. Но Илья Фёдорович понял, что за страхом и печалью об участи Николая кроется другой страх, даже больше того – отчаяние и ужас иных переживаний.
И, когда Нина, странно затихшая, лежала теперь пред ним, вся белая, в углу своей белой же огромной постели, ему хотелось то застонать от жалости к ней, то взять ее на руки и, прижав к своей груди, баюкать и ласкать как ребенка.
Вдруг тоненькая, беспокойно двигающая пальцами рука опустилась на его обшлаг.
– Илья, я должна тебе все рассказать!.. – прошептали чуть слышно пересохшие губы.
Тогда Котулин, неожиданно и нервно сжав ее пальцы, воскликнул:
– Не надо, Нина!.. Ради Бога, не надо… Тебе будет тяжело.
– Мне еще тяжелее молчать. О, это такая мука, такая мука, Илюша! – и молодая женщина с детской порывистостью повернулась ничком, зарылась лицом в подушки и глухо, продолжительно зарыдала.
Илья Фёдорович дал ей выплакаться. Его рука легла на ее пушистую, темную головку, с братской нежностью гладила эти тонкие, мягкие, как шелк, волосы.
– Плачь, Нина… бедная Нина!.. Бедное дорогое дитятко! – тихо, ласково произнес он.
Нине показалось в эти минуты, что покойный отец встал из гроба и ласкает ее голову руками Ильи. И еще мучительнее звучали ее рыдания.
Но вот среди них послышались слова – слова жуткого, маловероятного по своему трагизму признания, маловероятного в другое время, но возможного, часто повторяющегося и чудовищно реального в эту войну.
Каждое слово молодой женщины падало раскаленным углем в сердце Котулина и сжимало его мучительной, почти физически ощущаемой, болезненной жалостью.
– Бедное дитятко, бедная Нинушка! – продолжал он повторять, и уже машинально, сама собою, двигалась рука, нежным движением разглаживая пушистые пряди на маленькой головке.
Когда Нина кончила свое повествование, наступила бесконечная пауза. Как громом пораженный, сидел Илья Фёдорович, вертя в руках потухшую папироску.
Темный кошмар, переживаемый молодой женщиной, казалось, захлестнул и его. По крайней мере, он был бел, как полотно, этот маленький доктор.
Мягко дышала ночная тишина. Тихо сиял зеленый свет прикрытого абажуром ночника. Неподвижно лежала, пряча лицо в подушки, измученная Нина.
Медленно, убийственно пусто потянулись минуты.
Но вот сама собой поднялась рука доктора, пошарила в кармане, отыскивая спички, чиркнула о коробку, в то время как нелепо трепетали непокорные пальцы, и Илья Фёдорович жадно, глубоко затянулся дымом папиросы. Он задумался на минуту, больно сжимая виски, и вдруг резко заговорил:
– Это несчастье… конечно, большое несчастье, и ты совершенно права… Но оно все же не так уж непоправимо, чтобы так сходить с ума и желать себе смерти, Нина. За тобою, во всяком случае, нет никакой вины, и совесть твоя должна быть совершенно спокойна по отношению к Николаю, и думать тебе обо всем этом нет никакого смысла. Необходимо прежде всего убедить себя во что бы то ни стало в том, что «его», того негодяя, нет и никогда не существовало, как не существовало и самого факта. Понимаешь? Иначе можно взбеситься от бессильной злобы и ненависти к нему.
– А ребенок? Ребенок, который должен родиться? Или ты забыл о нем, Илья? – скорее, угадал, нежели услышал, доктор.
– Ребенок? Да. Но, может быть. Всякое случается, Ниночка. Иногда рождаются неживые дети. И тогда.
– О, если бы! – трепетно прозвучало в ответ.
Котулин настрожился.
«Она не может любить ребенка насильника, и в этом уже есть некоторая доля утешения для несчастного Николая», – промелькнуло в его мозгу, и он громко добавил:
– Николай приедет послезавтра. Но его надо подготовить к этому… ты же понимаешь… осторожно подготовить. Он сам, бедняга, сейчас болен и слаб.
– Да, Илья, я это прекрасно понимаю, – промолвила Нина, а затем, после короткого молчания, до его ушей донеслось тихо-тихо, как шепот ветерка: – Я знаю, что ему будет больно, несмотря на то, что я всеми силами души ненавижу того злодея. Но как ты думаешь, Илья? Если Николай переживет все это, если поймет, пожалеет меня… если его любовь, чего я боюсь больше всего на свете, не померкнет от нашего обоюдного горя, он… он пожелает признать этого несчастного ребенка своим на случай, если бы тому было дано судьбой появиться на свет Божий, или.
– Он был бы большим негодяем, этот твой желанный Николай, если бы ему заблагорассудилось поступить иначе, – горячо вырвалось из груди маленького доктора. – Я знаю Колю: он бешено горяч, вспыльчив, иногда деспот, иногда несносен, но в нем живет простая, сердечная и отзывчивая русская душа. И он любит тебя, трогательно любит, Нина.
– Вот потому-то, что любит и любил, найдет ли он в себе силы примириться с обстоятельствами?
Котулин порывисто вскочил с места и забегал по комнате, ероша свои жидкие волосы. Потом он так же внезапно подбежал к кровати, схватил плечи молодой женщины, почти силой оторвал ее от подушек и повернул к себе ее лицо.
– Слушай, Нина, – заговорил он глухо, приближая к ней свое по-прежнему бледное лицо со вздрагивающей козлиной бородкой. – Послушай, девочка, то, что я буду сейчас тебе говорить! – он задохнулся на мгновение от прилившей к его горлу горячей волны и, судорожно переводя дыхание, снова заговорил: – Послушай, если бы Николай не оправдал наших ожиданий и оказался толстокожим чурбаном… сделай милость, позови меня! И – клянусь тебе, чем хочешь, Нина, – я, Илья Котулин, не задумаюсь ни на мгновение, чтобы предложить имя твоему случайному ребенку, а тебе… тебе, может быть, постылый, но во всяком случае фиктивный, ничего от тебя не требующий и ни к чему не обязывающий брак.
Доктор замолк, задохнувшись от волнения, и смотрел на молодую женщину маленькими, сейчас до последней степени встревоженными глазами в ожидании ответа.
Нина покачала темной головкой.
– Спасибо, Илюша!.. Я знала твое великодушие, твое самоотречение, дорогой. И благодарна тебе… благодарна навеки за эту твою готовность принести жертву во имя моего спасения. Но, Илья, голубчик. Я люблю только моего Николая и… буду только его женою и ничьей больше… ничьей, ничьей. А если… если… Ну, тогда… тогда я сумею умереть, чтобы не быть ему в тягость. И ты поможешь мне в этом, Илья, если ты действительно друг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































