Текст книги "Кошмар"
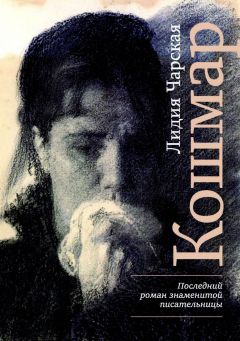
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
XXI
Стук в дверь разбудил Николая.
С отяжелевшей головой и сумбуром в мыслях он принудил себя сразу же подняться с постели.
Серенькое, дождливое, далеко не весеннее утро глядело в окно. Крыши домов были влажны, Волга затянулась серой пеленою тумана. Сквозь непрерывную сеть моросящего дождя белые, чистенькие еще накануне здания утеряли весь свой празднично-нарядный вид.
– Письмо от доктора Скрябова, – нетерпеливо постукивая в дверь номера Корсарова, басил кто-то за нею.
Письмо было действительно от доктора Павла Ивановича. Со свойственным его натуре добродушием доктор писал, как старому знакомому, Корсарову, выражая своему молодому коллеге сожаление о том, что не может поехать с ним нынче навестить интересного больного, но, во всяком случае, если молодой коллега еще не раздумал навестить пленного принца, он даст ему пропуск, как заменяющему его в нынешний день врачу.
Тут же в письме имелась и визитная карточка Скрябова, заштемпеленная его докторской печатью.
Николай щедро заплатил посыльному и, набросав несколько слов благодарности своему нечаянному благодетелю, отослал его с обратным письмом.
Спрятав в карман заряженный маузер и положив туда же вынутый из дорожного несессера портрет-миниатюру Нины, Корсаров не спеша вышел из гостиницы.
Извозчика он умышленно не брал, желая привести ходьбою в порядок отяжелевшую голову.
Влажный воздух, насыщенный дождем, в связи с утренней прохладой, прояснил его мысли. Корсаров шел не торопясь по незнакомым провинциальным улицам, стараясь отдавать себе отчет в том, что ожидало его в этот час.
Наконец, Корсаров приблизился к дому, где жил его лютейший враг.
Его губы дергались и пальцы дрожали, когда он передавал пропуск офицеру, дежурившему у заветных дверей.
– От доктора Скрябова? Сам доктор, вы говорите, сегодня не может быть? Вы за него? – и с предупредительным поклоном совсем еще молоденький поручик взял у Николая карточку Скрябова, бегло прочитал ее и, бросив короткое «пожалуйте», повел его куда-то по длинному, светлому коридору.
– Принц в спальне… Вы можете войти, – сказал он и с новым поклоном удалился.
Никогда еще в жизни не испытывал Корсаров такого жуткого, туманящего мозг волнения, как в эти мгновения.
Он не помнил, сколько минут стоял у двери, за которой слышались шуршание бумаги и чье-то легкое простуженное покашливание. Нервы натянулись как струны, зубы стучали, и все кружилось пред глазами, когда он порывистым движением распахнул дверь.
Первое, что он увидел, – это белокурую, тщательно причесанную на прямой пробор голову, склоненную над письменным столом. Эта ровная дорожка хорошо разобранного пробора как-то особенно назойливо лезла в глаза.
Не обращая внимания на шум открывшейся двери, принц не поднял головы и продолжал что-то писать.
– А, это вы, милейший эскулап? – проронил он, наконец, мягким, вкрадчивым и совсем молодым голосом на немецком языке, проворно нанизывая строку за строкой на лежавшем пред ним листе бумаги.
Кровь ударила в голову Николая, когда он, шагнув по направлению сидевшего за столом в домашней серой тужурке немца, резко произнес:
– Нет, это я!
Принц тотчас же поднял голову.
Сквозь заволакивавший зрение алый туман Николай сумел различить ненавистные правильные, словно из мрамора выточенные, черты – все женоподобное, безусое, молодое лицо; прозрачные холодные глаза глядели с недоумением на незнакомого человека.
Николай, опустив руку в карман, нащупал револьвер, однако не вынул его. Трепетные пальцы схватили портрет-миниатюру его жены, лежавший на дне кармана. Твердыми шагами, но с трясущейся от волнения челюстью, Корсаров подошел к столу и, не сводя взора, словно гипнотизируя невольно приподнявшегося ему навстречу и все еще недоумевающего принца, поставил пред ним портрет, коротко бросив по-немецки:
– Вам знакомо лицо этой женщины?
– Господи! Что такое? Кто вы такой? – произнес пленный и вдруг надменно вздернул брови. – По какому праву вы ворвались ко мне без доклада, милостивый государь?
– По праву оскорбленного человека, – веско отчеканил Николай. – Итак, желаете вы мне ответить, знакомо ли вам это лицо? – добавил он.
Немец опустил взор на портрет и теперь, наморщив лоб, смотрел, как будто силясь вспомнить что-то.
Прелестное, остро-притягивающее лицо молодой женщины и загадочный взгляд этих удлиненных глаз сфинкса вдруг ясно напомнили ему что-то недавнее и смутно-волнующее. Он силился собрать в одну нить все обрывки воспоминаний, темных и светлых, и услужливая память стала вырисовывать пред ним ясную картину из тьмы недавно пережитого.
Принц, как во сне, увидел лесную чащу и маленькую халупу, которую, благодаря заботам его адъютантов, удалось превратить в сколько-нибудь сносное помещение. Он вспомнил пушистые ковры по стенам и на полу, насквозь пропитанные его любимым духами, искристую белую пену шампанского в стопках – и это лицо, бледное и безмолвное, молящее своими загадочными египетскими глазами. Да, он помнит ее, ту милую женщину, беззащитную и вдвойне прелестную, в силу этой своей беззащитности, с воплем отвращения и ужаса вырывающуюся из его объятий. Так вон оно что!
Стараясь всячески сохранить спокойствие, принц отвел глаза от портрета и, подняв их взор на Николая, спросил:
– Однако что же вам нужно от меня и что за глупая таинственность с каким-то портретом? Говорите яснее! Я устал, болен и…
Он не договорил. В один миг Николай выхватил револьвер и направил его дуло в лицо немца.
– Что мне надо от вас, господин насильник, позорящий своим поступком имя мужчины и человека? – глухо бросал он, причем его мужественное лицо начало покрываться серовато-мертвенной бледностью. – Вот что мне надо, жалкий победитель в деле насилования женщин! Мне надо услышать от тебя чистосердечное признание, узнать от самого твою гнусную проделку с этой женщиной. Понимаешь? Все, как на исповеди, верно и правдиво, как пред Богом. И предупреждаю: одно слово лжи, одно движение за помощью, крик – и я всажу в твой гнусный лоб один за другим все заряды этого маузера. Слышите? Ну, а теперь я слушаю вас.
Бледное, неподвижное, как маска, лицо принца исказилось мгновенно при первых же словах незваного гостя животным страхом. Губы раскрылись беспомощно, силясь произнести слова и не находя силы сделать это, а в стеклянных русалочьих глазах отразился, как в зеркале, тот же чудовищный, нечеловеческий страх.
Дуло револьвера почти касалось его лица. Воображение дополняло ощущение прикосновения к нему холодного металла.
Немец затрепетал и, прежде нежели успел опомниться Николай, весь как-то съежился в комочек и с бабьим истерическим криком, со слезами, перемешанными с беспомощными стонами, тяжело рухнул к его ногам, обвил трясущимися руками его колени.
– О, только не убивайте меня! Не убивайте! Умоляю! Разве я знал? Разве я мог предвидеть это? О Бог мой! Я был так пьян тогда, ничего не сознавал. Она плакала, кричала, молила… Это правда, как пред Богом, но я ничего не сознавал, я был безумен. Я же еще молод, горяч, не умею владеть собой и так глупо неосмотрителен. О, не губите меня! Я так несчастен… я так раздавлен.
И принц вдруг завыл в голос – гадко, трусливо, с тонким расчетом быть услышанным в коридоре и в караульной комнате, а сам изо всей силы сжимал ноги Николая, стараясь свалить его на пол.
Мутью гадливого, почти физического отвращения захлестнуло душу Корсарова. Этот жалкий, трусливо корчившийся и воющий у его ног человек будил невыразимое словами чувство гадливости во всем его существе: было тошнотно, мерзко раздавить такого.
Легким, быстрым, сильным движением он оттолкнул немца, высвободил свои ноги и, сунув револьвер в карман, бросился к двери, сопровождаемый прежним истерическим всхлипыванием и трусливым воем.
«Скорее вон, вон отсюда!» – торопил сам себя Николай по дороге в гостиницу.
Там он собрал свои пожитки, расплатился с конторой и помчался к пристани в надежде застать какой-нибудь пароход.
О возвращении домой, в Сосенки, в таком состоянии нечего было и думать. Взвинченные до последней степени нервы требовали более продолжительного отдыха.
Корсаров решил телеграфировать Нине, что проедется по Волге и просит, чтобы она не волновалась о нем.
Как это ни странно, но в последнюю минуту он позабыл спросить, нет ли на почте каких-либо получений до востребования на его имя, и вспомнил о них лишь тогда, когда пароход уже отчалил от пристани.
XXII
Тихий, неустанно прилежный ход пароходной машины постепенно убаюкивал душу Николая, успокаивал смертельно усталые нервы и тело.
Со странным удивлением стал он оглядываться назад, на пережитые муки последних событий своей жизни, и впервые ужаснулся того ада, в котором кипел все это время. Он вспомнил все до мельчайших подробностей – и свои ревнивые муки, и порывы бессильного бешенства, и страдания любимой жены, ни в чем не повинной. Его остро-остро потянуло к ней, – захотелось схватить тотчас же на руки, заслонить ее собою от мира страданий, заласкать, зацеловать, залелеять.
Но он почему-то умышленно оттягивал этот момент, терзая себя в то же время им самим созданной отсрочкой, и только писал ей теперь ежедневно полные призыва к новому счастью письма, влюбленные, восторженные, похожие на юношеский бред.
Казалось, сама смерть врага, нарушителя их счастья, не дала бы Корсарову того нравственного удовлетворения, какое он переживал сейчас всеми фибрами души.
Он видел смертельный ужас в глазах своего случайного соперника, животный страх и гаденькую трусость блудливого – не зверя, нет, а звереныша, и это вливало в его сердце сладкую, баюкающую отраву как бы уже удовлетворившей его мести.
Теперь, когда он мог вполне уничтожить гадину и только из человеческой брезгливости, из презрения сильного к слабому, позорно-слабому трусу, пощадил его, он мог вздохнуть впервые спокойно. Нина отмщена. Никогда во всю свою жизнь не забудет этот презренный трусишка того смертельного ужаса, который глядел на него из дула его маузера, и минут отвратительного позора, унижения, когда он, этот потомок прусских властителей, валялся у него, простого русского дворянина, в ногах, вымаливая себе пощаду. Такие минуты незабвенны.
Под ровное плесканье большого пароходного колеса Николай снова и снова переживал эти кровью и нервами выписанные страницы жизни его и Нины. И впереди уже мелькала бодрая надежда на возрождающееся счастье.
А кругом него широко разбросилось царство величавой старухи Волги. С одного, гористого, берега и низкого равнинного, другого, на него глядела отовсюду русская серая старина.
Белые обители, с их чистенькими церквами, с их колокольным звоном и подчас чудом уцелевшей древней стеной, четко вырисовывались среди весенней свежести. Города и пристани мелькали красивой панорамой. Бежали встречные пароходы. Звенела песнь на берегу, на плотах, на палубе, на горе в селенье, – одна и та же песнь, хотя и различная по словам и мотиву. Корсаров скоро понял ее и впитал в себя вместе с волжским ароматом реки, вместе с криком окружающих пароход чаек. То была песнь, зовущая к любви и счастью.
XXIII
Только через две недели попал Корсаров к себе, в тихую усадьбу Сосенки.
Чем ближе подходил этот момент, тем большая тревога охватывала его душу. Он хорошо помнил, что с таким же чувством шел шесть лет тому назад, будучи на последнем курсе академии, – делать предложение Нине. И сейчас его сердце сжималось, как и тогда, до ужаса больно и сладко.
Поезд опоздал по неизвестной причине, и Николай только к вечеру добрался на извозчике до усадьбы. Анна Ильинишна ахнула и заметалась у калитки при виде его, словно из-под земли выросшего пред нею.
– Барин, голубчик, да как же вы так, без упреждения?
– Нина Сергеевна… здо-ро-ва? – протянул через силу и замер в ожидании ответа Корсаров.
Казалось, холодные щупальца смертельного страха проникли через ткань покровов и схватились за его сердце.
Старуха вдруг всплеснула руками и заплакала.
Николай похолодел.
– Нина? Что с Ниной? Где она? – вырвалось у него потрясающим криком, и, сам того не замечая, он схватился здоровой рукой за плечо женщины и тряхнул ее изо всей силы.
– Голубчик вы мой!.. Там барыня, у могилки! – с трудом выдавила из себя старуха.
Ледяной пот мгновенно выступил на всем теле Николая.
– Ка… ка-кой… мо-гил-ки? – заикаясь спросил он.
– Господи, неужели телеграммы не получили? Илья Фёдорович кряду же послал. Как разрешилась барыня от бремени мертвеньким мальчиком, так кряду вас и известили. Неужто же.
Но Корсаров уже не слушал дальше то, что говорила старуха.
– «Мертвенький мальчик», «мертвенький», «мертвенький», – повторяло что-то внутри него на сотни голосов, нудных, назойливых, нестерпимых.
Инстинкт точно указал ему – куда надо идти.
Нина еще в первую неделю их приезда в Сосенки, гуляя с ним как-то по саду, указала ему на место под густой, развесистой красавицей-сосной, сказав:
– Вот здесь, в случае чего, меня и похороните.
Почему-то Николай сразу вспомнил это сейчас и рванулся туда.
Белый, словно снегом, сплошь покрытый ландышами, холмик возвышался в углу сада под знакомой сосной. И тут же в глубоком садовом кресле, склонившись над книгой, сидела поникшая фигура женщины.
Корсаров увидел сейчас всю ее странно-хрупкую, будто надломленную, фигуру, лицо и тело своей прежней Нины, Нины-невесты, Нины-жены.
Что-то жгуче-радостное всколыхнула в нем эта поникшая у белой могилки белая женщина, вся – олицетворение сейчас невинности и чистоты.
– Нина! – негромко крикнул он.
Она повернула бледное, исхудавшее лицо, отражавшее сейчас в себе какое-то неземное переживание, подняла глаза, глубоко запавшие и еще говорившие о пережитом страдании, и вдруг улыбнулась робко и радостно, счастливо и грустно, воскликнув:
– Николенька! Милый мой, наконец-то! О, какое счастье снова видеть тебя!
Затем Нина приподнялась было навстречу мужу, но снова опустилась обессиленная, протягивая ему издали дрожащие руки.
Стихийная жалость к этим жалким, трепетным ручкам, к милому стаявшему лицу, ко всей Нине бросила Николая вмиг пред ней на колени, заставила зарыться лицом в складках ее белого пеньюара и судорожно зарыдать, содрогаясь всем телом.
– Нина моя! Жена моя обожаемая! Мученица святая, радость, счастье мое!
Она скорее угадала, нежели разобрала эти робкие, как бы вздрагивающие слова, и руки ее бессильно опустились на голову Николая, а нежные, тонкие пальцы стали перебирать густую, темную гриву его волос.
Эти хрупкие нежные пальцы, казалось, вбирали в себя последний тяжелый осадок мучительного кошмара, отравившего им жизнь.
Теперь последний след его затерялся и исчез под белым могильным холмиком и белыми цветами. Крошечный мертвый мальчик как будто унес их темное горе в свою белую могилку.
Темный кошмар рассеялся, и прежняя жизнь вступила в свои права.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































