Текст книги "Кошмар"
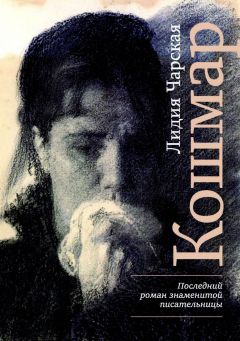
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
XIII
Снова Нина пережила воочию тот страшный момент, ту жгучую ночь, те потрясающие часы кошмара, насилия и ужаса.
По-прежнему прижавшись всем телом к телу мужа, трепеща каждым нервом, каждым фибром своего существа, она принудила себя выдавить из груди слова признания: ее побег из селения, встреча с немецкими разведчиками, плен, предательство чудовища в лице немецкого принца.
Ее слова, как камни, как гири, падали в мозг Николая. Ему казалось порою, что он задохнется. Холодный пот проступил на теле, жилы на лбу налились, рука, охватившая чуть пополневший стан жены, дрожала. Когда же она дошла до самого сильного, самого потрясающего момента, он тяжело сорвался с места и со стоном стал судорожно биться головой о стену.
Наступила мучительная пауза.
Наконец, Нина решилась произнести в заключение:
– Все… Теперь ты знаешь все, Николай! Я ничего не скрыла… О Боже мой, если бы я могла сейчас умереть!
Она стояла подле мужа – бледная, поникшая и жалкая – и силилась своими слабыми, трясущимися руками охватить его голову и прижать ее к своей груди. Сейчас ее голос был глух и странно спокоен. Так могут говорить обреченные на смерть.
Николай с трудом поднял голову, ставшую в один мог тяжелою, как пудовая гиря, и смотрел на жену. Ужас и отчаяние лились из его глаз, из этого взгляда.
Страстная, мучительная, тоскующая жалость к нему и к себе пронизывала Нину насквозь и тотчас же исчезала.
И снова глухой и далекий голос, ее голос, стал говорить Николаю:
– Слушай! Если то, что сделала со мной судьба, непоправимо, поцелуй меня еще один раз, как прежде, как сегодня, и выйди из комнаты на десять минут. Через десять минут вернись сюда снова – и все будет кончено. Я же сказала: не могу жить без твоей ласки и любви.
Спокойно и ясно звучал сейчас ее голос. Ей нечего было волноваться. То, что ждет ее впереди, – самое худшее, самое злое. Смерть во сто раз легче, тем более что облатка цианистого калия, которую она как-то шутки ради украла у Ильи, действует мгновенно, почти с молниеносной быстротой.
– Я умру, Николай, сейчас же, если ты этого хочешь! – прошептала Нина.
Наконец-то стали доходить прямо до сердца Николая ее слова. Он словно проснулся от тяжелого, трудно преодолимого сна в эту минуту.
– Милая… Любимая… Бедняжка! – с неудержимой мукой вырвалось у него.
Еще секунда – и он был у ног жены. Забилась его большая, характерная голова с густой гривой у ее маленьких дрожащих ног, и он тяжело рыдал, вернее – стонал, бесслезным рыданием мятущегося в беспросветном отчаянии человека.
– Ужасно! Этот негодяй получит должное. Мы еще с ним сведем счеты! Он жестоко поплатится за этот «подвиг»! – сорвалось несколькими минутами позднее с его белых как мел губ.
И Нина вздрогнула при виде его глаз, расширенных ненавистью.
– Я рассчитаюсь с ним! – с потрясающим спокойствием, худшим, нежели всякое волнение, громко добавил он после короткого мгновения и снова с дрожью жалости и любви обнял ее, а затем до боли крепко прижал к груди. – Милая, любимая! Бедняжка!
Нина тихо и сладко плакала у его сердца. Она уже простилась с жизнью, ей было все равно. Душа, затупленная беспросветным отчаянием, уже перешагнула, заглянула туда, за грани иного мира, и переход обратно к надежде жизни был как-то слишком ярок, потрясающе светел сейчас.
Теперь, когда его поцелуи пламенным, неистощимым дождем падали на ее мокрое от слез лицо и осушали эти слезы, она шептала снова в каком-то сладком оцепенении:
– Если хочешь, мы отделаемся от «него» – того, кто во мне. Я рожу его тайно. Мы отдадим его, навсегда отдадим. О Николай, мой чудный Николай! Требуй от меня, родимый! Светик мой, солнышко мое! Требуй всего, что хочешь!.. Ну, да, отдадим навсегда! И самый факт забудется, как и след его. Хочешь? Хочешь?
Она лепетала, как безумная, в лихорадочном экстазе надежды. Она ждала от мужа «да», как голодный – пищи, как жаждущий – воды в пустыне.
Николай взял ее маленькую темную головку своей большой сильной рукой и нежно откинул ее назад.
– Послушай… Я задыхаюсь от любви к тебе и муки. Не стану лгать: худшей казни за что-то далекое – может быть, происшедшее в ранней юности – не мог придумать для меня карающий рок. Ты же ни в чем не виновата, голубка. Твое и мое несчастье, несчастье твоего подневольного позора, если это можно так назвать, – только продукт несчастного случая и подлости гнусного негодяя-зверя, который рано или поздно будет казнен. Но, веришь ли, Нина, детка моя, сокровище мое оскорбленное, когда я подумаю о том, что тот негодяй обнимал тебя, хотя бы беззащитную и безответную, хотя бы сонную и даже мертвую, целовал и дарил грязными, насильственными, похотливыми ласками, мне хочется броситься на пол, царапать его ногтями, грызть его зубами и биться о него головой. А когда я подумаю еще о том, что «он», то есть тот маленький, будущий и беззащитный, будет тебе когда-нибудь дорог… это дитя насильника, дитя чудовища-негодяя.
– Никогда! – прервала его Нина.
Ее голос звучал твердо и твердо же смотрели длинные, загадочные, теперь досыта напоенные глаза.
Повинуясь непреодолимому порыву, Корсаров наклонился к ее губам и вдруг впился в них страстным и жадным поцелуем, а затем так же жадно куснул эти бледные, беспомощные губки.
– Прости, прости! – пролепетал он, услышав ее легкий крик, вызванный мгновенной болью. – Но, как только я вспоминаю, что этот негодяй также целовал тебя, мой мозг мутится и в сердце пробуждается чудовищный зверь.
– Это ничего… Это ничего… Мне уже не больно, – ответила Нина с жалобным смехом, который был мучительнее всяких слез.
– Милая, милая, родная. Дитятко мое замученное, бедное. Солнышко яркое мое! – воскликнул Корсаров и обнял ее снова, уже нежно, без злой, мучительной страсти, рожденной ненавистью к тому, другому: ее темные волны исчезали, разбивались в безграничной жалости и тоске.
Собрав изодранные клочки нервов, он через силу принудил себя успокоиться, сел на край постели – больной, подавленный, страдающий нестерпимо, заставил и Нину опуститься рядом с ним.
Как двое беспомощных, обиженных детей, одиноких со своей нечеловеческой мукой, посреди океана чуждого им большого мира, теперь они говорили шепотом, тесно прижимаясь друг к другу в полутьме спущенных гардин.
– Ему не надо родиться! – донесся до уха Николая пылкий возглас жены.
– Нет, нет! Это вздор. Он родится, и мы его скроем, спрячем. От себя и от людей, если хочешь, спрячем его.
– Да!
– Я увезу тебя в наше имение Сосенки. Там мы поселимся, туда же выпишем Илью, когда наступит это.
– И Катиш, и Катиш, если это только возможно. Я никого не хочу другого. Может быть, она и увезет с собой ребенка – и отдаст его на воспитание. Да?
– Да. Но… если ты не захочешь? Если ты полюбишь его? – глаза Корсарова снова впились в глаза Нины, как два колючих жала. – Если?
Она твердо выдержала этот инквизиторский взгляд и страстно ответила:
– Я не могу любить его, потому что ненавижу и проклинаю его отца. И, как это ни преступно, я жажду, чтобы он пришел в мир уже мертвым. Я мечтаю об этом как о счастье. Слышишь ты, Николай?
– Бедняжка!.. Мы уедем в Сосенки. Там хорошо, там все – тайна, и ни моя мать не узнает, и никто из твоих. Потом придет это… Катиш приедет и увезет его далеко. На Илью и Стадницкую мы можем надеяться, как на самих себя.
Корсаровы были сейчас, как двое заговорщиков, как двое каторжан, спаянных одной целью. Эта жгучая, кошмарная тайна как будто еще ближе сплотила их души и породнила их.
Затрещал звонок в кабинете. Простучали каблучки Паши, а затем прозвучал ее голос за дверью:
– Ее превосходительство изволят спрашивать, приедете ли к обеду. Они ждут-с.
Мимолетное колебание – и голос Корсарова ответил девушке из-за плотно запертой двери:
– Скажите, Паша, что извиняемся. Приедем завтра оба… вечерком.
И опять плотно-плотно прижались друг к другу два тела, и опять два сердца трепетно бились в унисон одним общим биением.
– Люблю, люблю тебя больше жизни! – воскликнула Нина.
– Я также, милая! Все будет забыто, все пройдет, как мерзкий, тяжелый сон.
– Николай мой!.. Николенька! Молюсь на тебя, мой ангел.
– Ненаглядная! Желанная, родная!
Но тихо-грустны были их ласки в эту зимнюю ночь. Притаилась печаль в их объятьях и была отравлена горечью обычная сладость поцелуев.
XIV
Старой адмиральше внезапный отъезд сына и невестки из Петрограда за два дня до рождественских праздников объяснили расшатавшимися, вследствие раны, нервами Николая.
Сосенки, небольшое имение молодых Корсаровых, находилось близ станции Луга и было оставлено Николаю его покойным отцом. Обыкновенно он с женою проводил там летние месяцы, зимою же они никогда не заглядывали туда. Поэтому был несказанно удивлен старик-конторщик с женою, когда внезапно обрушилась на них телеграмма, извещающая о часе приезда молодых господ.
А почти следом за нею явились и они сами.
– Здесь хорошо и тихо, – сказала Нина, с грустно-довольной улыбкой оглядывая знакомую и вместе с тем чуждую ей зимнюю обстановку усадьбы, затонувшую среди целого мира снегов и зелени сосновой хвои.
И правда – было хорошо. Деревья в своем зимнем уборе стояли как заколдованные в саду и во дворе небольшой лесной усадьбы с деревянным, на высоком фундаменте домиком, окруженным несколькими постройками.
Когда сани Корсаровых въезжали во двор Сосенок, был студеный рождественский вечер с ласковыми звездами и задумчиво-грустной луной в причудливо разорванных облаках, похожих на какую-то воздушную феерию. Всюду в доме затопили печи, и дрова в них весело потрескивали, своим светом и теплом сообщая комфорт и уют давно, с самого лета, необитаемому жилищу.
На столе в столовой был сервирован холодный ужин. Корсаровы, во избежание толков, решили не брать сюда городской прислуги. Жена конторщика Анфиса Кузьминишна жила когда-то в кухарках и умела хорошо готовить на три блюда, а дворничиху Татьяну подрядили для комнатных услуг.
Потянулась новая, тихая и немного унылая жизнь, вся пронизанная горечью прошедшего и скорбным ожиданием дальнейшего. Корсаровы словно условились не говорить о том, что давило теперь их обоих тяжелым гнетом. И оба призвали на помощь всю свою нежность, всю имевшуюся у них чуткость, чтобы не задеть как-нибудь их тяжелой, свежей еще, далеко не затянувшейся раны. И все-таки эта рана давала себя чувствовать каждый день. Всякое малейшее известие, приходящее извне, терзало и жгло их души, как тупой, раскаленный меч.
Малейший успех наших врагов на театре военных действий отдавался вдвойне мучительным эхом в сердцах Корсаровых, до жуткости реально подчеркивая то непоправимое, что случилось с ними. Тогда оба уходили каждый в свой угол, стараясь скрыть один от другого снова налетевший на них томительный, мутный шквал, обмануть друг друга кажущимся спокойствием. Когда же они сходились в общей спальне, ставшей для обоих с некоторых пор местом обоюдной мучительной пытки и медленной, ежедневно повторяющейся казни, оба они уже заранее были наэлектризованы тем, что происходило позднее, почти каждую ночь.
Никогда раньше не предполагала Нина Сергеевна о тех чудовищных размерах звериной и беспощадной ревности, на которую может быть способен любящий человек.
Обычно нежно заботившийся о Нине, как брат, с какой-то робкой покорностью и собачьей преданностью оберегавший ее, полневшую с каждым месяцем, Николай порою вполне неожиданно становился неузнаваем. Он готов был затерзать жену до смерти, сгорая в одинаковой степени от ревности, ненависти и любви. Его мягкие, грустно ласковые прежде глаза, недавно еще влажные и добрые, вдруг загорались ненормальным огнем тех чувств, что жгли его душу.
– Скажи, он целовал тебя так же, как я?.. Ведь правда? И тебе было и мерзко, и сладко? Признайся мне! Насильственные поцелуи куда острее, – шипел он, до боли сжимая Нину одной рукой и близко склоняясь обезображенным лицом к ее мертвенно-бледному личику.
– Я ненавижу его, Николай! О, будь он проклят за эти муки! – рыдала она в ответ, обезумев от своего горя.
– Но ведь он был все-таки прекрасен? Скажи! Все же прекрасен… не правда ли? Еще бы: «его светлость»!.. Маленький и изящный… настоящий принц. Такие маленькие и изящные слюнтяи всегда почему-то действуют на воображение таких статных и сильных женщин, как ты.
– Не мучь же, не мучь меня, ради Бога, Николенька! – стонала Нина. – Молю тебя!
– Молчи! Молчи! Ведь он же был красив!
– Нет… он не был красавцем. Он…
– Так зачем же ты описывала его таковым? Тонкий нос… гордые брови… тонкий профиль.
– О Господи! – стонала Нина, запрокидывая обессилевшую голову на подушку.
Тогда Корсаров мгновенно приходил в себя.
– Прости, Нина, родная, любимая! Прости, голубка! Ты видишь, я сам не рад. Подлец я, круглый подлец, Ниночка, и нет мне прощения. Ударь меня, ну, ударь меня поскорее, и мне будет легче, бедная, невинная моя голубка!
И он бился у ног жены, большой и сильный по виду, а в сущности – слабый и беспомощный в этом жутком, завертевшем его шквале.
Нине было жаль мужа – мучительно жаль, как матери бывает жаль своего больного ребенка. И после таких бурных эксцессов ревности с его стороны ее тонкие пальцы трепетно пробегали по его лицу, застывая на его губах, горячих и искусанных в минуты аффекта.
– Я люблю тебя, пойми же это, горькая моя! Я люблю тебя насмерть, Нина! Прикажи подохнуть, подохну сейчас, как пес, у твоих ноженек. Но что мне делать с собою, когда зверь ревности, дикой, непростительной, кошмарной, гложет, сжигает меня? Он выедает сердце, вытравляет в нем всю жалость. В такие минуты я сам не знаю, за что и почему, но, но.
Он бледнел под впечатлением захватившей его чудовищной мысли.
– Ты можешь… убить меня? Имей же гражданское мужество договорить это, Николай! – спокойно доканчивала Нина за него, и ее голос в этот момент становился совсем уж непроницаемым.
Корсаров ужасался ее словам и еще больше сознавал то, что она права. И, чтобы скрыть бушевавшее в нем море негодования и протеста против чудовища-зверя, поселившегося в нем, он осыпал Нину градом ласк, сначала тихих и нежных, но переходивших постепенно в какой-то исступленный хаос.
Никогда-никогда не ласкал он ее так прежде, никогда не были напоены таким жгучим ядом остроты его прежде целомудренные ласки!
И Нина, уже предчувствовавшая за этим взрывом, вызванным бессильной ненавистью и бешенством к другому, новые приступы неукротимой ревности со стороны мужа, вся сжималась, уходила в себя, как прячется улитка в свою раковину, и молила лишь об одном:
– О, если бы умереть! Умереть, исчезнуть вместе с этим злосчастным ребенком… в один и тот же час.
XV
Смутным и тяжким сном протянулась эта зима для молодых Корсаровых в их добровольном заточении.
Один день, как слепок, походил на другой. Рана Николая давно зарубцевалась, но, благодаря тому, что сухожилия и связки были порваны, рука осталась мертвенно-неподвижной на всю жизнь. Он знал это заранее и, по-видимому, примирился с печальной необходимостью и с предстоящей ему карьерой непрактикующего, кабинетного медика. Теперь он отдавал свое внимание и знание бактериологическим изысканиям, приучая себя работать и писать левой рукой. Смутно, где-то вдали намечалась профессорская кафедра, но пока другие, более сложные, вопросы волновали его.
Эти вопросы не давали Корсарову спокойно работать и принудить себя к усидчивым занятиям. Его мысль постоянно вращалась вокруг рокового события в связи с предстоявшими родами жены. Эти роды глодали его сердце, выклевывая, как зловещие птицы, куски его, сочащиеся кровью. При одной мысли об этом холодели конечности, и кровь, казалось, прекращала свою правильную циркуляцию в жилах. Наконец, было жутко, до вопля больно представить себе воочию то маленькое, беспомощное и уже мучительно-неповинное существо, которое своим появлением на свет Божий уже заявит свои права на нее, его жену, его возлюбленную, его Нину!
Его грызла жгучая, неугасающая ни на миг, чудовищная ненависть к ним обоим: и к тому зверю-насильнику, и к его ребенку, к его сыну, который должен родиться и отнять у него часть сердца и души его жены. В том, что это будет сын, Корсаров не сомневался больше. Девочка, как продукт насилия и жестокой подлости, здесь была как-то недопустима. По мнению Николая Корсарова, должен был родиться грубый и порочный ребенок как его производитель-насильник.
Терзаемый ненавистью и бессилием мучительной, бешеной ревности, он, как пламенный любовник думает о любовнице, думал теперь только о них двоих – о существующем и еще не рожденном. Он поклялся себе отомстить за жену рано или поздно, отомстить жестоко, смертельно. Как это будет, он еще не знал, не обдумал, но знал твердо одно: тот негодяй не должен жить и радоваться, когда он, Николай Корсаров, страдает ни с чем не сравнимой мукой за свою обесчещенную жену.
Так проходили тягучие, нудные сутки. Днем Корсаровы почти не виделись, сходясь только за обедом и завтраком: Нина – молчаливая, с отекшим лицом и грузной фигурой беременной женщины, Николай – угрюмый и сумрачный, как осенний день.
И только вечером они оба, по обоюдному согласию, выходили, одетые по-зимнему, на крыльцо и, молча взявшись за руки, шли по единственной, проложенной до Петрограда дороге, среди вечнозеленых сосен, навстречу алым зорям или наступающим предзакатным огням. Они шли и молчали, окидывая далекими от всего окружающего взорами пурпуровое вечернее небо, бросавшее кровавый отблеск на белые равнины снегов.
Иногда Николай прижимал к себе руку жены и спрашивал странным, глухим голосом:
– Любишь?
– Люблю! – отвечала она так же глухо и странно, с ужасом предчувствуя в сегодняшнем – близком уже будущем – обычную по стихийной ревности и бешенству с его стороны мучительную ночь и слезы до утра, и муки, и тяжелый, кошмарный сон потом в его объятьях, сон, сковывающий их измученные тела и души.
– Меня одного любишь? Насмерть? – повторял Николай.
– Тебя одного… конечно. Ты же знаешь!
– А «его»?
– Ребенка? Ты же знаешь: я его ненавижу, как и «того»… злодея.
– И отдашь его без сожаления? Да?
– Отдам, конечно… отдам Катиш. Она все знает, я уже писала ей. Она приедет сюда, примет ребенка, а затем увезет его с собою. Успокойся только ты!
– А ты не будешь горевать? Не будешь плакать? Ответь! Ведь материнство, в сущности, крайне сложная история, – болезненно кривил он губы.
Нина уже чувствовала приближение зверя, и ее маленькое, жалкое сердце сжималось в комок.
– Я люблю тебя… люблю одного тебя, мучительно и страстно, – спешила она успокоить мужа.
Но он уже весь настораживался, весь напрягался, как хищник, готовый к прыжку.
– Какой у тебя странный голос, когда ты говоришь это! – воскликнул он. – Можно подумать, что ты отвечаешь хорошо затверженный урок.
И его глаза загорелись подозрительными, нездоровыми огоньками.
– О, Николай, мой бедный, милый! – вырвалось у Нины со стоном сухого, бесслезного рыдания, исторгнутого тою же материнскою жалостью к нему, к этому большому, взрослому ребенку, бессильному бороться с собой. Затем, помолчав с минуту, она снова шептала: – Я так устала, так смертельно устала, Николай!
Он падал тут же на окровавленный кровавым закатом снег и обнимал ее ноги.
Она должна простить ему, должна. Мучая ее, он сам мученик, едва ли не вдесятеро несчастный. О, он так любит, так бешено любит ее!
Иногда – правда, очень редко – их одиночество нарушалось приездами матери Нины и ее сестры, медички Лиды. Тогда над сгущенной атмосферой заточения Корсаровых снова веяло свежими впечатлениями иного мира.
Лида – полная, коренастая блондинка в пенсне, помешанная на своем призвании медички – замечала то, чего не видела старушка-мать, совсем опустившаяся со смерти любимого мужа.
И, высоко и удивленно поднимая темные брови, она спросила старшую сестру:
– Когда ты успела, Ниночка? Ездила к нему на позиции? Да? Ну, конечно, рада? Дети – благословение Божие, так принято, кажется, говорить у вас, а у нас так попросту: дети способствуют оздоровлению женской природы. И то, и другое, согласись, вкупе прекрасно. Ты же так мечтала о ребенке… Ну, что ж, подавай тебе всего лучшего судьба!
А она, Нина, только густо покраснела всем своим теперь одутловатым и подурневшим лицом.
Наконец ее большой, круглый живот был замечен старухой Дарцевой.
– Нинушка! Милушка! Наконец-то! А я так мечтала, признаться, о внучке! – и она впервые сладко-радостно всплакнула после смерти своего мужа.
Приезжала как-то Мариэлла, смуглая, изящно-некрасивая со своими бедовыми, пылающими откровенной жаждой жизни глазами, с тонким ароматом одурманивающих, сильных духов, тянувшимся густою волною из складок ее утрированно-модной одежды. Она скромно потупляла глазки в присутствии Нины и внезапно обжигала взглядом Николая, едва лишь хозяйка скрывалась за дверь.
Эта юная и уже глубоко порочная девушка давно мечтала о нем, об этом «богатыре», мечтала не по-девичьи смело.
– Отчего вы не заглянете к нам? Maman тоскует и срывает свою тоску на мне, ни в чем неповинной. Я понимаю, что Нина Сергеевна для вас все и что вы уединились с нею, чтобы служить ей всецело в такое время, но все-таки можно было бы не пренебрегать и любящей матерью и… сестренкой.
Она говорила это Николаю скромным, детским голоском, но ее цыганские глаза договаривали то, что не решались произнести эти извилистые, слишком яркие губы. Она их явно прокрашивала кармином, и это не портило ее подвижной, как у обезьянки, и странно обаятельной мордочки.
Николая Мариэлла злила и в то же время как-то странно, неприятно раздражала, и ему иногда положительно хотелось ударить ее.
Во время одной из бесед с Корсаровым она после короткой паузы, воспользовавшись минутным отсутствием в комнате Нины, пряча под ресницами чересчур горящие глаза, сказала:
– Ах, и хитрый же вы, Николашенька! Так тонко сумели скрыть от maman свидание с Ниночкой и ее поездку к вам в армию.
– Какое свидание? – недоумевающе спросил он.
– Да как же!.. Ведь вы скоро ожидаете прибавления семейства, и если меня не обманывают глаза.
– Ваши глаза положительно видят слишком много лишнего, Мариэлла, что вовсе не следует видеть барышне из общества, – сухо сказал Корсаров, почти с ненавистью глядя на извивавшуюся перед ним фигурку.
Мариэлла внезапно разразилась невинно-бесстыдным смехом.
– Боже мой, как вы наивны!.. Положительно, вы словно упали с неба, милый Николай. Я – барышня из общества? Я? Да вы вглядитесь в меня получше! Это только maman ослеплена моей кажущейся добродетелью, я же лично положительно считаю нелепостью и необычайной глупостью это маринование барышни в банке добродетели. Жизнь коротка, милый Николенька, ах, как коротка, и надо быть круглой идиоткой, чтобы не суметь использовать ее вовремя.
– Но вы с ума сошли, Мариэлла! Вы же так молоды!
– Ни больше, ни меньше, нежели остальные! Мне восемнадцать лет, но я за пояс заткну, пожалуй, вас. Кому же, как не нам, молодым и весенним, испытать страсть на заре жизни и пить из кубка счастья теперь же, пока мы молоды? Не следует опаздывать жить. Это глупо и несообразно. А впрочем, что такое одни сухие советы и поучения, которые я, девочка, подаю вам сейчас? Если когда-нибудь вздумаете проверить их на примере – вы же знаете часы вечернего отдыха maman…
Николай сжал кулаки от бешенства, не имея возможность срезать эту «обезьяну», как он мысленно всегда называл воспитанницу своей матери, потому что на пороге в этот миг появилась Нина.
С преувеличенной нежностью Мариэлла обняла его жену и, заглядывая ей в глаза, невинно заметила:
– А мы, милая Нина Сергеевна, только что рассуждали о том, что никогда не следует пропускать моменты жить. Жизнь коротка до глупости, не правда ли? Следовательно, надо начинать ее задолго, о, много задолго до намеченной судьбой черты. Конечно, я говорю вам все это, как честным людям, в надежде на то, что вы не пожалуетесь maman на вашу бедненькую, глупенькую Мариэллу за то, что она хочет пить жадно-жадно из кубка жизни во время, пока она молода. О, если бы вы только знали оба, что за наслаждение казаться людям смиренным, невинным ангелом, девственницей, в то время как часто ночью справляешь знойный шабаш и умираешь от страсти в объятиях самого сатаны. Ведь мне не остается ничего другого, бедняжке! Maman, в силу своего деспотического эгоизма, решила окончательно законсервировать меня в девах.
И она залилась своим детским смехом, похожим на звон рассыпавшегося серебра.
Но Нина не слышала ни этого смеха, ни слов Мариэллы, таких не обыденных и дерзких в устах девушки. Она даже не видела сейчас своей гостьи. Все ее мысли сконцентрировались вокруг того, что случилось только что. Сейчас ее ребенок впервые властно заявил своим первым движением о своем существовании.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































