Текст книги "Дуэт"
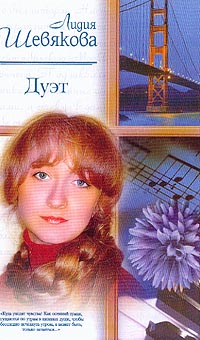
Автор книги: Лидия Шевякова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Так в лихорадке невысказанных надежд и упреков наступил последний вечер.
Вот Герман идет по Москве – в последний раз. Заходит к друзьям – в последний раз. А те не знают, смеются, хлопают по плечам, волокут гитару, просят спеть. Они не подозревают, что эта вечеринка последняя, удивляются его безотказности и поют всю ночь напролет.
Он позвонил ей в утро отъезда. Был конец ноября, ночью выпало много снега, и город сразу стал нарядным, новогодним, хотя до заветных четырех цифр 1987 оставалось еще больше месяца.
– Анны нет дома, она на репетиции, – важно ответила домработница.
Он почему-то был уверен, что застанет ее, бросит последние горькие слова. А теперь как же?
Анна не знала. О, если бы она знала, то забыла бы всю свою гордость. Зачем гордость мертвецам? Она бы побежала к нему в первый же день и осталась с ним до отъезда, махнув рукой и на театр, и на родителей. Она бы припала к этому чудному источнику и пила из него, сколько можно. Долгие годы она не могла себе простить, что потеряла четыре недели счастья, просто скомкала и выкинула его на помойку. Пусть он игрался ею, пусть. Что ей до этого? Она бы пила и пила эту любовь, и напилась бы вволю, хоть раз в жизни, а так только пригубила. Анна неистовствовала. Она учинила настоящий погром в своей комнате, заперлась там и три дня вообще не выходила. Может, только по ночам? Родители были в панике, личная жизнь дочери, ее внутренний мир впервые приоткрылись им. И оттуда пыхнуло таким жаром, что они отшатнулись и долго обмахивались, дули друг на друга и смазывались подсолнечным маслом. Как она плакала, их спокойная, благовоспитанная доченька, как кричала, каталась по полу, выла, как собака по покойнику… Ведь уже никогда. Никогда!.. Она сорвала голос и всю зиму сидела на бюллетене, не ходила даже на репетиции.
Через несколько месяцев, уже весной, в канун ее двадцать шестого дня рождения, раздался звонок в дверь, и сомнительного вида молодой человек, представившийся посыльным неведомой службы «Мост» (вернее, как значилось на бланке из-под плохого ксерокса, посылочного центра Сан-Франциско при «Русском Слове»), вручил ей завернутый в плотную бумагу букет ее любимых фиолетовых гиацинтов и записку без текста. Только обратный адрес: Джорджу Кингу. Бокс номер такой-то. Сан-Франциско. Калифорния. США. «Сволочь, убил и еще цветочки посылает на могилку. Предатель!» – вспыхнула Анна, но цветы все же поставила в хрустальную вазу, а записку с адресом спрятала в бумажник.
Поздно ночью, когда в доме уже все спали, она достала чистый лист бумаги и принялась сочинять письмо. Но слова не шли с пера. Все получалось убого и коряво. Однако желание написать что-то потрясающее настолько овладело ею, и запрос, посылаемый ею в пасмурную апрельскую ночь, был так силен, что какая-то романтическая секретарша в небесной канцелярии, видно, сжалилась над бедной мученицей и послала ей уже готовый опус, предназначенный, очевидно, для отсылки какому-то поэту по соседству. Извините, мэтр, слегка ошиблась адресом. Бывает.
«Я пишу уже третье письмо, – вывела рука Анны незнакомый текст. – Куда делись остальные? Их съели волки. Волки забвения…» Так без единой помарки Анна живо переписала посланный ей свыше белый стих и в изнеможении, словно радистка, отстучавшая на полевом передатчике весь пленарный доклад Горбачева на двадцать седьмом съезде партии, повалилась на подушку и впервые уснула сладким сном без сновидений. Так было осуществлено небесное пиратство, поэтический грабеж средь темной апрельской ночи.
Год прошел как в каменоломнях. Но налаженный быт и ласка родителей наконец убаюкали боль, и вулкан подернулся легким серым пеплом. А сердечная рана прибавила драматичности всей ее личности в целом, при постоянной грызне в труппе это очень пригодилось. После возвращения в театр ей сразу досталась партия Лизы в «Пиковой даме», так как Галина Писаренко захворала, а певица из второго состава ей на замену была в отпуске. Надо ли говорить, что Анна уже давным-давно разучила партию про ее любимого Германа. Наконец «Уж п-о-о-лночь бли-и-и-зится, а Ге-е-рманна все не-е-т» – фразу, которой ее собственного Германа дразнили в школе, Анна смогла пропеть со всей отчаянностью скопившейся в ней тоски. И ей снова полегчало. Нет, она не собиралась сдаваться. Она уже знала, что в глубине у нее бродят огромные силы, надо было только эту распирающую ее лаву направить в нужные желоба, чтобы один зеленоглазый паршивец кусал потом локти всю оставшуюся жизнь, терзаясь и коря себя, что бросил такую женщину.
Да здравствует Фриско!
Сан-Франциско был неописуемо, до боли красив. Наверное, когда Господь создавал эту землю, у него в ушах звучали торжественные и величественные фуги Баха. Вернее, Всевышний, созидая эту твердь, напевал себе под нос что-то в этом роде, а чуткий Себастьян сумел уловить отзвук его голоса через тысячелетия, как ловим мы свет давно погасших звезд.
Царственный, , мощный океан с широкими и плавными изгибами заливов, размашистые горные хребты, укрытые разнообразной зеленью, головокружительные утесы, врезающиеся глубоко в океан, и бескрайний небесный покров на сколько хватает глаз. И среди этого буйства мироздания – белокаменный город, маленькая жемчужина холодного и солнечного северо-запада вселенной.
Обычно мегаполисы – это жесткая урбанистическая структура, вещь в себе, из которой вытеснен образ природы как ненужный, чуждый городской жизни элемент. В Сан-Франциско природа в своей первозданной мощи легко преодолевает этот искусственный кордон и заявляет себя равноправной частью жизни горожан. Ее присутствие чувствуется повсюду, достаточно оторвать глаза от тротуара.
Словно парящий в воздухе, как миражи Чюрлениса, город, окруженный с трех сторон океаном, покорил Германа с первого взгляда. Парки с неохватными баобабами-великанами, словно перенесенными сюда со страниц детских книжек. Буйство цветущих круглый год кустарников и деревьев. Южные пальмы, мирно соседствующие с разлапистыми елками и стройными, отливающими золотом стволов северными соснами. Желтое марево гигантских мимоз и длинные лианы свисающей коры эвкалиптов. Доисторические папоротники и гигантские кактусы, возвращающие тебя в затерянный мир Конан Дойла, когда, затаив дыхание, ты ждешь, не промелькнет ли в сумерках этого первобытного леса голова динозавра или не вылетит ли вспугнутый гулом самолета птеродактиль.
Сколько бы Гера ни бродил по Сан-Франциско, или, как его ласкательно называли горожане, по Фриско, он не мог сдержать дрожи восхищения. Строгий сумрак зеркальных небоскребов и сельская нарядность маленьких пряничных викторианских старых кварталов, толчея и рыбный аромат густых супов на набережной Фиш Маркета. Дышащий вольницей тенистый Хайд – улица, где появились первые в мире хиппи, и высокий, стремительный полет моста «Голден Гейта», томительно грациозного в лучах заходящего солнца, – все приводило его в восторг и разжигало в нем страшную жажду жизни, счастья, успеха и процветания. Москва с родительской коммуналкой и тошнотворным запахом хлорки в туалете казалась далекой и нереальной. Единственное, чего ему остро не хватало, так это возможности похвастаться всем этим великолепием кому-нибудь из близких. Особенно одной противной девчонке с пепельными волосами. Близких же у него здесь не было, не было и ближних, были только дальние, совсем дальние американцы, занятые собственными делами, отгороженные от него своими привлекательными, но ничего не значащими белозубыми улыбками.
Но самое удивительное и немного обидное, что в этой сказке спокойно жили, будто само собой разумеется, не только белозубые, рослые и подтянутые, словно породистые лошади, америкосы, но и какие-то уродливые, кособокие китаезы; кряжистые, низкорослые мексы с любезно-боязливыми улыбками на смуглых, обветренных лицах и еще какие-то странные, рыхлые, толстые, белолицые увальни, жир которых уродливо свисал по бокам из-под ярких шорт и маек и неприятно колыхался при ходьбе. Неужели эти, словно надутые воздухом, уродливые толстяки тоже граждане рая? Казалось, что в таком необыкновенном месте имели право находиться только отборные, прекрасные, селекционные люди светлого будущего.
Три месяца прошли как во сне. Гера жил в небольшой, спаренной с кухней, съемной комнатушке, с унылым видом на холмы Твин-Пикса и хлопотал о документах и работе. Но как-то вяло хлопотал. Казалось, что в этом восхитительном месте все рано или поздно должно само собой прекрасно образоваться. Вырвавшись из лап социалистической родины, Герман по-прежнему оставался ее неотделимой частью и твердо веровал, что «все как-нибудь рассосется». Бесцельно бродя по городу, он наткнулся на русский квартал на Гири и долго с умилением обследовал его трогательный ассортимент: шоколадные конфеты в зеленых обертках, аляповато копирующих нашего мишку в сосновом бору, и прочую дребедень. Базарную сметану. «Да, – усмехнулся про себя Герман, – оторвались они, бедняги, от родной почвы, где давно уже были базарными только бабы, а сметана – рыночной». Он поболтал с принудительно-белокурой улыбчивой хохлушкой за прилавком, изумив ее своим сообщением, что он теперь тоже русский американец, купил местную русскую газету и кулебяку с мясом, поглазел на огромный православный собор на другой стороне улицы и потопал к центру, уплетая на ходу кулебяку. Казалось, еще вчера он влажной от волнения рукой протягивал свой серпасто-молоткастый паспорт офицеру полиции в аэропорту, с замиранием сердца выискивая в толпе встречающих своих неведомых заказчиков, а сегодня – он беспечно шагает к океану по залитой солнцем улице и лакомится русской кулебякой назло всем макдоналдсам.
Напрасно он волновался, весь двенадцатичасовой перелет елозил в своем кресле, словно в испанском сапоге, и ни на минуту не сомкнул глаз. Все вышло очень буднично. В вестибюле гостиницы к нему подошли два невзрачных человека, небрежно осведомились о прибытии груза, и, когда Герман отдал им книгу о русском балете, в которую были заложены три старые, очевидно, музейные миниатюры с портретами каких-то неведомых бояр или дворян, незнакомцы взамен передали ему пакет с гонораром и навсегда пропали из его поля зрения так же незаметно, как и появились. Две недели Герман кайфовал с хоровиками в «Мариотте», а потом просто отстал от них по пути в Лос-Анджелес, словно его никогда и не было. Герман приготовился к скандалу и розыскам, но их не последовало. Для труппы он был чужаком, поехавшим в нагрузку от Минкульта, и руководитель хора решил не портить гастролей из-за какого-то му… ой, извините, дурака. Особист до последнего дня тоже не сообщал о случившемся в Москву, возможно, оттягивая неминуемый момент трепки, а может, надеясь, что «все как-нибудь рассосется» и беглец объявится сам. Герман же, в свою очередь, решил не рисковать, отсидеться и до отбытия труппы восвояси не бить себя в грудь перед американскими властями, справедливо опасаясь, что иммиграционные службы вполне могут отдать его на растерзание своим. Он ведь не Нуриев и не Годунов.
Его дерзкая мечта осуществилась легко и просто. Отчаянно рискованный кульбит завершился ловким приземлением на батут. Невидимые крылья, непрестанно хлопавшие у него за спиной от нетерпеливого счастья, подталкивали его вперед, и он несся вприпрыжку по крутым улочкам Фриско, не разбирая дороги и не глядя под ноги, иначе наш певчий бы заметил, что под ним давно уже простирается зеркальная гладь бездны.
В русской газете он нашел юридическую контору Самуила, или по-американски Сэма Вайсмана, старого еврея-эмигранта во втором поколении, который взялся за полторы тысячи долларов похлопотать о Гериной грин-карте, попытавшись провести его по статье политэмигранта, убежавшего от преследований бесчеловечного коммунистического режима. На эту затею ушла добрая половина Гериной заначки, но он с легкостью расстался с ней, так как был испорчен большими деньгами на Родине и давно перестал чувствовать их настоящую цену. Мистер Вайсман говорил по-русски как калека, с забавными оборотами типа «вам надо взять пятый бас» вместо «сесть на пятый автобус», путал склонения и времена, но все-таки вполне сносно объяснил своему клиенту, как быстро сдать на автомобильные права, чтобы на руках уже были какие-то документы, где дешевле прикупить машину, как лучше вести себя с эмиграционными властями.
– Молодой человек, Америка – это страна больших возможностей, но и очень большого порядка и, самое главное, труда. Здесь надо много трудиться, – прогундосил Сэм на завиральные мечты Германа открыть свое шоу.
«Сам трудись, старый хрен», – легко подумал Герман и засвистел песенку про красоток кабаре. Самуилу Вайсману было слегка за пятьдесят, но он уже давно обрюзг, потерял часть волос, и черты его лица приобрели карикатурно-еврейский абрис. Он посмотрел на Германа поверх очков, зацепившихся на кончике крючковатого носа, неодобрительно вздохнул и сделал неопределенное движение, словно собирался послюнявить перо, хотя писал шариковой ручкой, и аккуратно, слегка прыгающим от начинающейся болезни Паркинсона почерком вывел самонадеянному клиенту адреса своих приятелей по продаже автомашин, телефон владельца небольшого ресторанчика «Звезды Москвы» на Гири, хозяин которого нуждался в дешевом подсобном рабочем, и, покопавшись в ворохе бумаг на своем столе, торжественно вручил ему флайерс с трехпроцентной скидкой на кратчайшие курсы английского.
С языком проблем не намечалось. У Германа был идеальный слух, и он запоминал, заглатывал целиком, не разжевывая по словам, целые фразы, порой даже не зная их полного смысла. Но учиться писать Герману было уже лень. Обзавестись машиной тоже оказалось довольно легко. Старый «форд» отдавали за 200 баксов. Но это он для Америки был старой колымагой, а для привыкшего к допотопной механической коробке скоростей, дребезжащей «копейке», Германа это была мечта, ласточка, на которой он отчаянно гонял вдоль побережья от Монтерея до форта Росс на одном дыхании, рискуя на особо крутых виражах спорхнуть в океан. Тогда страховка не была еще обязательно-принудительной услугой, люди не дрыгались, как мухи, в компьютерных сетях тотального контроля и учета, как завещал им великий Ленин, и Герман быстро освоился за рулем, а экзамены на права он сдал с первого раза, тем более что методичный господин Вайсман заблаговременно снабдил его распечаткой вопросов с правильными ответами.
Передав, таким образом, все дела по своему жизнеустройству в трясущиеся руки мистера Вайсмана, Гера со спокойной совестью отдался свободной жизни своей мечты.
Он любил сесть на паром, добраться до Саусалито – крошечного фешенебельного городка по другую сторону залива – и сидеть на его красивой ухоженной набережной за чашкой кофе до вечера, бездумно наблюдая, как зеркала небоскребов его обожаемого Фриско жадно ловят последние огненные лучи огромного солнца, быстро проваливающегося в океан, словно в пасть огромного кашалота. Ночь падала на город мгновенно, как подкошенная. Был апрель, темнело рано, и огромный купол ясного холодного неба, полного звезд, сыпал и сыпал их отблески на глянцевую океанскую зыбь.
Первое время, пока у Германа не было машины, он много ходил пешком. С энтузиазмом новообращенного он радостно участвовал во всех городских парадах, будь то по-католически пышный крестный ход с Делюмской Божьей матерью, на который традиционно собираются все выходцы из Италии, или полный фейерверков и мишуры китайский карнавал в честь Нового года с шестифутовым Гум Лунгом (Золотым Драконом) во главе. А от праздничного шествия голубой и розовой Америки он просто дар речи потерял. Видели бы этих размалеванных сексуалов в Москве, наши старперы в Кремле сразу бы повалились в обморок. Затылком о Мавзолей.
Иногда Герман так увлекался, что проходил город насквозь от пустынной океанской западной набережной до многолюдной, зажиточной восточной, которая выходила на широкий залив. В хорошую погоду залив кишел яхтами, и Гера подолгу засиживался на берегу, представляя себя в роли заправского богатого яхтсмена. Город был его до дрожи, до мурашек по коже, до самого донышка души. Родными были смелое веселое солнце и холодный яростный океан, волнистые, будто бегущие наперегонки, горы и нарядные домики старых кварталов. Он словно вернулся домой. Не было ни страха за будущее, ни стремления завоевать это будущее. Город был частью Геры, а Гера – частью города. Особенно нравилось ему, что океан холодный и суровый, именно такой и должен быть в жизни настоящего мужчины. Он часто забирался на скалы за городом и воображал себя красавцем Летучим голландцем, несущимся по этим холодным волнам на всех парусах к скалистым берегам Калифорнии. И кто знает, не здесь ли он встретит свою прекрасную Сенту? О той, что он оставил в Москве, Герман старался не вспоминать, слишком больно тогда щемило сердце.
Только много позже, во время путешествий по побережью, Гере пришло на ум, что Фриско очень молод и не сумел еще, как Москва или Питер, за несколько столетий своего существования подмять природу под себя. Городу, как и всей Америке, было всего каких-то 150-200 лет. По историческим меркам он еще подросток. Его жители не успели еще полностью освоить и переварить природу, поэтому она и дышит первородной мощью, неся в себе память необузданной дикости.
Как-то вечером он бродил по Гири и наткнулся на тот самый русский ресторанчик «Звезды Москвы», в который он так и не удосужился обратиться за работой. Герман присел за свободный столик и с любопытством огляделся. Народу было много. Кормили русскими щами и борщом с пампушками, кулебяками с гречневой кашей, расстегаями с семгой, молочным поросенком. Большинство гостей, кроме пары пожилых американок, зашедших сюда в поисках экзотики, знали друг друга по крайней мере в лицо. Закусывающие смеялись, говорили тосты на странной варварской смеси английского с нижегородским и зажигательно танцевали, чего обычно не бывает в американских ресторанах. Поляк, армянин и два еврея с надрывом пели страстные цыганские романсы, а потом в зал вышла крупная статная блондинка в длинном золотистом платье, которой долго аплодировали. Певица исполнила несколько американских и еврейских песен, публика ей что-то выкрикивала о медведях, и она, улыбнувшись, вдруг запела знакомую с детства «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз…».
«Боже, да ведь это Ведищева», – вдруг вспомнил Герман, он был знаком с ней и даже однажды участвовал в одном очень важном концерте в летнем театре, посвященном очередной годовщине комсомола. Он хотел обратить на себя ее внимание, но в это время подошел официант, заслонивший ему сцену. Герман замешкался, делая заказ, и когда отстранил назойливого халдея, то вместо Ведищевой увидел посреди зала чернявого красавчика в атласной черной рубахе и таких же узких атласных брюках, заправленных в сказочные, расписные русские сапожки с загнутыми носами. Осиная талия незнакомца была перехвачена пестрым шелковым высоким поясом.
«А мое место тут уже занято», – горько ухмыльнулся Гера. Его дружески поднятая для приветствия Ведищевой рука дрогнула в воздухе, чернявый красавчик вопросительно глянул в сторону Германа, и тому ничего не оставалось, как столь же дружески помахать теперь певцу, приглашая его к столу. Тот нежным несильным тенором затянул сентиментальную америкосскую балладу про каких-то разбойников с разбитыми сердцами, а потом запросто подошел к Герману.
– Флор, – бойко отрекомендовался бард.
– Это творческий псевдоним?
– Какой там!.. Папа постарался. Мне уж надоело. Знакомишься с какой-нибудь бабенкой. Она обязательно тебя переспросит: «Флор? А я Фауна», – жеманно передразнил менестрель, лихо опрокинул предложенную Герой рюмку и оглядел зал. Ему приветливо махали рукой из-за соседнего столика бальзаковские красотки американского образца.
– Эта дива, та, что пела до тебя, – Аида Ведищева? Я знал ее в Москве.
– Да. Она у нас настоящая прима. Вышла замуж за миллионера и живет в Эл-Эйе. По-моему, ее муженек не дает ей петь.
– Я могу с ней поговорить? – Герман привстал со стула.
– Что ты! Она уже умчалась. Аида вообще редко поет в ресторанах, просто наш хозяин ее давний приятель. Так ты тоже из Москвы? Давно здесь? Я тебя что-то раньше не видел.
– Всего неделю, – автоматически соврал Герман и только потом подумал: «Зачем?»
– Правда? Невозвращенец?
– Вроде того.
– А почему не на восток? Все русские эмигранты оседают в Нью-Йорке.
– Сам-то ты здесь, – парировал Герман. Флор усмехнулся:
– Неужели я так хорошо говорю по-русски, что могу сойти за недавнего эмигранта? Здорово! Я родился во Фриско. Это ваши комиссары загнали моих родителей в Калифорнию. Они у меня из общины святого Иоанна. Слыхал? Мои бабка с дедом бежали от коммунистов в Китай, а затем следом за батюшкой на Филиппины и только потом – сюда. Ты знаешь, что батюшка сделал? Так нажал на американское правительство, что оно дало гражданство всем пяти тысячам русских беженцев, осевших на островах. Представляешь? Вот настоящее чудо двадцатого века! Пробить американскую бюрократическую машину гораздо сложнее, чем передвинуть горы. Как же ты ничего о нашем батюшке не слышал? Он – последних времен чудотворец. Вон его мощи нетленные у нас в соборе лежат. В прошлом году только открылись. Бабушка про него такие удивительные вещи рассказывала. Например, она однажды заглянула в комнату к отцу Иоанну, а он спит, сидя в кресле. На коленях у него валяется телефонная трубка, и он во сне отвечает на все вопросы говорящего, хотя слышать его просто не может. Кто-то из чад звонил ему из Парижа, посоветоваться. Еще в юности он дал обет никогда не спать в постели и только немного дремал, сидя в кресле или стоя на коленях, а еще – каждый день служил литургию и ходил босым.
– Как Толстой? – перебил болтливого собеседника Герман.
– Толстой? – недоуменно переспросил Флор.
– Да, была у нас такая песенка:
Вели-и-икий русский писа-а-а-телъ Лее Николаич Толсто-о-й Не е-е-ел ни рыбы, ни мя-я-я-са Ходил по аллеям босо-о-й.
– Во-во. Говорят, когда батюшка служил в Париже, на него наклепали жалобу, что он епископ, а ходит босиком, как юродивый, и церковное начальство обязало его носить ботинки. Батюшка подчинился и стал носить ботинки в руках. Да что я говорю!.. Ты же из Страны Советов, наверное, и некрещеный.
– Наверное, – равнодушно отозвался Герман.
– А у меня отец – староста храма. Нас четверо, и все богомольцы, – похвастался Флор.
– А что ж ты, богомольник, в Великий пост песни распеваешь? – Про пост Герман узнал из газеты, купленной в русском продуктовом магазине.
– А я выпал из гнезда, – живо рассмеялся Флор, – надо же быть кому-нибудь ужасным, чтобы за него молились. Ты подожди, я к тебе попозже подойду еще. Расскажешь, как там на Родине. – Флор дружески кивнул новому знакомому и через минуту уже галантно склонялся к перстням престарелой американской чаровницы. Глаза его влажно блеснули, бархатный голос вибрировал.
«Игрунок за работой, – насмешливо подумал Гера, – я бы тоже мог окрутить какую-нибудь пухлую вдовушку или сумасшедшую эмансипе за грины. А что, в жизни надо все попробовать». Об Анне лучше вообще не вспоминать, прежней жизни конец, для него она умерла. Да, было. Было отчаянно хорошо, но теперь ее нет и никогда не будет. Он свободен от любых обязательств. Она сама его освободила. А могла бы быть с ним. Сердце предательски защемило, когда он подумал о том, что мог бы сейчас просыпаться с ней вместе, делить с ней жизнь в этом сказочном городе. По совету своего еврея он абонировал почтовый ящик, а в той же русской газете прочел про услуги пересылки чего угодно в Москву. Правда, работала эта контора в Нью-Йорке, но он позвонил туда по телефону, и все утряслось. Идея «посылочного центра» была проста и гениальна. Вносишь деньги здесь, а в Москве по нужному адресу доставляют продуктовый набор для родственников или цветы, или те же деньги, но в рублях по курсу черного рынка, и сразу присылают тебе по факсу подтверждение с подписью родных, что поручение выполнено. Герман послал Анне букет гиацинтов и записку со своим адресом. Он чувствовал себя гарцующим на белом коне и мог позволить себе снисходительность. Втайне надеялся, конечно, что это подношение будет ее мучить. Весточка пришлась прямо к ее дню рождения, аккурат десятого апреля. Через месяц в его боксе лежало письмо.
Я пишу уже третье письмо. Куда делись прежние? Их съели волки. Волки забвения.
Они рыскают в пространстве, пожирая наши нежные весточки, любовные послания, скорбные уведомления о разрыве и полные скрытых укоров надменные депеши гордецов. Письма – это остатки отжившего века. А волки – санитары. Санитары века. Они чистят пространство от всего отжившего. Если ты пишешь письма, то становишься частью отжившего, и волки забвения безбоязненно подходят к тебе близко-близко и рыкают, скаля зубы.
Это было вместо вступления. А дальше:
Бреду. Дорога вьется по уступам.
Узка тропинка. Солнце еще в зените,
но тени уже зашевелились, учуяв вечер в дуновенье ветра.
Мне хочется поторопиться. Прибавить шагу,
чтоб успеть до ночи к огню и крову.
Но узка тропинка и вьется круто.
И часто ее теряю я среди камней,
невольным страхом ослабляя душу.
Ах! Если б путник мне повстречался,
с которым восхожденье можно разделить. В молчании согласном
быстрей идет дорога, и камни отвалить с нее
гораздо легче четырем ладоням. И если даже темнота
своим дыханьем ледяным пересечет наш путь, совместный отдых
сулит нам безопасность и радость теплоты друг друга.
Мечты, мечты. Лишь одиночество дано мне провожатым.
Вдруг за поворотом я вижу спину путника. Нагнать ?
Но совпадет ли путь наш на вершину?
И груз ответственности за судьбу чужую ускорит ли шаги?
Рискнуть? Окликнуть? Мне на раздумья отведены секунды.
Шаг – и навсегда закроют его из виду глыбы валунов.
«И больше ничего? – недоумевал Герман. – Никаких приветов или объяснений? Письмо из ниоткуда в никуда. Да еще третье. А где два первых? Ах да, их съели волки. Что за бред? Стихами она сроду не увлекалась. И что это за подозрительный путник, которого она увидела за поворотом? Неужели уже в кого-то втюрилась? Ну и очень хорошо. И я, как только увижу за поворотом какую-нибудь девчонку, не дам ей скрыться за глыбами валунов».
Письмо, однако, он спрятал в бумажник и часто перечитывал. Он не скучал по Анне, вокруг было столько новых, совершенно непривычных женщин! Мулаток, негритянок, китаянок, мексиканок. Просто глаза разбегались. Но, оценивая неоспоримые достоинства каждой из них, Герман почему-то не испытывал привычного импульса желания. Его «парнишка», который никогда не подводил хозяина, никогда раньше не давал сбоя, его голодный и одинокий волчара сейчас притих и потерял сексуальную ориентацию. Впервые ему не хотелось заняться любовью просто так, от нечего делать.
«Почуяв стоящую добычу, ты ведь все равно воспрянешь? – беспокоился Герман. Он с ласковой заботой осматривал своего приунывшего товарища и лишний раз оглаживал его, чего никогда не делал раньше. – И почему другие стыдятся даже говорить о тебе? – недоумевал Герман. – Ведь ты не просто член. Ты член семьи. Ладно, держись, друг. В случае чего не ударь лицом в грязь».
И случай этот оказался совсем невдалеке, за ближайшим поворотом судьбы. Герман околачивался возле конторы своего адвоката, допивая пиво и поджидая, когда подойдет назначенное ему время. Он, присев на чугунную ограду палисадника возле входа в сверкающее полированными окнами офисное здание, флегматично отхлебывал из бутылки, когда двери распахнулись и из их стеклянных плоскостей, как из хрустального ларца, выпорхнула молодая рыжеволосая еврейка с тонким, слегка крючковатым носом и узким, словно извивающимся телом. Она походила на прекрасную змею, в которую только что заколдовали шамаханскую царицу, чей царственный образ еще явственно просвечивал сквозь чешую тонкого платья. Девушка легко шла, словно змеилась по воздуху, навстречу Герману, потом неожиданно натолкнулась на него взглядом, приоткрыла рот, да так и осталась стоять, словно пораженная громом. Он загипнотизировал змею. Чудеса. Вонзил в нее свой взгляд, словно хотел завладеть ею прямо сейчас, на улице, у дверей офиса, и медленно стал надвигаться, подступать, как хозяин к добыче. Девушка вспыхнула, в смятении отвела от него свои жгучие, черные, как южная мгла, глаза и мгновенно сдалась.
– Меня зовут Кинг, – мягко произнес Герман и с многозначительной паузой добавил: – Джордж Кинг.
– Сара, – пролепетала та в ответ.
– Хочешь пива? – спросил он и протянул ей бутылку.
– Спасибо, – смутилась девушка.
– Спасибо – да или спасибо – нет? – продолжал наступать Кинг, не давая жертве опомниться.
– Спасибо – может быть, – нашлась наконец Сара и рассмеялась. На него повеяло Гершвином, как прохладным океанским бризом. Завихрило «Порги и Бесс», закружило в причудливом пестром вихре его «Голубой рапсодии».
– Я иностранец и ужасно говорю по-английски, поэтому мне трудно продолжать атаку, но… – Герман артистично, как балерун, крутанулся, приметил невдалеке цветочную витрину и, не говоря больше ни слова, опрометью помчался, схватил первую попавшуюся розу, бросил ошалевшей продавщице деньги с криком «О! Мое сердце, помогите!» – и уже через секунду снова стоял перед ошеломленной Сарой с великанской розой в руках.
Роза была большая, мясистая, неприятно красного цвета сырой говядины. В ней было что-то агрессивное, она напоминала тропические растения-хищники, поедающие прилетевших на их сладостный аромат насекомых. Но Сара приняла цветок с благосклонностью.
– Вы спешите? – продолжил наступление Герман.
– Да, – замялась Сара, – но если хотите, давайте встретимся здесь же послезавтра в пять часов. – Она еще раз улыбнулась неожиданному поклоннику, легкой походкой заструилась к машине и кокетливо, одним движением, втянув обе стройные ножки в салон, махнула ему рукой и быстро влилась на своем скромном, но новеньком «форде» в автомобильный поток.
Послезавтра они, конечно, встретились. Причем оба пришли несколько раньше назначенного. У Германа была сногсшибательная программа: он пригласил ее на концерт Пола Маккартни в Окленд – тот давал турне по Америке, и Фриско был его точкой отсчета. В огромном, на пятнадцать тысяч зрителей, концертном зале, с билетами по сто баксов, что по американским меркам очень даже круто. Они долго кружили по городу, стараясь объехать пробки, и в конце концов выехали к концертному залу на площадь Трех вулканов. Рядом с широкой чашей концертной громадины возвышалась горловина баскетбольного стадиона, а чуть поодаль, из третьего, спортивного, кратера уже извергалась лава – там шел бейсбольный матч, и толпа болельщиков неистовствовала. «Мясо бушует», – саркастически отметил Герман. Любимейшая национальная игра америкосов так и осталась для Германа тайной. Кто куда должен бежать и, главное, зачем – Герман так и не смог уразуметь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































