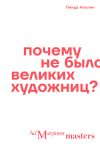Текст книги "Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве"

Автор книги: Линда Нохлин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
Модернизм Мейера Шапиро
Art in America. № 67, март – апрель 1979

4 Винсент Ван Гог. Башмаки. 1888. Холст, масло. 45,7 × 55,2 см
В относительно малоизвестном сборнике статей, вышедшем в 1968 году, Мейер Шапиро опубликовал статью, критикующую предложенную Мартином Хайдеггером интерпретацию картины Винсента Ван Гога с парой старых башмаков (рис. 4) [40]40
Schapiro M. The Still Life as a Personal Object – A Note on Heidegger and Van Gogh / ed. Marianne L Simmel // The Reach of Mind: Essays in Memory of Kurt Goldstein. New York: Springer Publishing Company, 1968.
[Закрыть]. Эта статья, «Натюрморт как личный предмет: заметка о Хайдеггере и Ван Гоге», к сожалению не вошедшая в книгу Шапиро «Современное искусство: XIX и XX век», пеняет философу не только за ошибочную идентификацию рассматриваемой обуви: это не пара башмаков крестьянки, как считал Хайдеггер, а скорее поношенные ботинки самого Ван Гога, – но и, что важнее, за неспособность разобраться в характерных особенностях рассматриваемого произведения. «В оторванном от реальности хайдеггеровском описании башмаков, изображенных Ван Гогом, я не нахожу ничего, – говорит Шапиро, – что нельзя было бы представить, глядя на пару настоящих крестьянских башмаков» [41]41
Ibid. P. 206.
[Закрыть]. Пытаясь наделить искусство возвышенной метафизической силой, Хайдеггер упустил из виду или даже предал как раз то, что придает важность самому искусству, а не тем объектам, которые оно представляет. «В своем описании картины, – продолжает Шапиро критиковать интерпретацию Хайдеггера, – он проигнорировал то личное и физиогномическое в башмаках, что делает их для Ван Гога сюжетом столь захватывающим (не говоря уже о тесной связи со специфическими тонами, формами и созданными кистью поверхностями картины как живописного произведения)» [42]42
Ibid. P. 206–207.
[Закрыть]. Однако, обращая внимание на своеобразный выбор точки зрения и особую живописную трактовку этого предмета – так называемые «формальные» элементы работы Ван Гога, – Шапиро, что парадоксально и вместе с тем характерно, приходит не к их эстетическому обоснованию, а скорее к тому самому «раскрытию истины» в картине, к которому стремился Хайдеггер в своем оригинальном, столь очевидно неудачном, замысле. «Изобразить свои поношенные башмаки в качестве главного сюжета картины означает для художника выразить озабоченность горестями своего общественного бытия. Башмаки не как нечто инструментальное ‹…›, а как „часть самого себя“ ‹…› являются исповедальной темой Ван Гога» [43]43
Ibid. P. 208.
[Закрыть]. Но, разумеется, Шапиро считает, что прийти к такому выводу мы можем, лишь внимательно изучая особенности стиля и структуру конкретных картин, а не выжимая из них своего рода надуманный «высший смысл» и потом отбрасывая их пустые оболочки.
Тридцатью годами ранее в куда более амбициозной и совершенно иного характера статье о природе абстрактного искусства, опубликованной в первом номере журнала Marxist Quarterly, Шапиро раскритиковал Альфреда Барра за недочеты, на первый взгляд, прямо противоположного сорта [44]44
Schapiro M. Nature of Abstract Art // Marxist Quarterly. January – March 1937. P. 77–98. Перепечатано в: Schapiro M. Modern Art: 19th and 20th Centuries: Selected Papers. New York: George Braziller, Inc., 1978. P. 185–211.
[Закрыть]. Если Хайдеггер, с точки зрения Шапиро, допустил ошибку, недооценив характерные формальные особенности произведения искусства, то Барра он упрекает в том, что тот, напротив, переоценивает их независимость и говорит об абстрактном искусстве как об «искусстве чистой формы без содержания», что он игнорирует «моральный, идеологический аспект работ Малевича и Кандинского» [45]45
Schapiro M. Modern Art. P. 187, 205.
[Закрыть]. Как и в критическом разборе текста Хайдеггера, стратегия Шапиро состоит здесь в том, чтобы сформулировать на первый взгляд парадоксальное заключение, согласно которому абстрактное искусство по сути не является «абстрактным» в смысле «чистого», «универсального» и «внеисторического», а скорее наоборот, прочно укоренено в конкретном (хотя и сложном) историческом, социальном и даже экономическом контексте.
Несмотря на очевидные различия в подходе и содержании, а также на промежуток времени, разделяющий эти статьи, обе они раскрывают основные убеждения Шапиро как историка искусства: его неприятие как уклона в метафизику, так и формалистического эмпиризма при рассмотрении современного искусства; его уверенность в том, что выбор формы всегда связан с более широкими системами ценностей, которые, в свою очередь, обусловлены исторически; его нежелание принимать грубый исторический детерминизм или теорию простого чередования, претендующие на объяснение происхождения современных стилей; и его понимание модернизма, начиная с импрессионизма, как утверждения личной свободы перед лицом растущего угнетения и деперсонализации индивидуальной жизни, порожденных капиталистическими институтами. Однако резюмировать сочинения Шапиро подобным образом было бы несправедливо, поскольку именно упрощения, связанные с системой, строгим методом и априорно редукционистским взглядом на искусство, и отвергает автор.
Дидактический в лучшем смысле этого слова – другими словами, чутко реагирующий на то, что́ в данный момент его аудитории больше всего нужно знать, – метод Шапиро, особенно в его «Природе абстрактного искусства» и работе о Густаве Курбе, очевидно, обусловлен марксистским подходом к истории культуры и близок, в частности, Франкфуртской школе [46]46
Schapiro M. Courbet and Popular Imagery: An Essay on Realism and Naivete // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 4. № 3–4. April 1941 – July 1942. P. 164–191, перепечатано в: Schapiro M. Modern Art. P. 47–85.
[Закрыть]. Но, сдается мне, по путям мысли нас ведут не столько тяжеловесные движения диалектики, сколько пьянящий порыв чистого интеллектуального возбуждения (хотя, конечно, одно не исключает другого). За рассуждениями Шапиро хочется следить, его наблюдения хочется тщательно обдумать, в конечном счете, именно потому, что мы действительно жаждем узнать, что случится дальше, выяснить, какие истины в итоге всплывут на поверхность.
Хотя диалектика материалистична – то есть имеет дело не с абстракциями, а с конкретными историческими и социальными ситуациями, с живо описанными объектами и специфическими предпосылками практики в самом мире искусства, – метод Шапиро уходит корнями и в ту традицию яростно-радостной аргументации, которая характерна для талмудической науки. В его глубоко моральных представлениях о роли и природе искусства есть также и слабый отголосок пророческих высказываний Уильяма Морриса об искусстве и человеческих ценностях, особенно рассуждений о ценности рукотворного предмета как последнего выражения личных чувств во всё более механизированном обществе (хотя для Морриса эту спасительную роль взяли на себя скорее ремесла, чем живопись).
В «Новейшей абстрактной живописи» (1957), где Шапиро выступает в защиту кажущейся «бесформенности» и «бессмысленности» передового искусства того времени, связь с Моррисом особенно заметна, хотя, возможно, совершенно непреднамеренна: «Картины и скульптуры, – заявляет Шапиро в этом эссе, – ‹…› это последние рукотворные личные предметы в нашей культуре. Почти всё остальное производится промышленным способом, массово и с использованием узкоспециализированного разделения труда. Мало кому посчастливилось сделать что-то такое, что представляло бы их самих, полностью созданное их руками и разумом, то, под чем они могут подписаться. ‹…› Поэтому произведение искусства, сильнее, чем когда-либо, дает возможность проявить непосредственность или сильные чувства» [47]47
Schapiro M. Recent Abstract Painting // M. Schapiro. Modern Art. P. 217–218. Впервые эта статья была опубликована в 1957 году под гораздо более показательным названием «Освобождающие качества авангардного искусства» (Art News. Summer 1957. P. 36–42).
[Закрыть]. Чего, однако, нет в мировоззрении Шапиро в середине XX века, так это того утопического социального оптимизма, который вдохновлял Морриса в XIX веке: представления о том, что, благодаря самим ремеслам или какой-то благотворной революции, в результате которой все люди станут собратьями-ремесленниками, может возникнуть светский рай, где все люди достигнут единства как внутри себя, так и в составе более широкого сообщества. Но для Шапиро, живущего в период разбитых политических надежд и преданной революции, такие воодушевляющие возможности казались недоступными. Максимум, чего можно ждать от искусства – и это совсем не мало, – это того, что оно позволит нам осознать возможность свободы и глубоких чувств; у нас как у социальных существ нет надежды испытать их в своей реальной жизни – к такому выводу мы приходим. «Картина, – заявляет Шапиро в 1957 году, – символизирует личность, которая реализует свободу и глубокую вовлеченность в работу. Она адресована другим, тем, кто будет дорожить ею, если она доставит им радость, кто осозна́ет ее незаменимость и будет внимателен к каждому проявлению воображения и чувства ее создателя» [48]48
Schapiro M. Modern Art. P. 218.
[Закрыть]. Слово «символизирует» и фраза «адресована другим» в этом отрывке представляются ключевыми. К середине XX века модернистская живопись стала в некотором смысле символом утраченных надежд, хотя, конечно, не только им, но и визуальным символом воображения, непосредственности и радости, которые недоступны большинству людей в их собственном опыте.
* * *
Мне кажется, что в текстах Шапиро о современном искусстве часто так или иначе присутствует, добавляя им серьезности и страстности, невысказанная глубокая печаль по поводу духа нашего времени, ощущение того, что великие человеческие устремления обесценены или извращены, – некий темный фон, на котором искусство сияет практически единственной путеводной звездой. В конце блестящего эссе об Арсенальной выставке, написанного в 1950 году, в те времена, когда вера в политический прогресс в Америке и его энергия ослабли, Шапиро ясно излагает свои представления о непреодолимом расколе между направленностью современного искусства, с одной стороны, и целями левых и вкусами широкой публики – с другой:
Возрождение политического радикализма во время депрессии 1930-х годов повлекло за собой критику современного искусства как слишком ограниченного и неспособного выражать более глубокие социальные ценности. Многие художники надеялись тогда установить связь между своим эстетическим модернизмом и своими новыми политическими симпатиями; но слабость радикального движения, окончательное разочарование в коммунизме и последствия войны, политики восстановления на рабочем месте и растущей роли государства в 1940-х годах уменьшили привлекательность этой критики. Сегодня те художники, которые были бы рады возможности создавать произведения общечеловеческого содержания для более широкого круга зрителей, сопоставимые по масштабу с произведениями Античности или Средних веков, не видят стабильных возможностей для такого искусства; у них нет другого варианта, кроме как культивировать в своем искусстве единственную или самую бесспорную сферу свободы – внутренний мир их фантазий, ощущений, переживаний, а также сам медиум [49]49
Schapiro M. The Introduction of Modern Art in America: The Armory Show [1952] // M. Schapiro. Modern Art. P. 176.
[Закрыть].
Казалось бы, мало надежды на то, что новаторское искусство будет выполнять некую более широкую социальную функцию, и уж точно нет надежды заставить его служить обществу или государству. Ложь и разрушение, на службу которым поставили искусство фашисты и сталинисты, а также некоторые формы его популистского обесценивания заставили Шапиро отвергнуть простые программы, позволяющие сделать искусство доступным для широких масс [50]50
См. критику Мейером Шапиро работ Давидо Альваро Сикейроса, исходящую как из художественных, так и из политических предпосылок: Schapiro M. On David Siqueiros – a Dilemma for Artists // Dissent. Spring 1963. P. 106, 197.
[Закрыть].
Действительно, Шапиро, пожалуй, проницательнее, чем любой другой критик, указывает на то, что сами ценности модернизма, отнюдь не неуязвимые или неприкосновенные, могут быть искажены и девальвированы массовой публикой, больше заинтересованной в том, чтобы «быть в курсе», чем в подлинных качествах абстракции. В статье о Пите Мондриане, первый вариант которой был подготовлен в 1971 году [51]51
Schapiro M. Mondrian: Order and Randomness in Abstract Painting [1978] // M. Schapiro. Modern Art. P. 233–261. Эта статья представляет собой расширенную версию доклада, прочитанного в октябре 1971 года в музее Гуггенхайма во время выставки, приуроченной к столетнему юбилею художника.
[Закрыть], Шапиро объясняет странный факт того, что во время эксперимента большинство неподготовленных зрителей предпочло сделанного на компьютере «Мондриана» настоящему, тем, что абстрактное искусство точно так же не застраховано от тривиализации, как и более традиционные формы:
Случайность как новый метод композиции, будь то простые геометрические элементы или небрежные мазки кисти, стала общепринятым символом современности, обозначением свободы и непрекращающейся бурной деятельности. Она обладает не меньшей притягательностью, чем технические и эстетические особенности фигуративного искусства, которые обнаруживаются в работах старых мастеров: мельчайшая детализация, гладкость отделки, виртуозная передача текстур наряду с привлекательным сюжетом даже в посредственных картинах могли удовлетворить тех, чей вкус был нечувствителен к отношениям более тонкого порядка. Художественно незрелый вкус к подражательному, стереотипному, часто мастеровитому типу живописи, называемому китчем, теперь распространяется и на широко разрекламированное абстрактное искусство [52]52
Schapiro M. Modern Art. P. 253–254.
[Закрыть].
Как ученый и критик Шапиро обращает внимание лишь на самые героические устремления, на высшие достижения современной традиции. Выбор персонажей, представленных в книге «Современное искусство», показателен: Курбе, Поль Сезанн, Ван Гог, Жорж Сёра, Пабло Пикассо, Аршил Горки, Мондриан, абстрактные экспрессионисты. Его безусловная заслуга – в том, что каждая из этих фигур и движений видится очень отчетливо, каждая работа и творчество в целом толкуются и исследуются в конкретном контексте борьбы и стилистических нововведений, каждый художник рассматривается сквозь призму социальных и психологических реалий, а не сводится к сверхчеловеческому звену в Великой Цепи стилистической эволюции. Отдельные картины всегда остаются для него локусами вдумчивого критического осмысления, а не превращаются в мистифицированные объекты поклонения или поводы для эмоционального самоутверждения.
Такой широчайший кругозор, такая серьезность убеждений, как и любые критические воззрения (и, кстати, любые художественные стили), конечно, имеют свои ограничения. Шапиро неизбежно и непреклонно «возвышен» и «прямолинеен» в своих воззрениях. Всё необычное, причудливое, второстепенное, незначительное, периферийное, маргинальное (и примечательное в своей маргинальности) не для него. Деструктивные или инфляционные тенденции, основанные на иррациональности, такие как дадаизм и сюрреализм, вся область антиискусства, поп-арта или так называемой «кэмповой чувствительности» едва ли входят в сферу его компетенции. Ярко выраженная эксклюзивность суждений и приоритетов служит, безусловно, одним из главных источников силы Шапиро и, по крайней мере отчасти, источником его огромной привлекательности: ему присуща потрясающая уверенность в существовании большой традиции современных достижений, коренящейся в самой глубокой моральной ценности западной цивилизации – личной свободе. Эта предельная серьезность, в большинстве случаев весьма подходящая для обсуждаемых тем, может вызывать некоторое недоумение, когда прилагается к менее достойным объектам, таким как библейские иллюстрации Марка Шагала (1960): в этом случае возникает ощущение, что блистательная лексика, огромная эрудиция и сложность иконографического и стилистического анализа заслуживают другого повода и гораздо интереснее, чем рассматриваемые работы с их довольно избитой и вторичной красивостью [53]53
Schapiro M. Chagall’s Illustrations for the Bible [1956] // Meyer Schapiro. Modern Art. P. 121–134.
[Закрыть].
* * *
Чувствуется, однако, что из всех художников, о которых он писал, наибольшее сродство, можно даже сказать, некую идентичность Шапиро испытывает по отношению к Сезанну. По его словам, «творчество Сезанна не только дарит нам радость прекрасной живописи; оно привлекает и как пример героизма в искусстве» [54]54
Schapiro M. Cezanne [1959] // Meyer Schapiro. Modern Art. P. 41. Статья впервые появилась как предисловие к каталогу выставки в галерее Вильденштейн в Нью-Йорке.
[Закрыть]. Многим из нас, тем, кто в начале 1950-х годов были молодыми искусствоведами, труды Шапиро служили такого же рода exemplum virtutis[55]55
Пример добродетели (лат.).
[Закрыть]. Помню, как летом 1953 года, будучи начинающей аспиранткой и испытывая в тот момент глубокую подавленность как из-за жары и уродства города, так и из-за удушающего климата политической реакции периода маккартизма, я впервые прочла его классическую статью «Курбе и популярные образы» (1941) [56]56
См. выше, прим. 7.
[Закрыть]. В тот момент меня больше всего тянуло к чистоте старого искусства, особенно к холодной, строгой архитектонике Фра Анджелико, столь далекого от тревожных современных дилемм и удушающей атмосферы городов. И вот я прочла статью Шапиро о Курбе и если не сразу, то довольно быстро поняла, что́ мне хотелось бы делать и в каком направлении двигаться. Он продемонстрировал, что можно разобраться в сложном искусстве со всем его стилистическим блеском и в то же самое время – да, непременно в то же самое время – в политически заряженной исторической ситуации, внутри которой этот стиль возник; словом, понять, что этот стиль и история неразрывно связаны принципиальными и глубинными узами. Вместе с тем он показал, что можно соединить в своей работе все те вещи, которые больше всего волнуют человека в его жизни, а не раскладывать их по отдельным ячейкам. «Курбе и популярная образность» в буквальном смысле определили направление моей научной деятельности на следующие 25 лет.
В коротком эссе о Сезанне, написанном в 1959 году в качестве предисловия к каталогу, Шапиро говорит об этом мастере: «Он не создал школы, но прямо или косвенно дал импульс почти всем новым движениям…Думаю, его способность вдохновлять художников разных направлений и темпераментов объясняется тем фактом, что он с одинаковой полнотой претворил в жизнь многие стороны своего искусства» [57]57
Schapiro M. Modern Art. P. 39.
[Закрыть]. Слегка перефразировав, то же самое можно было бы сказать и о самом Шапиро по отношению ко многим молодым искусствоведам, которые испытали его влияние и чувствовали себя освобожденными и вдохновленными его примером, независимо от того, насколько по-разному они ему следовали.
Примечание редактора английского текста: Эта статья представляет собой рецензию на книгу: Meyer Shapiro. Modern Art: 19th and 20th Centuries: Selected Papers. New York: George Braziller, Inc., 1978.
Глава 3
Курбе, Давид и посмертное существование Великой французской революции в образах искусства
Лекция, Центр гуманитарных исследований Уитни, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут, 6 октября 1989, публикуется впервые
Нигде больше Великая французская революция не находит более яркого воображаемого посмертного существования, как в визуальной продукции, личности и самовосприятии наиболее политически ангажированного художника XIX века Гюстава Курбе. На кого еще он мог равняться, как не на своего самого выдающегося предшественника по части художественной ангажированности – Жака-Луи Давида, художника Французской революции. Как и Давид, который был членом Якобинского клуба, депутатом, членом Комитета общественной безопасности и Комитета по образованию, а также возглавлял весь государственный аппарат культуры при Якобинской республике, Курбе принимал непосредственное участие в политической жизни времен более позднего и более короткого революционного подъема в Париже – Коммуны 1871 года. Он, как и Давид, был не только главой комиссии по искусству при Коммуне, занимая пост председателя Федерации художников, но и избранным от шестого округа членом самой Коммуны. Если коротко, для Курбе Коммуна была воплощением его мечты о правительстве без подавляющих, деспотических государственных институтов: прудоновской утопией социальной справедливости, которая стала реальностью [58]58
Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865) был французским политиком, публицистом и одним из самых влиятельных теоретиков анархизма. Он придерживался мутуалистского подхода к построению утопического общества, организованного вокруг рабочих кооперативов и коллективной собственности на землю и капитал.
[Закрыть].
«Я на седьмом небе от счастья, – написал он в письме родителям 30 апреля 1871 года. – Париж – настоящий рай! Никакой полиции, никаких безобразий, никаких поборов, никаких споров! В Париже всё идет как по маслу. Если бы только это могло длиться вечно. Одним словом, настоящий восторг» [59]59
Courthion P. Courbet, raconté par lui-même et par ses amis. Vol. II. Geneva: P. Cailler, 1948. P. 140; Doesschate Chu P., ten-. Correspondance de Gustave Courbet. Paris: Flammarion, 1996. P. 416.
[Закрыть]. Восторженный язык этого отрывка и утопические представления об обществе, свободном от закона, ассоциируются скорее с 1968-м, чем с 1789 годом. Но, может, в том-то и дело, что в отличие от 1848 года дискурс Коммуны скорее напоминает недавние события, чем эхо прошлого. Карл Маркс определенно считал Коммуну более созвучной эпохе: сравните его язвительный и саркастичный текст о 1848 годе, «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», с сочувственным текстом, посвященным Коммуне 1871 года, – «Гражданской войной во Франции» [60]60
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта [1852] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 8. М.: Политиздат, 1957. С. 115–217; Маркс К. Гражданская война во Франции [1871] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 17. М.: Политиздат, 1960. С. 317–370.
[Закрыть].
И Давид, и Курбе изобразили себя в обстоятельствах, последовавших за периодом их активизма и кульминацией революционного порыва: в тюрьме, после отлучения от революционной благодати. Но хотя оба оказались в одной и той же ситуации, изображают ее они совершенно по-разному. В «Автопортрете в тюрьме после термидора, II год» (1794, рис. 5) Давида нет и намека ни на его былую славу, ни на нынешнее унижение. Его образ – это икона отстраненности. Революция и его важная роль в ней фактически стерты. Он изобразил себя погруженным в свое ремесло, в образе художника за работой – образе, воплощением которого служат палитра в его руке и суровый взгляд, фиксирующий зарождение его новой сущности. Тюрьма как фактическое место этого «испытания своей идентичности» выполняет функцию отсутствия; ее нейтрализация – это аллегория политического отрицания [61]61
Lajer-Burcharth E. Les Oeuvres de David de prison: l’art engage après Thérmidor // La Revue du Louvre et des musées de France, 1989. Nos. 5–6. P. 3.
[Закрыть].

5 Жак-Луи Давид. Автопортрет в тюрьме после термидора, II год. 1794. Холст, масло. 81 × 64 см
6 Гюстав Курбе. Автопортрет в тюрьме Сент-Пелажи. Ок. 1872. Холст, масло. 92 × 72 см
В «Автопортрете в тюрьме Сент-Пелажи» (ок. 1872) Курбе, напротив, делает акцент на решетках своей камеры, давая возможность опознать тюрьму как место его постреволюционной идентичности. Правда, он тоже позиционирует себя как художник, на что указывает его берет, и, подобно Давиду, избегает демонстрировать активную вовлеченность в революционную деятельность; но Курбе предпочел изобразить себя художником, погруженным в размышления о потерянном и волнующем прошлом: его красный галстук (цвета флага Коммуны), его поза созерцателя, дерево в тюремном дворе по ту сторону решетки – намек на утраченную свободу, клочок природы, свидетельствующей о былом утопическом расцвете, – всё говорит об этой потере. (Справедливости ради надо сказать, что Давид тоже изобразил природу за окном своей тюрьмы в «Виде Люксембургского сада» (1794), но в качестве самостоятельной темы – как проявление «жадного интереса узника к внешнему миру», а не как неотъемлемую часть конструирования собственной постреволюционной идентичности художника [62]62
Lajer-Burcharth E. Necklines: The Art of Jacques-Louis David after the Terror. New Haven and London: Yale University Press, 1999. P. 19.
[Закрыть].)
В отличие от Давида, Курбе после падения Коммуны фиксировал свой тюремный опыт в так называемом «Альбоме Сент-Пелажи» (ок. 1872, рис. 6). Впрочем, в этом он следовал другому прецеденту, созданному во времена Французской революции его предшественником, Юбером Робером, чьи запоминающиеся и непосредственные образы повседневной жизни политического заключенного (как в тюремных рисунках 1790-х годов) находят отголосок в более мрачных образах Курбе, которые кажутся в чем-то близкими акватинтам Франсиско Гойи из серии «Бедствия войны» (1810–1820), показывающим ужасы войны и ее последствий.
Однако в рисунке 1871 года, изображающем полную предельного постреволюционного пафоса сцену казни (рис. 7), Курбе вслед за Давидом и Гойей обращается к аллегории. Возможно, этот рисунок основан на каком-то событии, которое Курбе наблюдал во дворе Сент-Пелажи, где действительно проводились казни. Но здесь показана казнь самой Коммуны, представленной Курбе в образе героической женщины-жертвы, чей фригийский колпак, пояс, рубашка-туника и героический последний жест неповиновения возводят этот образ к более универсальному смысловому уровню. Эти нехарактерные отклонения от реалистического канона возвращают нас к аллегорической иконографии Французской революции, переосмысленной Эженом Делакруа применительно к Революции 1830 года, где сходные атрибуты обозначали одновременно Свободу и Республику. Но что касается композиции в целом, мы должны обратиться к более поздним моделям: несомненно, к «Расстрелу повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» Гойи и, быть может не столь очевидным образом, к «Расстрелу императора Максимилиана» Эдуарда Мане, представляющему политическое фиаско марионеточной Второй мексиканской империи[63]63
Вторая Мексиканская империя (1863–1867) во главе с императором Максимилианом II Габсбургом была создана в результате французской интервенции.
[Закрыть], а также литографическим версиям этой картины, запрещенным правительством.

7 Гюстав Курбе. Казнь. 1871. Рисунок. 16 × 26 см
На кого мог бы оглянуться как на своего «предшественника», если воспользоваться термином Гарольда Блума, политически ангажированный художник середины XIX столетия? Кто мог бы стать для него образцом политической личности, как не Давид? Давид, как и сама первая революция, был в известном смысле неизбежен для Курбе, но в то же время полон двусмысленности. С одной стороны, он воплощал всё, о чем только мог мечтать коммунар Курбе, с точки зрения политических убеждений, политической активности и неприятия репрессивных институтов и иерархий [64]64
О сложном и продолжительном спарринге Курбе с правительством и художественным истеблишментом Второй империи см.: Crapo P. B. The Problematics of Artistic Patronage under the Second Empire: Gustave Courbet’s Involved Relations with the Regime of Napoleon III // Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1995. Vol. 58, no. 2. P. 240–261.
[Закрыть]. Но, с другой стороны, он был также врагом, если иметь в виду академическую деградацию, с которой к середине XIX века стали ассоциироваться неоклассицизм Давида, историческая живопись и греко-римская риторика. Хотя теперь «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), «Смерть Марата» (1793) и «Коронование Наполеона» (1806–1807) кажутся нам остро современными, богатыми конкретными деталями и полными визуальной непосредственности, можно понять, почему работы Давида с их классицистической идеализацией не могли быть не чем иным, как символом классового врага. В их основе лежали скорее высокий стиль и мертвый и мертвящий историзм, неприемлемые для Курбе, а не популярное искусство и современность как источники новизны и трансгрессии. Это негативное отношение к Давиду достаточно подробно изложено другом Курбе, Пьером-Жозефом Прудоном в его книге «Искусство, его основания и общественное назначение», написанной при участии Курбе но опубликованной только после смерти Прудона в 1865 году. Признавая мастерство Давида в изображении обнаженного мужского тела, Прудон решительно осуждает его обращение к канонам классической древности для передачи современного революционного порыва, а также выбор таких политических героев, как Наполеон, в более поздний период [65]65
Детальная критика классицизма Давида у Пьера-Жозефа Прудона очень близка взглядам Курбе: говоря о героическом «Леониде при Фермопилах» (1814) Давида, он заявляет, что эта картина «ложна по своей идее, во многих отношениях». «Во-первых, – продолжает он, – картина эта не имеет никакого значения для народа, который на нее смотрит, так как народ этот не только не знаком с греческим языком, не только не читал никогда Геродота и не слыхал о борьбе между персами и греками, но даже совершенно не способен понять, почему все лица, изображенные на картине, написаны нагими, только со шлемами на головах; почему художник сделал их такими красивыми и так отлично сложенными, что их можно принять за каких-то небожителей, лишенных только крыльев, почему, наконец, они все так друг на друга похожи?» (Прудон П. -Ж. Искусство, его основания и общественное назначение / под ред. Н. Курочкина. СПб.: Издание переводчиков, 1865. С. 131).
[Закрыть].
Тем не менее и сам Курбе в своем искусстве обращался к историческим прецедентам, хотя в основном для того, чтобы бросить им вызов. И некоторые из этих источников были непосредственно связаны с революцией, как в случае очевидных отсылок к «Свободе на баррикадах» (1830) Делакруа в наброске виньетки, нарисованной Курбе для недолго выходившей революционной газеты Le Salut public[66]66
«Общественное благо» (франц.).
[Закрыть] (1848), главный редактор которой Шарль Бодлер в короткий период своей революционной солидарности с народом велел граверу добавить в рисунок слева и справа фигуры, изображающие народные массы, и надпись «Глас Бога / Глас народа» на флаге; на оригинальном эскизе виньетки у Курбе был изображен одинокий герой в цилиндре на баррикаде. Но, разумеется, этой виньетке очень далеко до аллегорической красноречивости и классических референций картины Делакруа, послужившей ее прототипом.
Думаю, не будет большой натяжкой сказать, что молодой Курбе после 1848 года соперничает со своим прославленным революционным предшественником Давидом в том, что касается масштаба и серьезности замыслов; при этом он, что важнее всего, вступает в прямую полемику с системой своего предшественника. Так, в «Дробильщиках камней» (1849) Курбе замещает протореволюционный аскетизм «Клятвы Горациев» (1784) Давида более бескомпромиссной аскезой – сознательным обеднением действия, изобразительной структуры и нарратива, которое в то же время предполагает значительное усиление материальности живописи, совершенно чуждое давидовскому прототипу. Переосмысливая социально-политические ценности революции, Курбе решительно ставит под сомнение модель Давида. Абсолютный контраст между моральной силой и эмоциональной слабостью, обозначенный гендерным различием – ключевое для замысла Давида торжество имени отца, воплощенное в героической решимости сыновей, – в картине Курбе сведено к относительному контрасту юности и старости. Двое мужчин-каменотесов демонстрируют разные стадии страдания пролетариата: бедность и несправедливость низводят как отцов, так и сыновей до уровня механической обезличенности. Степенный и размеренный ритм тосканского дорического портика низведен в работе Курбе до груды тяжелых камней; неприглаженная и подчеркнуто материальная природа занимает место стройной античной культуры. Мужское тело, которое со времен античности служило мерилом искусства, теперь разъединено, лишено исторически-эстетической согласованности частей из-за маскирующего эффекта рваной современной одежды, успешно скрывающей анатомические связи между талией и бедрами, плечами и руками и тем самым придающей им кукольную оцепенелость. Мечи, символическое визуальное средоточие приносимой клятвы в картине Давида, превращаются в рассеянные центробежные элементы – в лемеха, безобидные кирки и толкушки. Там, где у Давида были плачущие женщины, олицетворяющие материнские и сестринские чувства, Курбе помещает более прозаичный символ заботы – кастрюлю с обедом. Короче говоря, «Дробильщики камней» полностью подрывают дискурс фаллической мощи, вписанный в «Клятву Горациев» посредством образа власти, передаваемой от отца сыновьям.


8 Гюстав Курбе. Раненый. 1844–1854. Холст, масло. 81,5 × 97,5 см
9 Жак-Луи Давид. Смерть Марата. 1793. Холст, масло. 165 × 128 см
Маркс начинает «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» с заявления: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса» [67]67
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. С. 119.
[Закрыть]. Эти слова могут прийти нам на ум, если сопоставить «Раненого» (1844 и 1854, рис. 8) Курбе со «Смертью Марата» (1793, рис. 9) Давида. Как и Давид, Курбе в данном случае исключил из своей картины крайне важную женскую фигуру. Поначалу картина изображала Курбе и его возлюбленную во время полуденного отдыха на природе – образ, наводящий на скандальную мысль о том, что перед нами пара, только что предававшаяся любовным утехам. Подобно Давиду, который не включил в свою картину убийцу Шарлотту Корде, но указал на ее смертоносное присутствие видимой раной, вписанной в плоть героя-мученика – показана кастрация, но не кастратор, – Курбе тоже намекает на отсутствующую женщину и ее способность причинять боль. Ее очертания всё еще различимы под нынешним красочным слоем, хотя художник закрасил ее фигуру после их расставания. Однако в буквальном смысле истекающее кровью сердце художника свидетельствует не о публичном и политическом, а о личном предательстве. Это образ уязвленного Я – печальный романтический герой, а не революционер-мученик.
И Давид, и Курбе обращаются к иконографии Святого Себастьяна и Христа в могиле, но с совершенно разными намерениями. «Раненый» Курбе с его редукцией раны к указанию на личную, эгоцентрическую боль, с его явно сельским, а не универсальным антуражем, с его тревожным стиранием границ между зрителем и сюжетом (границ, которые старается установить и сохранять «Смерть Марата», несмотря на весь свой пафос) бросает вызов революционной иконе Давида и в то же время рискует обернуться повторением трагедии в виде фарса. По отношению к образу его предшественника образ Курбе может восприниматься как своего рода пародийный демонтаж классического аппарата и дистанцирующих эффектов Давида, а также неоклассической традиции, которая признавалась уместной для изображения героя.