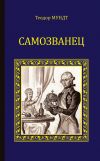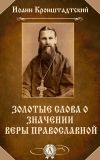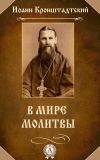Текст книги "Сыновья"
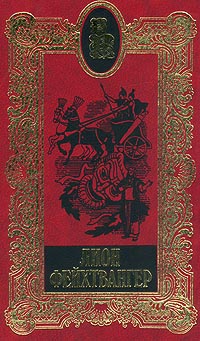
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Вопрос Флавия Сильвы об отношении Иосифа к верховному богослову имел свои основания. Гамалиилу, сообщил он, будет скоро предоставлен случай доказать свою прославленную практичность. Он, губернатор, вынужден будет поставить верховного богослова перед трудной проблемой. Надежда на то, что иудеи после закона об обрезании наконец дадут ему покой и прекратят свой несчастный прозелитизм, к сожалению, не осуществилась. Напротив, за последнее время они пытаются еще усерднее, чем раньше, совращать в свою веру сирийцев, греков и римлян; странствующие проповедники усердствуют и вызывают всеобщее возмущение. До сих пор еще не представилось юридического повода прибрать к рукам этих господ, ибо они, конечно, остерегаются предлагать своим слушателям обрезание, а еврейская религия как таковая разрешена. Но теперь ему сообщили, что нищенствующие пророки отнюдь не правоверные евреи, они принадлежат к какой-то новой сомнительной секте, последователей которой называют минеями, или христианами. Правда, они сами это яростно оспаривают и утверждают, что еврей останется евреем, фарисей он или миней, совершенно так же, как мальтийский шпиц может быть с равным правом назван собакой, как и молосский дог. Еврейские законники до сих пор занимались по этому вопросу только скучной богословской болтовней, не говоря ничего конкретного, ни «да» ни «нет». Но с него, Флавия Сильвы, хватит. И поэтому он теперь официально предложил верховному богослову и коллегии в Ямнии высказаться ясно и точно относительно того, считать ли минеев евреями или нет.
Иосиф был поражен. До сих пор Ямния была к минеям чрезвычайно терпима, хотя большинство богословов относилось к ним, по существу, весьма отрицательно. Но если Рим предложит коллегии отречься от христиан, то устоят ли богословы под этим двойным давлением и не отмежуются ли от своих опасных, враждебных государству попутчиков? Они наверняка сделают это.
Особенно потрясло Иосифа то, что слова Ханны так скоро сбылись.
Он торопливо и мучительно обдумывал, есть ли какой-нибудь путь, чтобы отклонить опасность, угрожавшую минеям. И увидел, пока губернатор еще говорил, что путь только один. У минеев было мало друзей среди членов коллегии, но их голоса все же имели вес. Они потому не могли взять верх, что за ними не было никакого признанного государством авторитета. Что, если им создать этот авторитет? Пусть признанный Римом университет в Лидде выскажется за минеев, тогда в Ямнии едва ли осмелятся подчеркнуть своим заключением о минеях, что раскол среди евреев коснулся даже идеологических руководителей.
Если можно сохранить иудейство, только сделав его национальным и отказавшись от его космополитической миссии, то следует ли вообще его сохранять? Этот вопрос, казавшийся в Лидде еще смутной, далекой теоретической проблемой, вдруг приобрел угрожающую актуальность. Высказаться за минеев – значило вызвать рассерженный Рим на репрессии. Если же отречься от минеев, то еврейский народ еще строже и еще надменнее обособится от остального мира. Вопрос о том, будет ли Иосиф ходатайствовать теперь за университет в Лидде или нет, приобрел огромное значение. Губернатор считается с ним, ситуация сейчас благоприятная, его аргументы должны звучать для такого человека, как Флавий Сильва, убедительно.
Вся та смутная жажда религии, которая жила в Иосифе, побуждала его вступиться за минеев, за бон Измаила, за Ахера. Но в нем звучал и ясный голос Гамалиила: «Что не согласно с разумом, то безобразно». Цель, парившая перед умственным взором бен Измаила и Ахера, была неразумна. Если она и достижима через тысячу лет, сейчас она является утопией, и гнаться за нею значило бы ставить под угрозу существование всего еврейства. Тот, кто признает, что мессия уже пришел, кто отказывается от надежды на восстановление храма, предает всю еврейскую традицию. Если Иосиф будет ходатайствовать за университет в Лидде, то он принимает разрушение Иерусалима и храма как нечто данное раз и навсегда и сам выключает себя из царства грядущего мессии.
Иосиф промолчал. Он не заговорил об университете в Лидде. Он не знал, что сам Гамалиил, через посредников, побудил губернатора поднять перед Ямнией вопрос о минеях.
Иосифа снова влекло на юг. Сначала он отправился в свое имение. Ему хотелось до встречи со своими друзьями в Лидде и Ямнии спокойно обдумать, что ответить им на вопрос: «Почему ты нас покинул?»
Едва он прожил в имении два дня, как прибыл нежданный гость: Юст из Тивериады.
Иосиф не видел его шесть лет. Но не было на свете человека, с которым он был бы так связан и к которому относился бы так враждебно. Он вел с ним вечный спор, объяснение, начавшееся шестнадцать лет тому назад в Риме, когда они встретились впервые, объяснение, которое не было кончено и которое составляло смысл его жизни. И всегда в этом объяснении Юст был нападающим, он преследовал Иосифа насмешкой и злобой, пронизывал ненавидящим взглядом, и Иосиф, со своей стороны, тоже ненавидел этого человека, так хорошо знавшего его слабости и так безжалостно их вскрывавшего; но жил он только для того, чтобы показать этому человеку, кто он, Иосиф; и если он дважды спас Юсту жизнь, сняв его даже один раз с креста, то это не было удовлетворительным ответом, на этом их объяснение не закончилось. Однако и Юст отнюдь не стал уступчивее, наоборот, когда все прославляли книгу об Иудейской войне, он назвал ее двусмысленной, лживой, поверхностной и принялся писать другую, чтобы ее вытеснить. Все эти годы Иосиф ждал продолжения их диалога. Но сейчас, когда этот человек внезапно перед ним предстал, он испугался, как маленький мальчик, которого неожиданно вызвал учитель и который не знает, что отвечать.
Многословно, желая скрыть свою тревогу, приветствовал он гостя, а тем временем сам всматривался, сначала украдкой, затем все смелее, в это желтое лицо. Юсту было, как и ему самому, сорок три года, и когда они шестнадцать лет тому назад впервые встретились в Риме, то были поразительно похожи друг на друга. Теперь это сходство исчезло. Лицо Юста стало жестче, суше, морщинистее, его желтизна переходила в сероватость. Он был без бороды, тщательно выбритый, голова его сидела на ужасающе тощей шее. Юст выглядел старым, истрепанным; он держался очень прямо, но было видно, какого труда ему это стоит. Тогда, после снятия с креста, пришлось ампутировать его левую руку выше локтя, и Иосиф невольно искал глазами культю.
Во время трапезы Юст был молчалив и почти не притрагивался к тем вкусным кушаньям, которые Иосиф велел подать. Он был в курсе решительно всего, что Иосиф за весь этот промежуток времени делал и переживал. Юст язвительно заметил, что Иосиф остался последовательным в своей непоследовательности и решительно пошел дальше своим извилистым путем. Очевидно, не без успеха. Окончившаяся победой борьба за его сына Павла необычайно напоминает его победоносную борьбу за трех старцев, спасенных им некогда с помощью императрицы Поппеи. Похожи и последствия. Тот же характер, очевидно, порождает те же ситуации и ту же судьбу. И Юст захихикал, – неприятная привычка, приобретенная этим раньше столь выдержанным господином лишь за последние годы.
Презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи, и Иосифу раньше нередко казалось, что с презрением Юста он не сможет больше жить. Но теперь он спокойно выслушивал колкие речи этого желчного человека. Он видел, как трудно Юсту, несмотря на все его усилия и ловкость, обходиться за столом без левой руки; его поспешные движения производили неприятное впечатление, а сам он казался странным и жалким. В Иосифе проснулось даже какое-то теплое чувство к этому суровому, строгому и побежденному человеку, и он уже почти не ощущал оскорбительности его слов.
В данную минуту он скорее испытывал любопытство, – чего хочет от него этот человек? Наверно, Юст приехал в Иудею затем, чтобы набраться сил для своей книги. И то, что они оба в одно и то же время и по той же причине приехали на родину, казалось Иосифу важным подтверждением его собственной правоты. Ибо он считал Юста величайшим писателем эпохи, и поведение Юста служило для Иосифа масштабом для его собственной жизни.
Однако Юст за трапезой так и не обмолвился ни словом о причинах своего посещения, не заговорил о них и позднее, и оба разошлись спать. Иосиф спал плохо. Всю ночь он мысленно спорил с Юстом и находил меткие ответы на слова, которых тот, к сожалению, ему не сказал. Оскорбления, не ощущавшиеся им, пока Юст присутствовал здесь физически, терзали его теперь тем сильнее. «К семидесяти семи обращено ухо мира, и я один из них». Но ухо Юста не обращено к нему, Иосифу.
На следующий день он был уже не в силах сдерживаться и прямо спросил, может ли чем-нибудь служить Юсту. Юст заявил, что ему нужно разрешение правительства, чтобы прожить в Кесарии четыре-пять недель. Иосиф, снискавший себе своими писаниями милость сильных мира сего, может помочь менее удачливому коллеге.
Иосиф тотчас же с удовольствием согласился. Удивленно спросил он, почему секретарь царя Агриппы обращается к нему из-за таких пустяков. Выяснилось, что Юст уже не служит секретарем у Агриппы. Ему давно казалось, что он неприятен царю своей резкостью, неуступчивостью, и за последнее время Агриппа все меньше пользовался его услугами. Но Юст не хотел даром получать жалованье, и когда Береника на обратном пути из Рима прибыла в Александрию, он явился к ней, надеясь при ее содействии снова приблизиться к Агриппе. Береника приняла его очень приветливо. Но потом, – Юст уже не помнил, в какой связи, – заговорили о «Книге Эсфирь», и Юст позволил себе слегка посмеяться над Артаксерксом, назвав его слабоумным, гаремным царьком, у которого его фаворитка выманивает в постели всякие поблажки для своего племени. Видимо, Береника отнесла эту характеристику к Титу и явно рассердилась. Во всяком случае, она не скрыла своего недовольства, и Юст, гордый и огорченный, даже не заговорив о собственном деле, предпочел прямо просить Агриппу об увольнении.
Иосиф выслушал его рассказ очень сочувственно и с легким удовлетворением. Он прекрасно понимал, что Агриппа не всегда был расположен слушать злобное хихиканье этого язвительного господина. Странно, что человек, так хорошо разбиравшийся теоретически в человеческой психологии, практически так мало знает людей.
Иосифу удалось без особого труда уговорить своего друга пожить у него в поместье, пока придет разрешение из Кесарии. Он ждал, что Юст будет расспрашивать об его планах и заговорит о собственной работе. Но так как Юст молчал, он в конце концов спросил его прямо, не приехал ли он в Иудею из-за своей работы. Юст подтвердил. Иосиф, обрадованный, заметил, что и он ждет многого от воздуха этой страны, ее красок, ее людей, ее языка.
Но Юст только скривил тонкие губы. Он приехал сюда не за настроением. Он ищет материалов, сухо заявил он, цифр, статистических данных. И Иосифу было неприятно, что приезд Юста в Иудею служил как бы подтверждением правоты Иоанна Гисхальского, а не его собственной.
Иосиф и Юст беседовали с рабом Иосифа Послушным, минеем. Оба господина расспрашивали его об основах его веры. Юст – с вызывающим высокомерием. Они сидели в низеньком помещении – не то кухня, не то жилая комната. Был вечер, стояла глубокая тишина. Издалека доносился топот и блеяние возвращавшихся домой овечьих стад, где-то пели рабы – однообразно, на чужом языке. Юст и Иосиф расспрашивали Послушного, словно путешественники – человека из полудикого племени. Но Послушный не смущался и терпеливо излагал свою веру, невзирая на явно скептическое, а порой и весьма насмешливое отношение слушателей. Когда он шевелился, тихонько позвякивал его колокольчик раба. Однако, несмотря на все свое высокомерие, Юст казался заинтересованным. Он задавал все новые вопросы, многое еще хотелось узнать и Иосифу, наступала ночь, принесли светильники, а они все еще спрашивали, и Послушный неутомимо отвечал им.
Когда они наконец отпустили его, Иосиф предложил Юсту немного пройтись. Юст согласился, они вышли; ночь была теплая, и Иосиф находил, что его несговорчивый друг в необычайно размягченном настроении. Он решил использовать это настроение, чтобы побеседовать о мучивших его вопросах.
Они сели на край водоема. Смутен был свет месяца в первой четверти, плывшего по мглистому сине-черному небу, время от времени доносился сквозь ночь отрывистый крик птицы. Иосиф открыл Юсту свое сердце, свои сомнения, свою смятенность. Вот неученые, нищие духом, вдруг требуют, чтобы и им дали приобщиться к Ягве и к религии, как и образованным. Имеют ли они право это требовать? Идти ли навстречу их требованиям? С одной стороны, на него влияют терпимость бен Измаила и насмешливые нападки Ахера, с другой – подсказанные реальной политикой доводы Гамалиила. Да, Иосиф спрашивает себя иной раз вполне серьезно: может быть, вся его ученость, весь его добытый с таким трудом научный метод – это просто дым, и не обладают ли люди, подобные минею Иакову или даже этому Послушному, благодаря своей вере и своей интуиции более глубоким познанием Ягве и мира?
Юст был одет по-летнему, он был страшно худ, и обрубок его руки с сухой, сморщенной кожей безобразно торчал из-под хитона. Так сидел он на краю колодца, рядом с Иосифом, тощий, худой, озаренный неверным светом.
– Ах, Иосиф, – сказал он и захихикал, но на этот раз в его насмешке не было горечи, – не беспокойтесь об этом. Даже ваша ученость, хотя она мне и не кажется особенно глубокой, стоит большего, чем возникшее из «благочестивого видения» знание вашего раба или вашего минейского чудотворца. Не раз пытался я извлечь из этой пресловутой неиспорченной души профанов хоть какое-нибудь познание, но, несмотря на всю объективность моих исследований, интуиция профанов меня никогда ни к чему не приводила. Если нужно смастерить стол, построить деревенский дом или вылечиться от запора, можно обойтись обычным человеческим рассудком; но если я хочу иметь настоящий письменный стол, то, поверьте, я пойду к искусному столяру, и если я хочу иметь хороший дом, то я пойду к архитектору, и если у меня гангрена, то я пойду к хирургу. Не вижу, почему я должен за более глубоким познанием Ягве непременно обращаться к нищим духом, а не к специалистам, изучавшим книги Ягве. Я не могу примириться с теми, кто ополчается на интеллект и восхваляет интуицию. Ведь не с помощью же интуиции открыл Пифагор, что сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы, и, положись инженер Сергий Ората на свою интуицию, вероятно, центральное отопление никогда не было бы изобретено. Если быть рационалистом – значит предпочитать богатых духом нищим духом, то я рационалист.
Юст машинально дергал цепочку, приводившую в движение колесо водоема. Вдруг раздался такой громкий скрип, что он испуганно выпустил цепочку из рук. Потом сел поудобнее и продолжал тихим, но внятным голосом:
– Наши праотцы были немногочисленны, они странствовали в пустыне, оседлая жизнь была им неведома, они сражались с дикими зверями, с трудностями сурового климата, они убивали друг друга, у них было мало времени на исследования, им поневоле приходилось прибегать к интуиции. Но с тех пор мы размножились, мы научились жить в деревнях и городах, мы нашли методы познавать логическим путем неоспоримые факты. Теперь интуиция нам больше не нужна, у нас есть наука. И я рад, что мы живем в эпоху городов и более сложных общественных связей, меня не тянет обратно в пустыню, к временам интуиции пророков. И если в наши дни кто-нибудь выдает себя за пророка, я его считаю или шарлатаном, или дураком, и если кто-нибудь пытается противопоставить недоказуемую интуицию моим доказуемым фактам – я раздражаюсь. Я рассматриваю людей, пытающихся запретить мне мыслить, как своих врагов. Я не вижу, почему человек, обладающий рассудком, менее способен познавать бога, чем тот, кто его не имеет.
За последние недели духовное высокомерие Иосифа испытало немало щелчков; слова Юста действовали на него благотворно, ему хотелось, чтобы тот говорил еще. Он сказал:
– Вы не хотите понять, Юст, к чему стремятся эти люди. Они считают, что человек, если только он в достаточной мере углубится в себя, будет вдыхать бога, как воздух; они считают, что чрезмерное доверие к собственному знанию как бы заковывает сердце в броню, оно замыкается и уже не может принять бога, когда он приходит. Я знаю очень образованных людей, изощрившихся в методах логического исследования, которые, однако, не гнушаются учиться у минеев.
Ночь была так тиха, что резким звуком казался даже легкий хруст ветки, голубоватый мрак был еще темнее от множества смутно мерцающих насекомых.
– Эта песенка давно мне знакома, – захихикал тощий Юст. – Назад, в пустыню, прочь от цивилизации, прочь от мышления, назад, к чистому видению, – тогда вы найдете бога. Все те, кому бог отказал в способности суждения, вдохновенно проповедуют подобные вещи. Но те, кто проповедуют их и в то же время не лишены способности мыслить, из трусости становятся предателями духа, потому что они боятся собственных познаний.
Помолчав немного, Иосиф продолжал. В том состоянии двойственности, которое его сейчас особенно угнетало, ему настоятельно хотелось услышать именно мнение Юста; ибо из всех людей только его признавал он правомочным судьей.
– Недавно, – сознался он, и его голос прозвучал непривычно мягко и нерешительно, – от меня зависело сделать для минеев нечто чрезвычайно важное. Я этого не сделал. Иногда мне кажется, что это было ошибкой; иногда мне кажется, что я не должен был уклоняться от этого.
Он боязливо ждал, словно все для него зависело от ответа Юста. Но тот рассмеялся и сказал почти добродушно:
– Вы глупец, Иосиф. Что вы в данном случае уклонились, это ваш первый разумный поступок за всю жизнь.
Иосиф обрадовался, что тот оправдал его, он чувствовал себя счастливым и очень расположенным к Юсту.
Но Юст продолжал. Надменно, сурово, резко звучал его голос в теплом ночном воздухе:
– Нет, мой милый, не ждите ничего от плоскогрудой, хилой доктрины минеев. Их учение рассчитано только на слабых. Нетрудно надеяться на сладостную загробную жизнь, которую можно заслужить одной только ворон. То, что один пострадал за всех и остальные освобождены от своей доли обязательного страдания, кажется мне слишком дешевым. И насколько проста догма минеев, настолько же заносчива их мораль. И мы хотим немалого. Требование относиться без ненависти к своему ближнему – суровое требование; но все же большим напряжением воли это можно в себе воспитать. Но подставлять левую щеку, когда нас бьют по правой, – это сверхчеловечно, нечеловечно и поэтому обречено оставаться лишь отвлеченным теоретические идеалом. Нет, Иосиф, не говорите мне об удобной мудрости неделания и отречения.
– И все же вы должны согласиться, Юст, – возразил после паузы Иосиф, – что среди иудеев, не считая нескольких эллинистов, в настоящее время минеи – единственные, кто еще придерживается космополитических тенденций Писания.
– Универсализм этих людей, – пренебрежительно возразил Юст, – это дешевый товар, как и все, чему они учат. Они отдают за универсализм великие, мощные традиции иудаизма, всю его ставшую духом историю. Всемирное гражданство должно быть завоевано. Нужно сначала испытать, что такое национализм, чтобы понять, что такое космополитизм. И если выбирать между законниками и минеями, я предпочту законников. Пусть их хитроумный узкий национализм отвратителен, но они, по крайней мере, не сдаются, они борются. Они требуют, чтобы мы жили в ожидании активного, грозного мессии, приход которого, кроме того, зависит от нашего собственного поведения, могущего ускорить его или замедлить. Минеи же ограничиваются тем, что просто отказываются. Задача состоит в том, чтобы не закоснеть в национализме и вместе с тем не раствориться в бесцветной гуще человечества. Ученые этой задачи не разрешили, а минеи – еще меньше.
Он умолк. Они встали. Молча шли они сквозь ночной мрак. Когда они были уже почти около дома, Иосиф спросил своего гостя о том же, о чем спрашивал однажды, много лет назад, в Риме:
– Что должен делать в настоящее время еврейский писатель?
Но тощий уже ничего не ответил. Он только пожал плечами; странно было видеть, как поднялось левое плечо без руки, и Иосиф не был уверен, что это не жест безнадежности. Однако уже в дверях Юст, прощаясь и, может быть, вспомнив слова, сказанные им Иосифу при их первой встрече, произнес:
– Странно. С тех пор как храм разрушен, бог опять в Иудее.
Было ли это ответом?
На другой день пришло разрешение на въезд Юста в Кесарию, и Юст отбыл.
Иосиф же, в память их ночного разговора у водоема, написал в этот день «Псалом трех уподоблений».
Всем из моей породы
Ягве повелел
Быть солью земли своей.
Но как же нам солью быть,
Когда воды слишком много,
И мы можем раствориться в воде,
Навсегда уйдем в ничто,
И от нас не будет ни следа и ни вкуса,
И наше предназначение останется втуне.
– Я не хочу исчезнуть,
Я не хочу быть солью.
О, радость пламенем быть!
Оно может отдать от силы своей,
И меньше не будет, и не потухнет.
– Свет блажен, пламя блаженно,
Но неопалима лишь купина.
Даже сам Моисей, прикоснувшись к огню,
Опалил свои уста,
Стал тяжел на слова, стал заикой, –
Как же, ничтожному, мне мечтать о даре таком?
Я не могу быть огнем.
Пусть бесполезна переливчатая радуга,
Когда сквозь дождь пробивается солнце.
Радует она лишь мечтателей и детей,
И все же именно эту дугу
Ягве избрал как знак
Связи своей с преходящей плотью.
Позволь же мне этой радугой быть, Ягве,
Быстро меркнущей и родящейся снова и снопа,
Многоцветно мерцающей, но из единого света.
Мостом от твоей земли к твоему небу,
Смесью из воды и солнца,
Возникающей всякий раз,
Когда вода и солнце слились.
– Я не хочу быть солью,
Я не могу быть огнем.
Дай мне быть радугой, Ягве.
В своем поместье Иосиф начинал чувствовать себя дома. Разговор с Юстом принес ему успокоение. Он много бывал один, совершал долгие одинокие прогулки, но не замыкался от людей. Он вел спокойные беседы со своим управляющим Феодором, с Послушным, с другими слугами и служанками.
Однажды, в эту пору своих размышлений, отправился он на хутор «Источник Иалты», где жила Мара. Мара вспыхнула ярким румянцем, увидев его, но это уже не был злой и гневный румянец их первого свидания.
– Хвала тебе, Мара, – приветствовал он ее обычной арамейской формулой.
– Мир тебе, господин мой, – отозвалась она. Но затем она спросила, как и Дорион: – О чем нам еще говорить? – И так как он молчал, она добавила: – У меня много работы. Виноградники запущены, и оливки погибли. Вавилонская ослица светлой масти беременна. Она нуждается в тщательном уходе. Она стоила очень дорого.
– Позволь мне здесь сесть и смотреть на тебя, – попросил он.
И он сидел и смотрел на нее. Он вернулся в страну Израиля, чтобы обрести ясность, но его пребывание в Кесарии и в Галилее, в Самарии и в Эммаусе, в Лидде и в Ямнии вызвало только еще большее смятение. Нужное ему спокойствие, силу для работы он мог найти только здесь, в своем имении.
Он сидел на освещенной солнцем низкой каменной ограде и смотрел, как Мара работает, босая, в широкополой соломенной шляпе, защищавшей ее от солнца. Он сидел и предоставлял своим мыслям блуждать.
До начала зимних бурь и прекращения навигации он должен быть снова в Риме; так он решил. Но не мудрее ли было бы остаться и спокойно писать здесь историю Израиля? А если он будет работать в этой стране, не помешает ли ему сама страна, слишком большая близость людей и предметов, волнения еще проносящегося потока событий? Разве, чтобы писать историю, не нужно известное расстояние, даже пространственное?
Вероятно, так смотрел Вооз на Руфь[126]126
Руфь – героиня одноименной книги, входящей в канон Ветхого завета. После смерти свекра, мужа и брата мужа, переселившихся в Моав (страна к востоку от Мертвого моря) из Ханаана, моавитянка Руфь, не желая расставаться со свекровью, возвращающейся на родину, попадает в Вифлеем. Благодаря своей скромности и трудолюбию она «приобретает благоволение» Вооза, родственника своего свекра, и становится его женой. Родившийся у нее сын был дедом царя Давида.
[Закрыть], как он сейчас сидит и смотрит на Мару. Руфь была моавитянкой, чужеземкой, нееврейкой, но именно она, повествует Писание, стала праматерью рода Давидова. Писание не узко и не националистично. Ягве, повествует оно в другом месте, разгневался на Иону и наказал его, потому что он хотел возвещать слово божье только Израилю и отказывался распространять его среди неевреев великого города Ниневии[127]127
Не желая проповедовать в ассирийском городе Ниневии, как повелел ему бог, пророк Иона бежал из Палестины морем, но по пути поднялась страшная буря, корабельщики кинули жребий, чтобы узнать, на кого из находящихся на борту гневается бог, жребий пал на Иону, и его бросили в море. Буря утихла, а пророка проглотил огромный кит и носил его в своей утробе три дня и три ночи, пока Иона не обратился к богу с молитвой и с обещанием исполнить его волю. «И сказал господь киту, и он изверг Иону на сушу». Этот забавный и отдающий неверием миф о капризном пророке составляет предмет «Книги пророка Ионы», также входящей в библейский канон.
[Закрыть]. Таково Писание. Он, Иосиф, женился на нееврейке, как Моисей – на мадианитянке. Но он не Моисей, и его брак не привел к добру.
Левират – странный обычай. Если человек умирает, не оставив своей жене сына, то его брат обязан жениться на его вдове и прижить от нее детей. Насколько же больше обязательства мужчины по отношению к женщине, чей сын погиб по его вине? Многие из ученых-богословов считают возобновление брака с разведенной женой добродетельным, похвальным поступком. Если бы здесь, на солнце, вокруг этой работавшей женщины играли его дети, какое это было бы радостное зрелище! Гамалиил – умный человек и к нему расположен; если бы Иосиф вновь женился на Маре, верховный богослов нашел бы способ узаконить их брак.
Так сидел Иосиф до вечера и не принуждал свои мысли к последовательности, но предоставлял им приходить и уходить по их желанию. Когда наступил вечер, Мара позвала своих слуг и служанок ужинать. Он ждал, не предложит ли она ему остаться. Она не предложила. Тогда он поклонился серьезно, вежливо и ушел.
В городе Лидде еще ничего не было известно о том, что губернатор хочет, как он сказал Иосифу, запросить Ямнию относительно минеев. Ни Ханна, ни Ахер, ни даже бен Измаил не приставали к Иосифу с докучными вопросами о том, говорил ли он Флавию Сильве об их университете. Однако та откровенность, которая существовала между ними и Иосифом до его поездки, исчезла. Правда, после разговора с Юстом к нему в значительной мере вернулась его уверенность; и все-таки ему было жаль, что его друзья в Лидде теперь держатся с ним, как с чужим. Наверно, несмотря на всю ее внешнюю вежливость, пылкая Ханна считает его тряпкой.
Странно вел себя Ахер. Он пригласил Иосифа к себе, они вместе поужинали – двое мужчин и прекрасная, смуглая Тавита. Ахер был сегодня менее разговорчив, чем обычно. Иосиф, смущенный этой молчаливостью, был тем оживленнее, рассказывал о губернаторе, о Неаполе Флавийском, о Либании, о городском советнике Акибе, даже о Юсте. Ахер медленно повернул к нему свое мясистое лицо, прищурил печальные, знающие глаза, сказал откровенно:
– Вы многое делали в своей жизни, много говорили и много писали, больше, чем другие. И вы, наверно, всегда стремились согласовывать ваши слова и ваши поступки. Странно, что это удавалось вам так редко.
Иосиф был изумлен этим внезапным смелым выпадом. Если бы не его разговор с Юстом, он, вероятно, ответил бы резкостью. Но сейчас он предпочел горькие слова молодого человека молчанию остальных. В отношении прошлого, может быть, он и прав. Но в отношении будущего – наверное нет. И он промолчал.
Смуглая Тавита лениво вытянулась на своем ложе, прекрасная и сонная. Ахер сказал:
– Впрочем, я перевел ваш космополитический псалом греческими стихами.
Иосиф был охвачен жгучим любопытством, он жаждал услышать, как звучат его стихи на греческом языке этого Ахера; однако он не решился просить его прочитать их. Ахер, заставив Иосифа немного подождать, прочел их сам.
– Слушайте, – сказал он, встал подле стола, оперся об него руками, опустил глаза и начал медленно и сдержанно читать на своем безупречном греческом языке.
Ему удалось передать в переводе все колебания ритма, все звуковые особенности еврейских стихов Иосифа. Так, именно так выразил бы Иосиф свои чувства, будь он рожден греком. Красота стихов захватила его, их звучание на этом чужом, ненавистном, любимом, вожделенном языке пленяло его слух и сердце. Он вскочил, обнял Ахера, поцеловал его.
– Вы должны поехать со мною в Рим, Яннай, – пылко заявил он. – Мы должны вместе работать. Мы должны вместе написать «Всеобщую историю иудеев». Вы и я. Вы не имеете права оставаться здесь. Это было бы преступлением перед самим собой, передо мной, перед Израилем, перед всем миром.
Смуглянка была разбужена громкими, горячими словами Иосифа, с любопытством взглянула она на него. Ахер сказал, ласково поглаживая ее:
– Спи, спи, моя голубка. – Иосифу же он сухо ответил: – Вы забываете, Иосиф Флавий, что я стремлюсь согласовать мою жизнь с моими поступками. Но меня радует, что перевод вам понравился.
Едва Иосиф приехал в Ямнию, как верховный богослов тотчас же вызвал его к себе. Гамалиил, видимо, знал, что Иосиф, будучи в Кесарии, не ходатайствовал об университете в Лидде.
– Мне нетрудно себе представить, – сказал Гамалиил, – что наши общие друзья приставали к вам со своей старой просьбой. Для автора космополитического псалма явилось, наверно, большим искушением противопоставить университету в Ямнии наднациональный университет.
– Так и было, – сознался Иосиф откровенно.
– Я рад, – ответил Гамалиил, – что мои доводы нашли в вас отклик. Это облегчит мне просьбу, с которой я хочу обратиться к вам.
– Я к вашим услугам, – ответил Иосиф, как полагалось.
– Вы знаете, – начал верховный богослов, решительно приступая к делу, – что Флавий Сильва требует от меня заключения по вопросу о минеях?
– Да, – ответил Иосиф.
– Я слышал, – продолжал Гамалиил, – что губернатор собирается помиловать городского советника Акибу. Этого вы добились?
– Я говорил с ним. Губернатор делает это ради Деметрия Либания.
Верховный богослов сел рядом с Иосифом, заговорил с ним, как младший друг со старшим, сердечно, откровенно:
– Есть много неразрешенных вопросов между Ямнией и правительственными чиновниками в Кесарии. Было бы хорошо, если бы у нас там был постоянный представитель. Поддерживать единение между законниками и народом требует огромного напряжения сил; а еще при этом представительствовать от имени еврейства в Риме – тут одному человеку не справиться. – И совсем мимоходом, словно разговор шел о погоде, он предложил: – Не хотите ли снять с меня бремя внешней политики, доктор Иосиф? Вы в этих вопросах опытнее, чем я, и изо всех иудеев вы пользуетесь в Риме наибольшим уважением. Я уверен, что если столь опытное лицо будет защищать наши интересы, то Рим через пять или шесть лет даст нам такие привилегии, при которых коллегия в Ямнии постепенно из религиозного центра еврейства снова станет политическим центром. Я всегда говорил с вами откровенно, доктор Иосиф, и я думаю, вы считаете меня честным человеком. Разделите со мною власть. Оставьте мне внутреннюю политику и будьте нашим посланником в Кесарии. Будьте нашим представителем в Риме. Только вы один можете быть им. – И вдруг, переходя в шутливый тон, закончил: – Вы должны это сделать хотя бы ради того, чтобы избавить моих законников от новых распрей. Если вы откажетесь, мне придется скоро самому ехать в Рим. Подумайте только, какие тут возникнут дебаты: смею ли я ехать морем в Рим и нарушить закон о субботе?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.