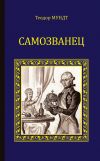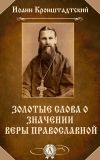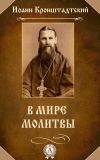Текст книги "Сыновья"
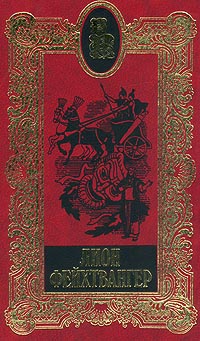
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
В связи с ее переездом в Альбан Анний поднес ей подарок для ее гостиной. Это была фигура из коринфской бронзы, предназначенная служить подставкой для светильни, статуэтка нагого обрезанного еврея. Изящная вещичка, смелая и слегка непристойная, художественное произведение в жанре тех, которыми дамы любили украшать свои комнаты; статуэтка вышла из мастерской Терма, великого соперника Василия. Анний был очень удивлен, когда Дорион не только не поблагодарила за подарок, но принялась резко упрекать его за безвкусицу. Обычно при таких вспышках он отделывался шуткой; на этот раз он рассердился. Он заявил ей прямо в лицо, что она все еще любит Иосифа. Она ответила, что у Иосифа есть некоторые качества, которым может позавидовать любой мужчина. Действительно, она начинала смотреть на Анния глазами Иосифа; его дружба с будущим императором, его военные таланты, его уверенность в том, что он будет командовать всей армией империи, нисколько не увлекали ее, его шумная, прямодушная игривость и солдатская грубость раздражали ее. Дело дошло до неприятных взаимных характеристик. Анний несколько дней держался вдали от Дорион.
Павел не спрашивал о причинах внезапного исчезновения Анния. Сближение с сыном всегда было делом нелегким, но Дорион знала его, знала, что с тех пор, как Иосиф его вернул, он теперь не так слепо любит ее. Она, как и раньше, продолжала нежно любить сына, но ее отношение к нему было неровное, и оно колебалось в зависимости от колебаний ее чувства к Иосифу. То она без всякого видимого повода осыпала его доказательствами своей материнской любви, то, когда он нуждался в ней, замыкалась перед ним. Она сознавала свою неуравновешенность, сердилась на себя, когда бывала холодна с мальчиком, но не могла себя пересилить. Она знала также, как страдает Павел от неопределенности ее отношений с Аннием. Пережитый мальчиком процесс, внимание, которое он вызвал, сделало Павла крайне чувствительным ко всему двусмысленному. Она знала, что он, став через усыновление полноправным римским гражданином, пламенно желает этого гражданства и для матери. Она знала, как охотно он признал бы Анния своим отцом, ему нравилась его мужественность, его воинственность, и он радовался перспективе – самому как можно раньше поступить на военную службу.
Все это Дорион обдумала в те дни, когда Анний держался вдали от нее; кроме того, ей казалось, что Иосиф был бы удовлетворен, если бы между нею и Аннием произошел окончательный разрыв. Она написала Аннию коротенькое шутливое письмецо, которое он при желании мог принять за извинение.
Когда он снова приехал в Альбан, подсвечник стоял в ее гостиной.
Отказ Иосифа от Павла произвел в мальчике глубокий переворот. До сих пор у него для всего на свете существовало одно бесспорное мерило: мнение его учителя Финея. Поступок отца доказал, что Финей был несправедлив по отношению к этому человеку. Мальчик продолжал почитать своего учителя, но он больше не был для него великим верховным оракулом.
И теперь ему было неприятно, что благороднейшее поведение его отца не встречало должной оценки со стороны матери и Финея. Ничего унизительного не было бы, например, в том, чтобы изредка с ним встречаться.
Поэтому он был радостно удивлен, когда однажды за столом Дорион в присутствии Финея прямо спросила его, не хочется ли ему повидаться с отцом. Обычно столь владевший собой Финей положил обратно на тарелку кусок, который только что поднес ко рту, его большая, бледная голова побледнела еще сильнее; Дорион ему не сообщила о своем решении. Павел переводил глаза с матери на учителя, оба ждали его ответа.
– Я охотно поеду к отцу, – ответил он.
Смущенно, не без радостного волнения вошел он в дом в шестом квартале, где так долго чувствовал себя пленником. Он решил держаться с Иосифом по-мужски, сердечно, как Анний, но отец, когда они встретились, был уже не тем, каким он его знал, это был чужой господин с незнакомой бородой.
Иосиф, видимо, обрадовался, когда приехал его Павел, но радость эта была очень спокойной, вовсе не бурной. Разговор не клеился. Иосиф осведомился об успехах Павла в управлении козьим выездом, об его козле Паниске. Но в настоящий момент Павел больше интересовался другим спортом, а именно – сложными видами игры в мяч. В игре с кожаным мячом – это можно сказать, не хвастая, – он уже сделал большие успехи, скоро он решится приступить к игре со стеклянным мячом. Это возможно только после долгой тренировки, ибо стеклянные мячи стоят дорого, и промах обходится в целое состояние. Игру в мяч издавна любил и Иосиф, он сам был большим мастером этого дела, и некоторое время отец и сын оживленно беседовали. Но скоро разговор снова иссяк, и Павел машинально потянулся к своему рукаву, где еще недавно лежала глина для лепки фигурок. Несколько недель назад, в день своего рождения, он дал себе клятву отвыкнуть от этой детской привычки.
Иосиф смотрел на стройного, аристократического мальчика, своего сына, он нравился ему, и он был очень к нему расположен. Но неужели его действительно когда-то волновал до мозга костей тот факт, что он не может найти пути к сердцу этого мальчика?
Павел же ломал себе голову над тем, как показать отцу, что он считает его тогдашнее поведение благороднейшим. Однако Иосиф ни одним словом не коснулся прошлого, – это было очень тактично, но ничуть не облегчило мальчику его намерения. Никто не учил Павла быть ласковым, наоборот, Финей внушал ему, что мужчина должен скрывать свои чувства. В конце концов он сказал, запинаясь:
– Не дашь ли ты мне ту книгу с рассказами о силаче Самсоне? Я охотно перечел бы ее еще раз.
Иосиф взглянул на него слегка удивленно. Но сказал только:
– Конечно, я ее дам тебе, – и не заметил, какого труда стоило мальчику преодолеть себя и попросить у него книгу.
В общем, эта встреча с отцом разочаровала Павла; все же ему было приятно, когда Дорион настояла на вторичном посещении. Таким образом, вошло в обычай, что он каждую неделю ездил в гости к Иосифу. Но они не сближались. Сдержанного мальчика влекло к отцу, Иосиф очень к нему благоволил, был очень дружелюбен, но окончательной, подлинной близости между ними не возникало.
В одно из своих посещений Павел спросил отца, как уже однажды спрашивал, о своем покойном брате Симоне. Покойный брат занимал его мысли. Вопрос взволновал Иосифа. Но этот человек, столь ярко живописавший людей и сражения Иудейской войны, не сумел оживить образ своего еврейского сына. Он рассказывал многое, но не рассказал ему, как Симону удалось протащить своего друга Константина на арену и тем добыть себе белочку, не рассказал о любви Симона к коню Сильвану и о его усилиях изготовить модель «Большой Деборы», не рассказал о его пристрастии ругаться «клянусь Герклом». Наоборот, он тщательно выписывал бледный идеализированный образ Симона-Яники, который Павлу не очень понравился. И мальчик больше не спрашивал о покойном брате.
Когда Павел приходил к Иосифу, его порой сопровождала Дорион. Предлогом служило ее знакомство с Валерием. Разумеется, она заходила не к Иосифу, а к старому ворчливому сенатору. Валерий жил в верхнем этаже, и его раб, согласно обычаю, спускал со стороны фасада подъемную корзину, чтобы знатная посетительница не утруждала себя восхождением по лестнице. Однако Дорион заявила, что раб старика Валерия такая старая развалина, что она боится довериться ему, и пользовалась лестницей.
Но она никогда не встречала своего бывшего мужа Иосифа. Павел же, когда его мать бывала у старика Валерия, нередко заходил за ней наверх. Разжалованный сенатор участвовал в спекуляции пшеницей против Марулла и Клавдия Регина, стоившей стольких денег многим членам республиканской партии и поглотившей остатки состояния Валерия. Теперь в его доме оставалась только самая необходимая утварь, обстановка сводилась, главным образом, к наставленным повсюду восковым бюстам предков, пропыленным дикторским пучкам, изъеденным молью парадным одеждам, истлевшим триумфаторским венкам; весь его персонал состоял из одного старого, дряхлого раба.
Сам Валерий стал теперь еще чопорнее и суше. Вместе с бедностью росла его важность. Как и прежде, он отказывался носить изнеживающую нижнюю одежду, введенную в обиход три столетия тому назад, и придерживался грубого простого одеяния своих предков. Его нисколько не тревожило, что за свои консервативные убеждения приходилось платиться простудами, мучившими его большую часть года. От своих многочисленных пышных имен, однако, он отказался. С тех пор как благодаря послаблениям правительства чернь все чаще присваивала себе имена старинных родов, он, единственный живой потомок Энея, считал для себя неподобающим носить больше двух имен; из своих двадцати одного имени он вычеркнул девятнадцать и назывался просто Валерий Туллий.
Дорион была для него желанной гостьей. Он сочувствовал тому, что она восстала против его мерзкого соседа, Иосифа Флавия – выскочки из варварской провинции Иудеи, которому покровительствовала эта проститутка Фортуна. Он с удовольствием видел у себя стройного, гордого Павла, которого Дорион вырвала из рук евреев и отдала римлянам. Но эта радость по поводу посещений Дорион и мальчика не делала его обходительней; даже в их присутствии он был все такой же важный, язвительный, неразговорчивый. Его дочь, белокожая, черноволосая Туллия, едва ли была словоохотливее его. Дорион приходилось дорого платить за свои попытки увидеть Иосифа.
Однако Павел чувствовал себя хорошо в суровой атмосфере Валериева дома. Так как связь между ним и матерью и между ним и Финеем уже не была столь тесной и крепкой, как раньше, и так как сближение с отцом подвигалось туго, то Павел очень ценил всякое проявление симпатии к себе и вскоре, несмотря на молчаливость старика, почувствовал, что тот привязался к нему. Его гордости льстило, что Валерий видит в нем подрастающего римлянина, и когда старик время от времени называл его и Туллию своими детьми, – это было для Павла праздником.
«Девочке» Туллии было как-никак двадцать два года, но кто-нибудь со стороны скорее принял бы ее за внучку, чем за дочь Валерия. Ее длинная голова по-детски чопорно возвышалась над хрупкой шеей и узкими покатыми плечами, а белое лицо под высокой, очень черной искусной прической казалось необычайно нежным. Иосиф, столь же мало любивший своих соседей из верхнего этажа, как и они его, и охотно подшучивавший над ними, как-то сказал Маруллу, что Туллия в свои двадцать два года уже старая дева, и когда Марулл возразил, что находит в строгой, чопорной грации девушки известную прелесть, Иосиф с видом бонвивана процитировал Овидия: только та целомудренна, которую никто не желает. Однако Марулл не мог с этим согласиться. Он находил, да и не он один, что Туллия хоть и застенчива, но отнюдь не пресна, и считал ее высокомерие только маской, скрывающей робость. И где было ей, вынужденной упрямым, сварливым отцом вести замкнутую жизнь, развить в себе светские таланты?
Как раз в это время происходил ремонт храма богини Рима. Династия Флавиев усердно поддерживала культ этой богини, и Тит поручил именно скульптору Василию отлить новую бронзовую статую богини. Ворча, подчинился перегруженный работой скульптор требованию императора и никому не показывал своего произведения до тех пор, пока храм не был заново освящен. Тогда, к всеобщему недоумению, вдруг оказалось, что богиня имеет совсем другой вид, чем раньше. Теперь на цоколе стояла не та мощная героиня, которую привыкли видеть, но тонкая, строгая девичья фигура с трогательным, серьезным и детским лицом, и атрибуты ее власти – венец, рог изобилия, копье и щит – лишь служили контрастом, подчеркивающим строгую нежность ее фигуры и лица. Своевольный модернизм статуи вызвал в художественных кругах Рима ожесточенные споры. Финей тоже поспешил со своим воспитанником посмотреть статую.
Ему, давнишнему почитателю Василия, новое произведение особенно понравилось, и он с увлечением принялся объяснять Павлу достоинства статуи. Павел долго стоял перед бронзовым изображением, внимательно рассматривал его, захваченный, но не сказал ни слова. Финей находил, что черты богини необычайно живы, наверное, это портрет, оно даже напоминает ему чье-то лицо. Долго старался он припомнить – чье, но напрасно.
– Ну конечно, – вспомнил он наконец, – это же наша Туллия. – Но тут до сих пор молчавший Павел вдруг оживился. Решительно покачал он узкой смуглой головой.
– Нет, это не наша Туллия, – заявил он, – это не наша Туллия, – продолжал он настаивать, когда Финей стал указывать ему на сходство отдельных черт.
При следующем посещении Валерия Дорион была очень удивлена, когда ее Павел, воспользовавшись одной из многочисленных пауз, внезапно, по-мальчишески, брякнул, обращаясь к Туллии:
– Нет, а все-таки он сделал вас непохожей…
Сначала Дорион не поняла, что он хотел сказать: но Туллия поняла сейчас же, и ее узкое нежное лицо слегка порозовело.
– Что это значит, Павел, – укоризненно заметила Дорион. – Кто сделал нашу Туллию непохожей?
– Скульптор Василий, конечно, – ответил Павел, немного смущенный своей выходкой, и с важностью знатока заявил: – Все говорят, что богиня Рима похожа на Туллию. Не правда ли, Финей, и вы это сказали. Но только неверно, она совсем не похожа.
В глубине души сенатору льстило, что его дочь избрали моделью для богини Рима, но – «оно и лучше», – проворчал он теперь, между тем как Туллия сидела белая, строгая и недоступно высокомерная. Дорион с едва заметной улыбкой выговаривала мальчику:
– Вечно ты что-нибудь придумаешь, Павел. – И, обращаясь к Валерию, добавила извиняющимся тоном: – Павел воображает, что если он внук художника Фабулла, то он прирожденный знаток искусства.
Когда Дорион уже собралась уходить, Павел еще решительнее поборол свою робость. Невольно покраснев, бурно дыша, он спросил Туллию, не приедет ли она как-нибудь в Альбан посмотреть его козий выезд. Дорион была приятно удивлена тем, что обычно столь замкнутый мальчик, несмотря на пропыленную музейную атмосферу этого дома, все же держался так смело, а когда он к тому же предложил Туллии поиграть с ним в Альбане в мяч, она поддержала его:
– Он и вправду неплохой игрок. И вы найдете в нем серьезного противника, Туллия.
Девушка ответила, что она играла в мяч только в детстве, когда у них еще было имение в Кампанье, с тех пор она многое перезабыла.
– Достаточно взглянуть на вас, – порывисто сказал Павел, – и сразу видишь, что вы прирожденный чемпион. Вот сыграете раза два, и я вам спокойно доверю мои стеклянные мячи.
– Мы не смогли бы возместить их тебе, Павел, – ответила девушка, и от улыбки, с которой она говорила о своей бедности, она казалась еще более гордой.
Павел ходил теперь часто в храм богини Рима, хотя ему было не по пути, а жрецы и сторожа радовались благочестию молодого почитателя.
Впрочем, Туллии действительно удалось вырваться из дома в шестом квартале и поехать в Альбан. Во время игры в мяч она несколько оттаяла и оказалась довольно искусной партнершей. Однако Павел и в четвертый раз все еще предпочитал играть кожаными мячами и беречь стеклянные.
Отцу он ничего не сказал о своей новой дружбе. Иосиф открыл ее благодаря случайности. Однажды, когда мальчик в одиночестве дожидался его, Иосиф, вернувшись, застал Павла увлеченным, как в былые дни, лепкой какой-то глиняной фигурки. В Иосифе жило до сих пор глубокое отвращение ко всякого рода изваяниям, и его сердило, что Павел опять принялся за старое.
– Что это ты делаешь? – спросил он и взял наполовину готовую фигурку в руки.
– Я хотел сделать богиню, – ответил с некоторым смущением Павел.
Иосифу было неприятно, что сын в его доме лепит изображения богов. Но он скрыл свое недовольство и спокойно спросил:
– Какую богиню?
Павел не умел лгать. Весь пунцовый, он пояснил:
– Это богиня Рима. Собственно, не богиня, это твоя соседка, Валерия Туллия.
Иосиф удивился, он продолжал расспрашивать, и Павел рассказал с некоторой нерешительностью, но честно, про Туллию, богиню Рима и игру в мяч.
Иосиф, конечно, понимал, что эта дружба между его маленьким сыном и Туллией не что иное, как одно из тех мальчишеских увлечений, которые он сам нередко испытывал в возрасте Павла. Все же ему было неприятно, что его сын влюбился именно в эту пресную, старозаветно-римскую Туллию. По-видимому, преклонение художника Фабулла перед всем по-римски суровым, традиционным передалось и мальчику. Это сердило Иосифа. Ему хотелось, чтобы из его сына вышло нечто большее, чем римлянин. Впервые усомнился он, правильно ли поступил, возвратив его Дорион.
Он горячо принялся за Павла. Сразу же, поспешно, настойчиво, стал он бороться за него. Но он опоздал. Слова, которые так недавно осчастливили бы мальчика, теперь оставались для него пустым звуком. Не всегда удавалось Иосифу сдержать свой гнев против греко-римского воспитания Павла. Стена между отцом и сыном не исчезала.
Однажды, когда Павел был у Иосифа, в комнату вошел Юст; он думал, что Иосиф один. Он оглядел мальчика, но без любопытства. Это Павлу понравилось. После его процесса большинство людей, узнав, кто он, упорно и нагло рассматривали его. Юст же сидел перед ним худой и строгий, мало обращая на него внимания, вел непринужденную беседу с его отцом, часто возражал ему спокойно и, по-видимому, со знанием дела. Этот однорукий человек с неуступчивыми взглядами производил на Павла все более сильное впечатление, и он был поражен, узнав из разговора, что Юст еврей. Но когда он узнал, что Юст висел на кресте и был снят с него живым, он забыл всю свою стоическую выдержку. С мальчишеской настойчивостью стал выспрашивать его, слушал, разинув рот, его рассказы.
Да, этот еврей Юст с его изысканным греческим языком, этот искатель приключений, не придававший никакого значения своему героизму, но говоривший о нем с сухой иронией, уже с первой встречи пленил сердце мальчика. Павел едва мог оторваться от его худощавых черт, от пустого рукава, и когда наконец позднее, чем обычно, собрался уходить, он взволнованно осведомился, застанет ли он в следующий раз Юста у отца.
Иосиф был удивлен, что его сын сразу раскрылся перед незнакомым человеком. Ему было приятно, что мальчику так импонирует еврей, и его уязвляло, что этим евреем был именно Юст. Когда Павел стал подробно расспрашивать, кто и что этот Юст, Иосиф чуть не поддался искушению рассказать о его отрицательных чертах. Но он переборол себя и заявил, что, по его убеждению, этот человек – величайший из современных писателей. Его немного покоробило, что Павел принял это без всяких возражений и даже не вспомнил о бюсте Иосифа в храме Мира.
С противоречивыми чувствами замечал он, как его сына все сильнее влечет к однорукому. Насколько с ним Павел был молчалив, настолько же охотно болтал с Юстом. Римская Туллия была, по-видимому, вытеснена из сердца и воображения Павла евреем Юстом. Иосиф находил, что это хорошо, и все-таки это уязвляло его. Но больше всего его раздражало, что Юст только-только допускал пылкую любовь Павла. Он прекрасно видел, как обстоит дело: именно Павел домогался дружбы Юста, а Юст скорее отстранял его, чем поощрял; все же, вопреки здравому смыслу, в нем росла уверенность, что Юст – корыстный соперник и отнимает у него сына. Затаив злое чувство, он стал выспрашивать Павла, не восстанавливает ли его Юст против отца. Оказалось, что Юст никогда плохого слова не сказал о нем, но это не утешило Иосифа. Разве чуткий мальчик не поймет без слов, какого мнения Юст об Иосифе? Разве может вообще тот, кто почитает Юста, уважать Иосифа?
Однажды он прямо и злобно завел разговор о Павле.
– Нравится вам мой Павел? – спросил он.
– Ничего, нравится… – ответил простодушно Юст.
– Вы, вероятно, находите его очень непохожим на меня? – продолжал допытываться Иосиф.
Юст пожал плечами, возразил шутливо:
– «Не уподобляйтесь отцам вашим», сказано в Писании.[135]135
«Вторая книга Паралипоменон», XXX, 7.
[Закрыть]
– Слова, мало беспокоящие того, у кого нет сына, – заметил Иосиф.
– Едва ли, – отозвался Юст задумчиво, – я поставил бы своему сыну в вину, что он не похож на меня. Современное поколение, – продолжал он, как всегда, обобщая, – имеет мало оснований подражать своим отцам. Они затеяли эту чудовищно нелепую войну и были – по заслугам – жестоко разбиты. Можете ли вы требовать, чтобы ваш сын держался за своего еврейского отца, а не за свое греческое наследие? Очень хорошо, – продолжал он почти с теплотой, – что вы предоставили его самому себе и не старались насильно выправить его.
Иосиф помолчал. Затем, тихо и мрачно, сказал:
– Я жалею, что был тогда слишком мягок.
Юст удивленно взглянул на него.
– Но подумайте, – возразил он с непривычной мягкостью, – чему может в наше время научиться еврейский сын у своего отца, как не делать обратное тому, что делал отец, и верить в обратное тому, во что верил отец? Отцы восстали против Рима. Сыновья больше не верят в действие. Они не доверяют ему. Они начинают следовать минеям и их учению о неделании и отречении.
– Я вспоминаю одну ночь, – сказал Иосиф с иронией, – и один разговор у водоема, когда некий Юст отзывался весьма насмешливо о неделании и отречении.
– Разве я когда-нибудь говорил, – горячо запротестовал Юст, – что правы те, кто верит в неделание и отречение? Никогда я этого не говорил и сейчас не собираюсь. Я не защищаю сыновей. Они из того же гнилого дерева, что и старики. У отцов не было доверия к собственным силам, они чувствовали себя, каждый в отдельности, слабыми, поэтому они создали себе костыль, изобрели учение о нации, вообразили, что сила и величие нации поддерживают отдельного человека. Чтобы подпирать собственную слабость, сыновья создали себе другой костыль, они воображают, что им может помочь какой-то мессия, умерший за них на кресте. Вера в нацию, вера в мессию – и то и другое ошибка, результат собственной слабости.
– Все это мудрые абстракции, – насмехался Иосиф, – и они утешали бы меня, не имей я сына. Но у меня есть сын, и он грек, а не еврей, и ваши обобщения мне не помогут. – И он мрачно закончил: – Вы великий писатель, Юст из Тивериады, гораздо больший, чем я. Моему греческому языку вы можете помочь и, может быть, моей философии; но с моей сущностью и моей жизнью, с ее действительностью, я, к сожалению, должен справиться сам.
Иосиф бросил Юсту эти горькие слова не только из-за своего сына Павла. В нем говорила досада на то, что новая книга не удается. Присутствие Юста скоро перестало подстегивать и подгонять его, теперь оно служило ему укором, как и прежде. С какой стороны он ни подходил к своей «Всеобщей истории», дело не ладилось, в его фразах, как и в нем самом, не было подъема, и работа все меньше радовала его.
Юст, наоборот, говорил о том, что последнее путешествие в Иудею и в Рим исцелило его от давних обид, укрепило индивидуалистическую гордость и веру в назначение писателя. Он снова убедился в том, насколько люди зависят от колебания цифр, от тех политических и экономических соотношений, которые называются судьбой; но лишь тогда возникает другая картина жизни, когда отдельный человек воспримет сердцем своим эти сухие цифры и даты и оплодотворит их своими соками. Над этой истинной картиной жизни он теперь работает, и, видимо, с радостью и успехом.
Иосиф это видел, и зависть грызла его. С волнением просил он своего врага показать ему, что тот сделал со времени своего приезда в Рим. Юст минуту колебался, одно короткое мгновение, затем дал ему свою рукопись. За эти несколько недель он написал именно те пятьдесят страниц об осаде Иерусалима, которые были впоследствии признаны знатоками лучшей прозой века.
Иосиф читал. Как ясно и отчетливо было здесь изложено то, что происходило в стенах и за стенами Иерусалима, мнимые и истинные побуждения евреев и римлян, весь клубок экономических, социальных, религиозных, военных интересов, верований и суеверий, политики и богоискательства, честолюбия, любви и ненависти. То, о чем Иосиф на трехстах страницах дал только смутное представление, было здесь, на пятидесяти, изложено ясно и четко. Иосиф читал, и сердце его радовалось, что человек мог так написать. Иосиф читал, и сердце его терзалось, что это написал другой, а не он.
Он вернул Юсту рукопись. Он сказал:
– Это лучшее, что вы когда-либо написали. Это лучшее, что написано в наше время. Теперь, раз и навсегда, о войне сказано все.
Его голос звучал хрипло, однако он заставил себя сказать правду.
Когда он остался один, он взвесил все. Его жизнь была полна превратностей. Он был не только писателем, но государственным деятелем и солдатом. Владыки мира почитали его, прекраснейшие женщины Рима любили его. Он написал великую книгу, его бюст стоит в храме Мира. Но то, что он тщетно пытался сказать своей трудной жизнью и своей толстой книгой, сказано Юстом на каких-нибудь пятидесяти страницах. И мальчик Павел, за которого он так долго и с такими жертвами боролся, сам открыл свое сердце Юсту.
Он ощущал в себе глубокую пустоту. После того как он прочел написанное тем, другим, ему казалось бесцельным самому работать дальше.
Иосиф написал Маре. Просил ее, заклинал приехать поскорее. Ее присутствие, думал он, даст ему новые силы для работы. Но он знал, что Мара не отступит от своего решения и не покинет хутора «Источник Иалты» до тех пор, пока не доведет там свою работу до конца.
Прошли зима и весна, но Дорион не удалось ни разу повидать Иосифа.
Настал день, когда она узнала о его плане вызвать к себе Мару, сделать ее римской гражданкой, снова на ней жениться.
Рассказал ей об этом Марулл. Пока Марулл был здесь, ей удавалось сохранять самообладание, улыбаясь, болтать о пустяках. Но потом, когда она осталась одна, эта весть обрушилась на нее всей своей тяжестью, она задыхалась, голова ее мучительно болела, с искаженным лицом лежала она ничком на диване.
Что Мара благодаря Иосифу станет полноправной римской гражданкой, тогда как сама она еще не была ею, казалось Дорион неслыханным унижением. Она забыла, что когда-то противилась тому, чтобы узаконить свой брак с Иосифом, и что теперь для римского гражданства ей достаточно сказать Аннию Бассу одно слово. Но она не хотела стать римлянкой благодаря Аннию, она хотела стать ею благодаря Иосифу, – она, а не та, другая. Что разделяло их теперь, с тех пор как он отослал ее мальчика? Хорошо, она ждала, чтобы он сделал первый шаг, а он считал, что его жертвы вполне достаточно. Ее точка зрения была правильной, но заслуживали внимания и его аргументы. Все это – недоразумение. Еще не хватало, чтобы она, Дорион, оказалась не в силах вытеснить эту провинциальную еврейку!
Но когда спустя два часа пришел Анний, она забыла о своем намерении вернуть Иосифа, и в ней кипела только ярость. На этот раз она начала всячески поносить Иосифа перед изумленным Аннием. Она не кричала, не шумела, как Анний, она говорила тихо и небрежно, но так злобно высмеивала своего бывшего мужа, как этого никогда бы не сделать Аннию. Она знала жизнь Иосифа и его самого до последних деталей, и из этого интимного знания извлекла те черточки и эпизоды, которые казались ей подходящими, чтобы выставить его в смешном или отвратительном свете и все это выложить Аннию. Тот смеялся, смеялся все сильнее, смеялся оглушительно. Но постепенно беспредельная ненависть, которой веяло от нее, несмотря на всю элегантность ее выражений, оттолкнула его.
– Пожалуйста, пусть только Павел не знает об этом, – вот все, что он сказал после ее вспышки.
Но этой вспышкой ярость Дорион и кончилась, и в ней не осталось ничего, кроме решения вернуть Иосифа. Когда Павел в следующий раз отправился к отцу, она слегка сдавленным голосом поручила ему пригласить Иосифа осмотреть дом в Альбане, который был теперь наконец готов.
Два дня спустя Иосиф поехал в Альбан. Его не занимала ни прекрасная, волнистая, сияющая в весеннем воздухе местность, ни отлогие холмы, ни прелестное озеро, ни сверкающее вдали море, ни красивые виллы на склонах и вдоль берегов озера. Он приехал без всякого плана, он ничего не хотел от Дорион, но он был неуверен в себе, не знал, как подействует на него сейчас ее вид, ее речи, он был взволнован и полон тревоги.
На этот раз она ждала его у ворот имения. От радости, что она снова его видит, ее лицо сияло. Она протянула ему обе руки, привела его в дом, была, как в давние времена, ребячлива и остра. С любезным вниманием отметила она каждую перемену, происшедшую в нем, наговорила ему тысячу милых дерзостей, пыталась покорить его всеми способами, какие были в ее власти. Даже выгнала из комнаты кота Кроноса, когда ей показалось, что он раздражает Иосифа.
Она очень понравилась Иосифу, он вполне оценил всю ее прелесть. Но и только. Не без страха подверг он себя этому последнему испытанию; но он скоро и с радостью понял – испытание выдержано. Он исцелен отныне и навсегда от этой страсти, которая его так часто унижала и заставляла действовать против его воли и против его предназначения. Он мог быть дружен с этой женщиной, если она этого хотела, но никогда больше не поставит он ради нее на карту свою жизнь или свою работу. Он чувствовал в себе уверенность и спокойно наслаждался своей победой.
Даже с Финеем встретился он спокойно. Финей ожидал от Иосифа всяких колкостей, касающихся их прошлых отношений. Но Иосиф не говорил никаких колкостей, он не разрешил себе никаких проявлений дешевого торжества, он даже добродушно подшучивал над той борьбой не на жизнь, а на смерть, которая некогда велась между ними. Это спокойствие Иосифа раздражало Финея, действовало ему на нервы, его чувство превосходства исчезло, его крупная голова еще больше побледнела, мускулы лица напряглись. Дорион же чувствовала, что эта уравновешенность в речах и поведении Иосифа унижает ее более глубоко, чем могла бы унизить любая насмешка.
Когда Павел и Финей удалились, она сделала последнюю попытку. Она рассказала Иосифу о том, как упорно настаивает Анний на том, чтобы она вышла за него замуж; однако он, Иосиф, был до некоторой степени прав, Анний слишком шумлив и часто действует ей на нервы, для очень многого, что ей дорого, у него нет внутреннего слуха. Она предала своего солдата и надеялась, что теперь Иосиф предложит ей выпроводить Анния и снова сойтись с ним.
Однако Иосиф не предложил ничего подобного. Больше того, он выказал к будущему Дорион спокойный интерес, заявил, что Анний, в качестве ближайшего друга принца, вероятно, получит со временем верховное командование армией и что Дорион должна хорошенько подумать, прежде чем отказываться из-за пустяков от подобных перспектив.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.