Читать книгу "Иностранная литература №11/2012"
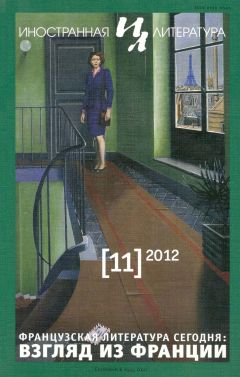
Автор книги: Литературно-художественный журнал
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я возвращаюсь на Восточный вокзал
Я возвращаюсь на Восточный вокзал. Возвращаюсь к тем первым дням в Париже, когда, возможно, для Рембо все было сыграно в три коротких акта: вмиг приобретенная репутация величайшего поэта, предельно ясное осознание того, какая ненужная вещь эта репутация и ее безжалостный разгром.
В этом участвовал не один только Верлен. Мы ведь знаем, что в Париже, в сентябре, Верлен ввел его в литературные кафе, в эти пещеры, где по вечерам на мраморных столиках поднимался пар от чашек кофе с водкой и дым из трубок, пенились кружки с пивом, разворачивались газеты, а над кружками и газетами, в тусклом синеватом газовом свете были бороды поэтов, позы поэтов, мнимое бесстрастие, мнимые шутки, и глаза поэтов, которые глядели на вас, приехавшего из Шарлевиля. Но за всевозможными пестрыми завесами в этих пещерах, в кафе “Мадрид”, в “Дохлой крысе”, в “У Баттюра”, в “Дельте”, в бесчисленных филиалах “Академии абсента” крылась еще одна, Рембо заметил ее сразу, возможно, даже быстрее, чем разобрал, в какой чашке кофе с водкой, а в какой абсент: именно эта, последняя и главная завеса, все плотнее прилегавшая к их коже, вырабатывала остальные, внешние защитные слои, которыми были бороды, газеты, кружки с пивом, – сумрачная завеса обиды. Многоликое воплощение обиды – вот чем были поэты в тогдашнем Париже.
Каждый из этих обиженных сыновей ждал, что придет отец и признает его обиду правомерной, выведет его из толпы, возвысит до себя и усадит одесную на невидимом троне; каждый из них хотел уклониться от жизни в гражданском обществе, выйти за его пределы, занять подобающее место в некоей обособленной среде, где действуют свои законы; но монастыри позакрывались, “голубую кровь” никто уже не воспринимал всерьез, казарма рухнула среди льдов вместе с сыновьями в украшенных перьями киверах, маршалами Империи, где-то под Смоленском или на Березине; вот почему все эти сыновья, желая дать понять, что они – сироты, изгнанники, а значит, лучше других, вот почему все эти сыновья становились не капитанами, баронами или монахами, а поэтами; так у них повелось с 1830 года; но с 1830 года прошло немало времени, и эта песня перестала впечатлять; возможно, ее распевало слишком много глоток; слишком много народу претендовало на награды в потустороннем мире; а главное, по сю сторону не осталось никого, кто отвечал бы за раздачу этих наград: Бодлер умер, Старик общался исключительно с Шекспиром, вселявшимся в ножки его стола, и давно уже не было в Сен-Сире короля, принимающего решение в последней инстанции, да и принцип отбора был утерян. Посвящение в поэты, которого с такой страстностью добивался Рембо, которого, пусть и не так страстно, добивались, по-видимому, все сыновья, – перестало быть возможным, потому что больше никто не имел права отдать соответствующее распоряжение. Все эти Растиньяки потустороннего мира сгорали от неутоленного честолюбия, прикрываясь сочинением посредственных, никому не интересных сонетов, необычной манерой поведения, заслонившись кружками с пивом и газетами, они жили в ожидании, поскольку, с одной стороны, знали, что допущены в круг избранных, а с другой стороны, знали, что это не так: конечно, у каждого был свой черенок, но стоит ли им дорожить, если он выдается всем без разбора?
А пока они позировали фотографам. Ибо каждый успел усвоить, что не стоит полагаться на никому не интересные сонеты, похожие на сжатые кулачки размером в четырнадцать строк, которыми они грозили будущему, не стоит полагаться на поэзию: лучше принять позу изгнанника, заложить два пальца за жилет, разметать гриву непокорных волос – и тогда восхищенное потомство само выбежит к вам из-под черного капюшона фотографа; усевшись на заветный табурет, они трепетали перед встречей с потомством: Старик трепетал перед Надаром, перед Каржа, он замирал при виде черного капюшона; точно так же перед Надаром и Каржа замирал Бодлер; кроткий Малларме замирал перед ними; Дьер, Блемон, Кресель, Коппе – все трепетали перед Надаром и Каржа. Даже сам Рембо…
Октябрьский вечер. Впрочем, это еще не вечер, а вторая половина ясного, погожего дня старого месяца октября. Сегодня воскресенье, мы на Монмартре и, поскольку это уже почти за городом, на круто спускающихся вниз улочках нет ни души. Тут все заросло деревьями, каштанами и платанами, от их ослепительного сияния сжимается сердце, желтые, наполовину облетевшие, вырисовываются они на голубом небе, вздымаются ввысь, облитые светом. Золотые листья летают у вас под ногами, улочка на склоне холма словно ведет вас на небо – и вдруг появляются они; вчетвером или впятером они поднимаются по склону, молодые, неисправимые сыновья, ни капитаны, ни монахи, хоть и облаченные в невидимую рясу, просто сыновья, поэты, как говорили тогда; Верлен и Рембо, а дальше всякая мелочь, Форэн, Валад или Кро, и еще Ришпен – которого они называют Ришоп. Аккуратные черные фраки, шляпы, в солнечном свете все это видится как яркие черные проблески; сегодня они принарядились: кто-то из них, вероятно, Ришпен, он подходит по росту, одолжил Рембо свою униформу. Галстук слабо завязан, немного свисает, а вообще костюм в полном порядке, белье свежее, обувь начищена, и на голове у воплощенной поэзии – шапокляк, большой складывающийся цилиндр, у которого такой вид, будто он сам и есть поэзия, – словом, все атрибуты, какие полагаются обиженному сыну третьего поколения, тут налицо – все, но только не “кусок пурпурного китайского атласа”[12]12
Слегка измененная цитата из “Легенды о красном жилете” Теофиля Готье.
[Закрыть], который так превосходно сочетался бы с осенней листвой, только не красный жилет, который надевался лишь однажды и всего на три часа, на премьере “Эрнани”, когда История разглядела его в свой бинокль. Его больше не носят; и вдобавок сейчас тот, кто был в этом великолепном красном жилете, Теофиль Готье, отечный, расплывшийся под своим красно-белым шерстяным колпаком едва видит вас из-под опухших век, а если видит, то не узнаёт, он слышит бурю более могучую, чем буря на премьере “Эрнани”; он умрет сегодня, 23 октября, и отек не спадет, когда завтра или послезавтра его понесут на кладбище Монмартр, это совсем недалеко отсюда, и мне хочется верить, что сыновья, одетые так же тщательно, как сегодня, придут туда, они скажут, что это был старый мерзавец, и громко захохочут, но все же будут огорчены и между двумя бокалами вина услышат бурю на премьере “Эрнани”. Рембо, возможно, вспомнит Изамбара, в тот момент, когда Изамбар протянул ему “Эмали и камеи”. Сыновья идут по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Они курят трубки, дым помогает при похмелье, и осенняя листва помогает тоже. Рембо говорит, что дохнет со скуки, он мрачен. Сыновья открывают калитку ворот дома io, снимают шляпы, они отпускают шуточки: в доме есть второй двор, в глубине которого – большое окно, сверкающее на октябрьском солнце. Все пятеро входят. Это здесь.
Это квартира Каржа.
Каржа – тоже сын, пусть он и чуть постарше своих пятерых приятелей. Не по всем признакам, но все же сын. Мы знаем – книги знают, – что он вышел из народа; что его мать была консьержкой и жила в комнатке на первом этаже, в глубине парижского двора, в доме, который принадлежал шелковому фабриканту: а значит, это был маленький и очень глубокий двор-колодец, возможно, даже вонючий, под ногами струился разноцветный ручеек, а где-то в вышине виднелся маленький кусочек неба; но мы не знаем, выкопал ли он внутри себя для своей матери колодец, соразмерный этому двору, авторы кратких предисловий к каталогам его работ не забирались так далеко; ибо хоть он и сын, но сын на вторых ролях. У него нет своей золотой легенды. Мы видим, как он врывается, словно ветер, в легенды других, Бодлера, Курбе, Домье, Старика, потому что питает к ним глубокое уважение (а они к нему – нет), потому что питает к ним дружескую привязанность (иногда взаимную), а еще – ради большого черного ящика, в котором он сохранил их всех с помощью галогенидов серебра. Многое говорит в его пользу: по слухам, из художников только он шел за гробом всеми покинутого Домье – он и еще Надар, друг Надар, старший собрат, соперник, лучший в своем деле. Но знаменит он не этим, а тем, что именно он распоряжался светом, приборами, регулирующими яркость света и время его воздействия, а также фиксирующими его хлоридами в памятный октябрьский день, когда появился тот овальный портрет размером восемнадцать на двенадцать с половиной, о котором я буду говорить, портрет, столь же известный всему миру, как плат святой Вероники; иногда фамилию Каржа даже указывают на овальном портрете, но строчкой ниже, чем другую фамилию, и в скобочках, или шрифтом помельче. Он не дожил до того времени, когда овальный портрет приобрел мировую известность, он умер в 1906 году; сам он вовсе не рассчитывал, что этот портрет прославит его, он хотел совсем иной славы, потому что был сыном, художником, и по своей внутренней сущности, и по внешнему облику, и мечтал прославиться именно в этом качестве; но у него ничего не вышло, так как по причине гедонизма или неверия в себя (оба эти свойства часто встречаются у сыновей), либо по причине здравомыслия и сдержанности (эти свойства у сыновей обычно отсутствуют) он не решился подменить жизнь работой; не захотел вовремя понять, что надо всецело отдаться одной-единственной мании (искусству, как это еще называют), отдаться навсегда, без сожаления закрыться с ней в огромном мешке, на дно коего вы побросали мать, которая у вас была, детей, которых у вас никогда не будет, и всех остальных людей на свете – а затем, хорошенько утоптав эту площадку, выстроить на ней здание, которое превратит вас в вечного сына. Ибо творчество принадлежит к породе людоедов. Каржа не решался пожирать других и боялся, что сожрут его самого: поэтому он заставил свою манию слегка потесниться, чтобы дать место супруге и дочке, которую она ему родила; и, поскольку эта мания, единственная и монолитная, внушала ему страх, он раздробил ее на части, занимаясь различными искусствами; он, конечно, был фотографом, но еще и живописцем, еще и драматургом; однако, помимо всех этих увлечений у него была заветная мечта: чтобы его признали за поэта, ведь он сам себя считал поэтом, а значит, был им – мания, вера, желание, которые могли завладеть им в 1848 году, когда ему исполнилось двадцать лет, почти столько же, сколько было Бодлеру; когда он, как Бодлер, нюхнул пороху и принял восстание за взмах волшебной палочки, которая избавляет от отцов, не налагая обязательства самому стать отцом; как Бодлер, вернул своему жилету красный цвет, а впоследствии, как и Бодлер, тщательно прятал его под другим, длинным и черным, и после 1850 года писал стихи, полные сожалений о недавнем прошлом. Но в отличие от друга Бодлера он не поймал вовремя свою струну, когда был молод, когда она пролетала совсем рядом, среди знамен экстаза, не поймал ее и не начал играть на ней, бросив все остальное; вот почему, вместо того чтобы затянуть потуже черный жилет и под ним вынашивать двустишия, эти мантры Запада, до самого “клятья”, то есть стать поэтом, он стал свободным художником – человеком, который никуда не спешил, который менял жилеты и не мог определиться, кто же ему отец – Надар, Гюго, Курбе или Гамбетта. Он писал стихи и делал фотопортреты. Это был хороший актер на вторых ролях.
Он видит, как по залитому солнцем двору идут пятеро друзей, у всех на голове цилиндр, который Малларме превратил в некое подобие епископской митры, а под цилиндром – грива непослушных волос.
Он ждал прихода сыновей, он впускает их. Это такой же рослый и сильный мужчина, как Рембо (и мы не можем не представить себе, хоть на секунду, что они неплохо смотрелись, когда три месяца спустя, в середине зимы, на обеде литературного объединения “Гадкие человечки” сцепились друг с другом в лучших традициях 1830 года, и Рембо ранил Каржа тростью-шпагой, ставшей с тех пор частью его мифологии). Рембо по справедливости пропускают вперед, и они с Каржа обмениваются рукопожатием, Каржа знает от кого-то из их компании, что должен сегодня сфотографировать этого совсем молодого человека, который пишет чудесные стихи и с которым он еще не знаком. Поскольку он также знает, что характер у будущего гения непростой, то встречает гостя очень приветливо, просит расположиться поудобнее, чтобы позировать для фотографии, у него так принято. Мы не знаем, что они сказали друг другу в 1871 году. Цилиндры висят на большой вешалке в коридоре, они наклонены в разные стороны, а один лежит горизонтально, на полке для шляп. Возможно, все выпивают по стаканчику. Каржа остался стоять. Рембо, скорее всего, сел, он ничего не говорит – но если бы мы были там, то непременно заметили бы, что все эти приготовления, нарядный костюм, атмосфера важного события, подчеркнутая любезность хозяина дома раздражают его: он вспоминает нарукавную повязку и кепи, как в Шарлевиль на пригородном поезде заезжал какой-нибудь захудалый фотограф, и мать, наклонившись, поправляла этот нелепый лоскут церковного облачения на его рукаве, закалывала булавкой складочки, разглаживала кружева. Рембо краснеет. В нем просыпаются давний стыд, давняя любовь, ему страшно, и он готовится дать отпор: потому что сегодняшний фотограф – не сонный бродяга с пригородного поезда, а парижанин, мастер своего дела. Он Бодлера фотографировал.
Мастер склонился над ним и разглядывает его.
Итак, два сына сошлись лицом к лицу: тот, кто до сих пор писал лишь стихи в подражание Гюго, но подражал очень старательно, и теперь оказался перед трудным выбором, потому что перевидал всех представителей “Парнаса” и подозревает, что быть воплощением поэзии – не то же самое, что быть первым среди парнасцев либо представителей любой другой школы: такое звание никем не присуждается; а главное, потому что он заметил: поэзия ведет вниз, все равно как улица Нотр-Дам-де-Лорет, это движение по наклонной плоскости, в результате которого вы оказываетесь либо в брюссельской гостинице, либо, если вам очень повезет, на Гернси, перед вертящимся столом, где вы станете властелином своего маленького мирка, фокусником, шарлатаном. Вот он и не решается ступить на этот опасный путь. Сейчас он, фотограф, склонился над другим сыном, он чувствует собственную значимость, но не понимает, в чем ее суть, и объясняет ее тем, что он художник – тогда как на самом деле он просто орудие Времени, слепое и безотказное, как топор палача. Он смотрит на свою модель. Галстук слегка обвис: мастер видит его цвет, о котором мы можем только догадываться. Жилет может быть красным, а может быть и черным, это не имеет значения, поскольку фотография черно-белая. Он думает, что галстук надо поправить; потом думает: нет, не надо, ведь молодой человек – поэт, а поэтам идет свободно повязанный галстук. В полутемном коридоре на вешалке поблескивают цилиндры. Рембо что-то говорит, наверно, какую-то непристойность, потому что все смеются, гости встают, расхаживают в своих черных фраках по освещенной неярким солнцем комнате. Потом вдруг в считаные секунды они все оказываются в ателье.
Октябрь врывается через окно, заливает ателье голубым светом. Снаружи, понятно, поднялся ветер, и небо стало казаться еще выше. В ателье стоят высокие комнатные растения в горшках, свет воздействует и на них, придает их зелени сочность и сжигает их, правда, не так быстро и не так страстно, как это у него получается с солями серебра. Громадная камера ждет, возвышаясь на штативе, между передней и задней стенками у нее гармошка, как между вагонами. Из передней стенки торчит труба, на край которой надето – надо же! – что-то вроде цилиндра: широкие кольца из желтой меди и черного бакелита вставлены друг в друга и переливчато блестят. Дальше – возвышение, на нем табурет, стена позади прикрыта унылой драпировкой. Рембо садится туда, где раньше сидел Бодлер. Актеры на вторых ролях стоят у стены напротив, они дают советы, и каждый воображает, будто его совет – на уровне исполнителя главных ролей. Каржа приносит пластинки, вынимает их из футляров. Снимает с трубы чехол. Ныряет под черный капюшон. Рембо написал “Пьяный корабль” так, словно готовился к смерти, вот о чем он сейчас думает, пусть “Пьяный корабль” и не поэзия в точном смысле слова, но все же он тщательно отшлифовал эту вещь, рассчитывая, что в таком виде она понравится парнасцам, все же он сумел написать такое. Его шея горделиво выпрямляется. Небо за окном наполнилось гремящей медью. По холодному, как лед, стеклу скользят золотые листья. Между ним и нарукавной повязкой, между ним и колодцем заструился водопад из ста строк – “Пьяный корабль”. Он атакует с первых строк, спускается по течению бесстрастных рек, несется вперед, танцует; его губы не шевелятся; мать встает. Она наклонилась над белым лоскутом, это она написала сто стихотворных строк в окончательном варианте, для “Парнаса”, она рыдает и падает, она поднимается и ликует. Она ныряет и выныривает, как пробка на воде. Каржа из-под капюшона командует: поверните голову сюда, теперь туда. Рембо делает, что ему говорят, в его чуть заметно поворачивающейся голове, словно волны, словно ветер, надвигаются, стих за стихом, безупречные, бесстрастные строфы. Полустишия слегка раскачиваются, слоги, дюжина за дюжиной, низвергаются на деревенскую девушку, она плачет и громко смеется. Ведь это написано ею. Это она превратила “Парнас” в ничто. Небосвод над ними огромен, как отец. Рембо давно уже затаил дыхание. Каржа открывает затвор. Свет набрасывается на галогениды серебра, сжигает их. В это мгновение Рембо тоскует по Европе.
Это мгновение октября приобрело мировую известность. Возможно, тогда в чьей-то душе и чьем-то теле восторжествовала истина; но мы видим только тело. Всем знакомы эти взъерошенные волосы, эти глаза, вероятно, бледно-голубого цвета, их ясный взгляд устремлен не на нас, а на что-то, находящееся за нашим левым плечом, Рембо видит растение в горшке, которое поднимается к октябрьскому небу и медленно сгорает, но нам кажется, что его глаза видят грядущую силу, грядущее отречение, грядущие Страсти, “Сезон в аду” и Харар, пилу, отрезающую ему ногу в Марселе; и, скорее всего, он, как и мы, думает, что у него перед глазами поэзия, этот призрак, чья истинность подтверждается самим обликом поэта: взъерошенными волосами, ангельским овалом лица, нимбом недовольства, – но, вопреки всякой достоверности, этот призрак одновременно витает за его левым плечом, и, когда он оборачивается, призрака там уже нет. Поэзия исчезла, мы видим только тело. Но разве в стихах видна душа? В море света за окном бушует ветер. Священные митры остались в коридоре, неприметные и забытые. Руки актеров на вторых ролях бессильно повисли. Эти люди притихли. Они не знают, что сжатые губы продекламировали “Пьяный корабль”, но подозревают, что эти губы продекламировали какие-то стихи; они ведь тоже фотографировались, и, сидя на табурете, каждый самозабвенно декламировал про себя свой шедевр актера на вторых ролях. Как и мы, они не знают, на какой именно строфе Каржа открыл затвор, какое слово он поймал в свой ящик; нет, мы не можем утверждать, что в это мгновение Рембо тосковал по Европе. Мы не видим его “рук прачки”. Галстук, как всегда, немного обвис; какого он цвета, остается неизвестным.
Каржа делает и другие снимки, но их мы не видели – позднее, когда между ним и Рембо произойдет стычка, он их уничтожит. Он не знает, что создал сейчас свой шедевр. Сыновья сидят на полу и отпускают шуточки, Рембо замкнулся в себе, эти поэты с их повадками развращенных детей действуют ему на нервы. Мы вдруг перестаем их замечать. Мы же не собираемся торчать здесь до вечера. Нам здесь больше нечего делать. Каржа уносит пластинки в другую половину ателье, там у него приготовлены кюветки, нитраты, дело не ждет, а сыновья знают дорогу. Они разбирают цилиндры, вешалка в коридоре опустела. На пятерых сыновей обрушивается небо; мы на улице, свет октября убывает, деревья колышутся, золотые листья летят в незатейливом ритме ветра. Они словно драгоценные камни под ногами. Приходится придерживать шляпу, черные отблески во всю прыть спускаются по склону. Мы идем по Парижу, семь раз одна звезда зажигается в Большой Медведице, мы пришли в “Академию абсента”.
А еще говорят, что Жермен Нуво, поэт
А еще говорят, что Жермен Нуво, поэт; что Альфред Мера, Рауль Поншон, Стефан Малларме, поэты; что Эмиль Кабане, музыкант; что Анри Фантен-Латур, живописец; что Жак Поот, издатель из Брабанта; что жившие к востоку от Суэца Пьер и Альфред Барде, негоцианты; что Сотиро, мелкий служащий в торговой фирме; что Поль Солейе и Жюль Борелли, исследователи; что Менелик, царь; что Маконнен, рас, то есть князь; что Джами, юный и очень нежный возлюбленный; что монсиньор Жаруссо, епископ in partibus[13]13
Епископ in partibus – сокращенное от “in partibus infidelium” (лат). – епископ, управляющий епархией в стране с нехристианским населением.
[Закрыть]; что шесть безымянных черных абиссинцев, бегущих к берегу моря с носилками; что специалисты по неотложной помощи к западу от Суэца, доктора Никола и Плюэт, ловко орудовавшие пилой в марсельской больнице; что аббат Шолье, после применения пилы предложивший пациенту причаститься; что Изабель Рембо, его сестра, у которой во время агонии он требовал чего-то, то ли Бога, то ли золота и мальчиков – этого мы никогда не узнаем; что двое или трое белых могильщиков из Шарлевиля, таких же безымянных, как черные абиссинцы; короче говоря, мы знаем, что множество свидетелей видели своими глазами этот миф, когда он был еще не мифом, а рослым молодым человеком, которому предстояло состариться и умереть. Этот рослый молодой человек, чьи приступы гнева постепенно сошли на нет, потому что на парте перед ним больше не лежали Вергилий и Расин, Гюго, Бодлер или скромный Банвиль, питавшие его гнев; у него, впрочем, и парты давно уже не было; вместо парты был верстак с разложенными на нем руководствами для мастера-самоучки, а вокруг стояли черные и белые люди, которых я назвал. По этой причине все они, так же как Изамбар, как Банвиль и Верлен, все, кто были как-то связаны с ним, то есть играли для него роль отца или брата, передавали друг другу призрачный горн, – все эти люди заслуживают того, чтобы я посвятил каждому их них отдельную главу.
Но я не стану писать эти главы.
Я не стану заниматься этими людьми.
Вы, молодой человек из Дуэ или из Конфолана, вы видели этих людей; вы их знаете лучше, чем я: остановив мотоцикл перед библиотекой, сняв наушники плеера, зайдя под прохладные своды и гордо встав перед кафедрой в пустынном читальном зале, где дремлют референты, вы попросили у дежурного сотрудника в сером халате, у сидящего, маленький сборник канонических материалов по Рембо с его канонической иконографией; глядя свысока на сидящего, поправляя упавшую на лоб прядь волос и, быть может, чувствуя, как ваша черная куртка мотоциклиста трещит под напором вырастающих за спиной крыльев, вы попросили не сочинения Банвиля, Нуво или Верлена, но альбом с иллюстративными материалами по биографии Рембо из серии “Библиотека Плеяды”. Ибо вы не без основания думаете, что смысл, который кружится вихрем и исчезает в “Озарениях”, можно будет обрести снова, если взглянуть на непритязательные портреты людей, живших в ту эпоху.
Вы видели этих людей; вы пытались найти ответ в их портретах, помещенных в маленьком сборнике канонических иллюстративных материалов; и, страница за страницей, их взгляды, некогда устремленные на воплощение поэзии, останавливались на вас. Страница за страницей, вы, чувствуя на себе эти непроницаемые взгляды, задумывались о том, что же на самом деле значит быть очевидцем. Вы пришли к заключению, что портреты, собранные в этом альбоме, совершенно бесполезны, однако вы с благоговейным прилежанием пытались найти в них ответ. Вы представили себе тех, кого нет в этом сборнике, абиссинских носильщиков, абиссинского возлюбленного, издателя из Брабанта в те моменты, когда они общались с Рембо. Там, в конфоланской библиотеке, заглянув вам через плечо, я посмотрел на них вашими глазами: если они были издателями, я видел, как они превращают “Сезоны в аду” в волшебную книгу ин-фолио, которая насыщает лучше, чем хлеб, но в еще большей степени разочаровывает; если они были поэтами, я видел, как они мысленно копируют какое-нибудь из “Озарений”, написанное в один миг, но им этого не хватает, чтобы насытиться, а когда они копировали этот маленький вихрь, в котором смысл, исчезая, прихватывает с собой и сам язык, я видел, как они сидели, разинув рот, словно Витали Кюиф, когда она в Шарлевиле слушала длинные вергилиевские тирады: мы с вами видели, как в Лондоне Жермен Нуво, читая одно из “Озарений”, приподнимал голову, и нам открывались его гордый профиль, поэтическая бородка и взгляд, меланхолически устремленный в туманную даль, вслед исчезающему смыслу. Если они были негоциантами, я видел, как они вместе с негоциантом Ринбо распаковывали тюки с антилопьими шкурами, полными смысла; если они были царями или князьями, я видел, как они торговались, покупая у него ящики с ружьями, в которых смысл был весомее свинца. Если они были живописцами, вы видели, как они создавали картину под названием “Угол стола”[14]14
Картина Анри Фантен-Латура (1836–1904), на которой изображены все перечисленные ниже поэты; написана в1872 г.
[Закрыть]; вы видели, как они с большим мастерством писали этот групповой портрет, на котором все, и шестеро поэтов, канувших в забвение – Бонье, Блемон, Экар, Валад, д’Эрвильи, Пельтан, и два поэта, блистающие среди звезд – Верлен и Рембо, сидят на одинаковых стульях, дышат одним воздухом, пьют одно и то же вино, и взгляд у них, пусть и с индивидуальными различиями, но, по сути, один и тот же, устремленный к нездешнему горизонту, где в голубой дымке брезжит посмертная слава; на одной линии с красавцем Эльзеаром Бонье в цилиндре, этой черной митре поэтов, вы видите Рембо, у которого вместо митры – его собственные волосы, как было принято в 1830 году, и которому в итоге досталась настоящая митра, нимб, дарованный Историей; и эта загадочная Тайная вечеря, где, вопреки канонам живописи, Сын среди сыновей сидит не в центре, простирая руки к сыновьям, но в стороне, и почти что повернувшись спиной к остальным, эта Тайная вечеря нового времени наполнила вас восхищением и смутным беспокойством. Если они были истинными художниками, они почувствовали и показали это – возможно, по чистой случайности, но хочется думать, что тут не обошлось без чуда. Если они занимались таинственным искусством, связанным с воздействием света на нитраты, и прятались под черным капюшоном, я сто раз видел и хочу увидеть еще раз, как они создают пресловутый овальный портрет, нерукотворный образ, более известный сейчас во всем мире, чем плат святой Вероники, более внятный и более ускользающий, драгоценную икону, на которой галстук вечно пребудет обвисшим, – галстук, чей цвет вечно пребудет неизвестным. Я его видел, и, возможно, мы все видели, как Каржа задумчиво смотрел на этот обвисший галстук, не зная, стоит ли завязать его потуже перед фотографированием. Мы видели Каржа в тот судьбоносный миг, когда он бросил на чашу весов овальный портрет, который весит столько же, или почти столько же, сколько целое творческое наследие. Мы видели и коротышку Сотиро, мелкого служащего-грека, среди прочего занимавшегося и искусством нитратов, когда его хозяин Рембо объяснил ему (до того, как встать перед объективом), как надевать черный капюшон, в какое отверстие смотреть, какую грушу сжимать в руке, какую шторку опускать – коротышку Сотиро, похожего на Тартарена и объяснявшегося с воплощением поэзии на весьма приблизительном французском языке, мы видели посреди бананового поля, он отошел слишком далеко, с такого расстояния лицо хозяина разглядеть невозможно; а по ту сторону от Сотиро, суетящегося у аппарата с капюшоном, который за большие деньги выписали из Лиона – ради такого пустяка протащили через всю пустыню, мы видели, как старый Рембо смотрит в глаза старухе из Шарлевиля: фотография предназначалась именно ей. Эти люди видели Рембо; эти люди вели с ним разговор; и о чем бы ни шла речь, о стихосложении или о ружьях, я видел, как все они либо ошарашенно замолкали и, принужденно рассмеявшись, начинали оправдываться, либо стучали в ответ еще громче – если они были царями или князьями, – когда Рембо случалось грохнуть кулаком по столу. Но я не буду больше о них говорить.
Ведь я, помнится, уже сказал, что у любого живого человека имелись только три возможности реагировать на существование этого человека, который к тому же являлся тогда (или ранее) воплощением поэзии – этого человека, который добровольно обрек себя на жизнь, наглухо замкнулся в собственной ненависти и в то же время настежь распахнул все двери навстречу беспредельной свободе, какую дает любовь без объекта, но у которого любовь и ненависть, сплетясь в одно целое, нашли себе в Слове столь идеальный объект, что этот человек, не перестав двигаться, желать и проклинать, практически перестал существовать, когда Слово рассыпалось в прах; кажется, я все сказал о том, какое человеческое поведение было дозволено по отношению к нему – если вы хотели остаться человеком: либо сразу признать его безмерное превосходство; либо притвориться, что не признаешь, и заявить об этом во всеуслышание, но отвести глаза и бессильно уронить руки, как сделал Изамбар; либо без конца отвечать на вызов, пускаться в объяснения, то есть предлагать сделку, заранее зная, что она будет проигрышной, – как в легенде, когда король при каждом взвешивании бросает на чашу весов свой золотой меч, – придется снова и снова наваливать на другую чашу кипы бумаги, исписанной за долгие годы, но стрелка весов даже не шелохнется: так вел себя Банвиль, вернее, тот обобщенный, многоликий человек, которого я для удобства назвал Банвилем. Наконец, можно было уничтожить его, ответить на Слово свинцом, как попытался сделать Верлен. Возможно, есть и другие предположительные варианты человеческого поведения, но я их не вижу – хотя от моего внимания не укрылись слепое повиновение и собачья преданность маленького человечка по отношению к большому человеку: так вел себя добряк Сотиро; но меня сейчас это не интересует, потому что повиновение не подобает человеку пишущему, я хочу сказать, что оно не идет на пользу вечному обновлению литературы.
Все же я не прочь оставить Артюра Рембо здесь, в обществе Сотиро, на банановом поле. Дружить с ним дело непростое, добряк Сотиро семенит по полю, взвалив на плечо фотоаппарат со штативом, ему трудно на коротеньких ножках поспевать за хозяином, у которого такой размашистый, мифологический шаг. Хозяин удаляется и постепенно исчезает из виду, растворяется среди пальмовых садов, исчезают его безупречные ритмы и ритмы нарочито небрежные, его постоянные delenda est[15]15
Усеченная фраза Катона “delenda est Carthago” – “Карфаген должен быть разрушен”, в переносном смысле означающая угрозу уничтожить кого-либо.
[Закрыть] и привычка то и дело повторять “Черт!” Быть может, сейчас он напоследок выкрикивает именно это слово, но оно звучит шутливо, почти ласково, доносясь из тени садов, в которой он растворился, и обращено к добряку Сотиро. Теперь и за самим Сотиро смыкается стена пальм, наверно, оба они сейчас отдыхают под банановыми деревьями, хозяин заснул, опять он надеется, отоспавшись, забыть свою бурную юность, а слуга не спит и смотрит на него. Мы их не видим. Кругом тишина. В тени деревьев не слышно призрачного горна; зато в Париже гремят фанфары, здесь поднимают новое знамя, на котором написано имя Рембо – уже не Гюго, и не Бодлера, эти идолы остались в прошлом, – и все готово для того, чтобы темная фея могла начать свою работу: полные любви прозаические сочинения ужасного Верлена, бредовые опусы поэтов Дарзена, Бажю, Гиля, Монтескью, Берришона, Гурмона, в чем-то провидцев, а в чем-то дилетантов из глухой провинции, вскоре к этому хору присоединятся Клодель, затворившийся в Соборе, Бретон, разносящий в пух и прах им же созданную причудливую иерархию поэтов, и ужасная и несчастная Изабель, спекулирующая на памяти брата. Теперь в Париже каждый узнаёт себя в овальном портрете, словно в зеркале, каждый готов взяться за толкование текста, словно за азартную игру, накрутить целый ворох интерпретаций вокруг небольшого, компактного, как стиснутый кулак, творческого наследия, в котором, как в кулаке, зажат невидимый смысл, – наследия, порожденного жизнью столь же пугающей, как вид отрезанного кулака. Он спит среди банановых полей. И, похоже, молчит. Вокруг завязалась ожесточенная схватка между желающими дать свое объяснение этому молчанию. Раз уж мне самому придется поучаствовать в схватке и высказать собственное мнение, я скажу, что, если он умолк, если, как мы любезно повторяем вслед за Малларме, он “при жизни удалил у себя поэзию”, это потому, что слово не стало той универсальной привилегией, о которой так страстно мечтал малыш Рембо из Шарлевиля, – немного позже он понял, что шансы стать такой привилегией есть только у золота (и я от всей души надеюсь, Артюр Рембо, что история о волшебном золотом поясе, который вы будто бы носили прямо на теле, под одеждой – правдивая история, и что в пустыне пояс обеспечил вам привилегию во всем).









































