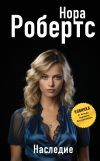Текст книги "Носорог для Папы Римского"
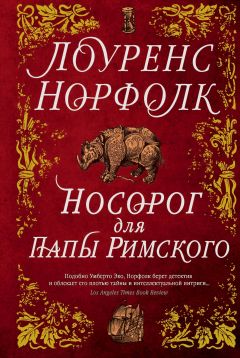
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
В ста двадцати четырех ярдах на юго-юго-восток от того места, где он предавался воспоминаниям, шло бессмысленное сражение с зарослями и ветками, звуки которого тревожили оставшихся на зимовку птиц и маленьких, живущих на деревьях млекопитающих, таких как белки. Бернардо наткнулся на колючий куст.
После того как их выловили, великан с каждым днем становился все более беспокойным и неуправляемым. Гнев его был в основном направлен на башмак, на отсутствие башмака, на неспособность Сальвестро найти башмак, но истинной причиной являлось бездействие. Жизнь в монастыре была размеренной. Из здания капитула доносилось пение. Из своего чулана они чувствовали запах готовившейся еды. В непостижимые часы монахи собирались в часовне, а то бродили по двое, по трое, сбивались в тесные кучки и переговаривались, неприветливо посматривая на остальных. Что до Сальвестро и Бернардо, то еду им давали дважды в день, и рацион оставался неизменным: черный хлеб и похлебка (утром), черный хлеб, похлебка и солонина (вечером). Доставляли это все те же трое молоденьких монашков, что и в первый вечер. По пятницам – вяленая рыба. Бернардо безуспешно пытался с ними поговорить, и все его разговоры неизбежно кончались фразой: «Жратва мерзкая, но и на том спасибо». Послушников забавляли его выходки.
Остальные полностью их игнорировали, смотрели сквозь новоприбывших, словно бы их и не было. Монахи сколачивали союз, интриговали друг против друга. Однажды днем Сальвестро спустился к берегу, глянул наверх, в зияющую дыру, которая когда-то была церковным нефом, и увидел, что глина под руинами пропиталась влагой, а значит, летом она высохнет и выкрошится. В воде у берега лежали обтесанные камни – свидетельства катастрофы. Этих камней станет больше. Он недоумевал: а понимают ли это монахи? И если понимают, то почему их это не беспокоит? Кажется, они никогда сюда не спускаются. Он огляделся – берег, уходящий на северо-запад, потом море, а вслед за тем снова берег, но простирающийся на юго-восток. Далее – склон за его спиной, чем ближе, тем круче, тропа, по которой он спустился. А наверху, в начале тропы, – монах, молча наблюдает за Сальвестро, который вдруг почувствовал, что ему не следовало сюда приходить, словно его застали за чем-то постыдным, неправильным. Он помахал рукой. В лице монаха имелась какая-то странность, но в тот момент он не смог определить, в чем же тут дело. Монах не ответил на приветствие, резко развернулся и исчез. Осыпающийся обрыв. Разрушающаяся церковь. И тут Сальвестро понял: лицо монаха было искажено чем-то похожим на ярость. Он не раздумывал почему да как, он просто тотчас же понял, что именно в этом кроется некий изъян его новой обители. Море мирно плескалось у основания обрыва; именно поэтому монахи разбились на враждующие группы и фракции. Он двинулся вверх по склону, прошел мимо лодки Эвальда, в которой было полно льда, и быстро прошагал к себе в каморку. Больше он к морю не спускался.
– Благодарю, брат Ханс-Юрген.
Монах удалился, закрыв за собой дверь. Приор указал на табурет:
– Садитесь.
Сальвестро сел. Приор снова склонился над пергаментами. Сальвестро видел черные волнистые строчки, загнутые углы, два деревянных блока, удерживавшие листы, чтобы те не скручивались. Сидевший перед ним человек собрался с мыслями, а потом спросил:
– Вы вернулись, чтобы причинить зло Брюггеману, не так ли? А ведь он был вашим другом.
В том, что он не может найти башмак Бернардо, был виноват приор. Если б приор не задерживал Сальвестро, башмак давно бы нашелся. Но ему пришлось отвечать на вопросы – после первого вызова последовал второй, потом еще и еще. Он стоял на тонком, хрупком основании настоящего, но вопросы приора давили, и основание начинало содрогаться, трещать. Под ним клубилось «прежде», и это «прежде» было темным и бездонным. Он утонет в этаком «прежде».
– Нет, – ответил он.
– Тогда почему вы вернулись?
На столе у приора валялись гусиные перья, стояли маленькие глиняные горшочки, какие-то закупоренные бутылочки, амулеты, назначение которых было ему непонятно. И бумаги, бумаги. Он уже подготовил речь для такого случая, для ответа на неизбежный вопрос, да, целую речь, полную цветистых и решительных выражений. Он вернулся, чтобы сделать то, чего еще никто не совершал, – чтобы отыскать Винету. Он – искатель приключений, бесстрашный и неукротимый. Чтобы обрести внутренний мир, бросить якорь, ему нужна великая цель. Такая, как подводный город. И приор спросит, снискал ли он вожделенный мир, успокоился ли дух его, а он (возможно, со слезами на глазах) воскликнет: «О нет!» И тогда они преклонят колени и вместе помолятся – он знал пару молитв. Если надо, он и в грехах покается.
Но только он начал заготовленное выступление, как приор взглянул на него и поднял руку – с таким выражением на лице, будто слышал вопли дерущихся котов:
– Вы лжете. Идите прочь.
Опешив, он словно прирос к табурету.
– Вон!
Он встал.
Ханс-Юрген стоял в проходе, и лицо его, как всегда, ничего не выражало. В конце прохода Сальвестро увидел двух братьев со свечами и миской в руках. Они скрылись за первой из тех дверей, мимо которых Сальвестро с монахом недавно проходили. Ханс-Юрген повернулся, и Сальвестро понял, что надо следовать за ним. Из-под той двери сочился слабый свет свечей. Монах остановился.
– Что вы здесь делаете? Это долг брата Флориана! Кто вам позволил?…
Сальвестро глянул через плечо кипевшего от ярости монаха и увидел келью, столь же скромно обставленную, что и келья приора, разве что, может, чуть попросторнее. Те двое монахов сидели на лежанке у дальней стены и поддерживали на весу истощенную, похожую на скелет фигуру старца в грязной ночной рубашке и толстых вязаных носках. Голова старца безвольно болталась, рот был открыт. Иссохшая кожа плотно обтягивала кости. И хотя монахи подпирали его с обеих сторон, понятно было, что руки и ноги совсем отказываются служить несчастному. Монахи пытались накормить старика, совали ложку ему в рот, но он то ли не хотел, то ли не мог глотать, и еда лилась на донельзя измазанную рубаху. Единственное, что еще слушалось старца, – это глаза. Они бегали из стороны в сторону, словно старик хотел разглядеть лица своих мучителей.
– Брат Флориан не годится для того, чтобы ухаживать за ним, – сухо ответил один из монахов.
– Кто так решил? – спросил Ханс-Юрген. – Герхард?
Но те двое продолжали пихать еду в рот своего пациента. Ханс-Юрген переспросил:
– Так это Герхард, он приказал?
Ответил тот же монах, – взглянув на него, он сказал:
– Поскольку тебя, Ханс-Юрген, этот твой бабуин интересует куда больше, чем твой настоятель, то и веди его обратно в клетку. Или, может, наш приор задумал отправить его домой, в дальние края?
Ханс-Юрген снова повел Сальвестро к кладовой. Молчание его было чревато взрывом. Сальвестро улегся на голый пол: Бернардо сгреб под себя почти всю солому и сейчас мирно храпел. Он вспо-мнил раннее утро, путь по берегу к лодке Эвальда, – казалось, это было давным-давно. Той ночью ему пришлось многое обдумать, а последовавшие дни ставили перед ним все новые и новые вопросы. Времени на то, чтобы разыскивать башмак Бернардо, не было, но жалобы великана – они, как обычно, оканчивались угрозой: «Всё, надоело, ухожу», – все-таки достигли цели. Без башмака он никуда не уйдет. А обретя башмак, утратит повод для жалоб. Разум более прихотливый, лениво размышлял Сальвестро, найдет в этой головоломке даже некоторое удовольствие…
Он же удовольствия не находил. Он думал о приоре. Приор снова призвал его к себе, за пару дней до Страданий По Башмаку. Снова Сальвестро карабкался по ступенькам, снова шагал вслед за Хансом-Юргеном по проходу мимо дверей в келью настоятеля – на этот раз они были плотно закрыты и свет из-под них не сочился.
Вторая встреча мало чем отличалась от первой. Он сел на табуретку. Приор строго посмотрел на него и спросил – вопрос отличался от первого:
– Как получилось, что вы явились под фальшивым именем?
И на это у него был готов ответ. Никлот было именем распространенным, и это было его бедой. Он слыхал про других Никлотов, и один даже немного на него походил. К несчастью, тот Никлот был вором: прятался в лесах и совершал набеги на фермы, крал кур, яйца – даже поросенка как-то украл, – а обвиняли его, настоящего Никлота. Тот самозванец вытаптывал поля, ломал изгороди, прятался в кустах и пугал фермерских дочерей, когда они купались, даже швырял камни в коров и овец… Не было его злодействам числа. Но и поймать его никак не могли – он исчезал, просачивался, словно вода сквозь песок, от него оставалось только мокрое место, которое быстро высыхало на солнце. И что ему, настоящему Никлоту, оставалось делать? Поразмыслив, ответив на многие – несправедливые и ничем не подтвержденные – обвинения, он решил сменить имя. И стал зваться Сальвестро.
Рассказ свой он начал бодро, преисполненный радужных надежд. Но едва успел дойти до того места, где говорится про других Никлотов, как его прервали.
– Хватит! – Взгляд приора выдавал нетерпение. – Снова ложь. Идите прочь.
Он шел к своей кладовке за Хансом-Юргеном – перед монахом плясало озерцо света от лампы, – и, когда они пересекали монастырский двор, в голову ему пришла некая мысль. Но Сальвестро на ней не задержался – слишком уж она была нелепой. Бернардо опять подоткнул под себя всю солому. А он завтра снова не сможет разыскать его башмак. Сальвестро лег, но никак не мог найти себе места. Он не понимал, чего хочет от него приор. А если он, Сальвестро, не понимает, чего приор от него ждет, как же дать приору то, чего он от него ждет? Нет, явно нужен какой-то отчет, рассказ. Что-то достаточно правдивое, надежное. Тут к нему вернулась та нелепая мысль: да неужели приору нужна именно правда? В это трудно было поверить, однако мысль все крутилась и крутилась у Сальвестро в голове, он испытывал искушение сдаться, рассказать все откровенно, даже искренне, ну разве что с небольшими умолчаниями, но с очень-очень небольшими – нет, это невозможно! Или все-таки возможно?… Проклятая Мысль все возвращалась, искушала его: может, все-таки это правильно – сказать правду? Правду, да, правду. Может ли он? Способен ли?… Нет.
Назавтра он все размышлял об этом, рассеянно расхаживая по монастырю. Возле входа в здание капитула собрались монахи. Когда Сальвестро ненароком приблизился, один из братьев отделился от группы, схватил пригоршню воды из стоявшей там чаши, подбежал – лицо у монаха было странно напряженное – и обрызгал его водой. Монах уставился на него, будто это была не вода, а расплавленный свинец и он должен был в страшных корчах рухнуть на землю и обратиться в золу. Когда этого не произошло, монах в страхе бросился к остальным. Сальвестро повернулся, чтобы продолжить свои размышления, но Мысль дрогнула и оставила его в покое.
Однако вскоре вернулась – и повела себя куда настойчивей. На другой день Сальвестро заметил, что начал бормотать про себя, сам же себе отвечая: «Нет! Глупо!» Мысль нагнала его на краю поля. Каким-то образом приор понимал, когда он лжет, и, видимо, уже считал его законченным лжецом. Он шагал и шагал, зная, что скоро покажется рыбный сарай. Видимо, там Мысль и пряталась. Она соскочила с крыши и пригвоздила его к земле. Он боролся изо всех сил, но Мысль не отпускала, колотила и колотила его – прямо по голове…
Башмак Бернардо лежал прямо посреди сарая. Сальвестро поднял его. Башмак, а потом лодка. Он вспомнил об Эвальде, о том, что поговорить с ним не удалось, и пришлось разговаривать с женой. Лодка. Башмак. Он повернул назад. Мрачный Бернардо куда-то скрылся, но Бернардо всегда возвращается. А сейчас Сальвестро был рад побыть в одиночестве.
Мысль кружила над ним, и он уже не доверял себе: идея того, что он может сдаться, последовать за Мыслью, потрясла его до мозга костей. Все это ему очень не нравилось. Он колебался. Он дал себе слово. Он сомневался. Он верил. Мысль была блестящей, вдохновляющей, неотразимой…
Он уже слышал раздававшийся из близкого будущего голос, в котором узнавал интонации приора, слышал его вопросы – из тех, которые задают всего лишь раз, которых не повторяют. То, на чем он стоял, дрогнуло под его ногами, побежали змеящиеся трещины, сдирая доски пола с камней фундамента, которые и сами уже порушились и провалились. Какие-то стародавние усобицы обтянули эту болотистую почву камнем и деревом, назвав ее землею, основой… По меньшей мере – сдвинутые, искаженные верования, ко всему еще и докучливые. Глинистые почвы расползаются, видны пустоты, ямы, каверны, меж тем как кто-то ничего не понимающий топает и топает по тому тонкому, хрупкому слою, на котором он выстроил здание своей жизни; внешний слой иссыхает, становится тонким, как бумага, растягивается над бездной. Катастрофа – она случится, прелюдия к ней была в ту ночь, когда камни покатились в пучину, зовущуюся морем лишь при дневном свете. Все тщетно, и тщета скребется, царапает тонкий слой, а то, что таится в покое кельи, в простоте и банальности вопросов – вопросов Йорга, – есть одна из разновидностей «прежде». Следующий разговор, представляет он себе, начнется так: «Как получилось, что вы стали Сальвестро?»
Ему представляется и то, как он ответит.
Ответит он приблизительно так.
Его разбудили солнечные лучи – он лежал на берегу Ахтервассера. Поднявшись, он направился вглубь леса. Стволы стоящие и стволы поваленные, высохший, умирающий подлесок, прошлогодние листья, чахлая поросль… Лесные триумфаторы и лесные неудачники расступились, чтобы принять беглеца – вымокшего, тощего и к тому же голодного: зубы его перемалывали клубни и стебли, язык извивался и увлажнялся, горло, глотая, ходило то вверх, то вниз, а сочные венчики взрывались, ударяя ему в нёбо. Он разжевывал в кашицу жилистые корни, пил маслянистые соки, грыз желуди и дикий чеснок, однажды съел дохлую ворону – просто так, чтобы попробовать, что из этого выйдет, и долго еще в его экс-крементах копошились черви. Воруя на окрестных фермах яйца и цыплят, он продвигался вверх по большой реке, пока лес не поглотил, не засосал его. Руки и ноги у него покрылись коростами и язвами, а босые ступни сами себя обули – в мозоли. Расстояние измерялось сгущением теней, непроглядностью. По меркам острова ему было десять лет; по меркам леса он оказался младенцем.
Лес отскоблил, содрал с него весь прежний опыт, он потерялся, забылся в этом лесу, а прошлое свелось к воспоминаниям о еде. Он бежал, подпрыгивал, карабкался, висел… Два каменных дуба стояли на поляне, окруженной мертвящими тенями других, более мощных собратьев. Рядом с ними, похожий на нескладного жеребенка, рос молодой дубок. Он тянулся вверх, к солнцу, и из-за этого получался чуть кривоватым и тощим. Через сколько лет он погибнет, задушенный старшими? Пока что ему еще можно было тянуть воду из земли жадными корнями, прокачивать по гибкому стволу… Он раскачивался на ветке, та изогнулась, надломилась, он почувствовал, как ветка подается, трескается, – и вот он уже лежал на земле, но тут же вскочил, подтянулся, снова схватился за ветку и стал грызть ее расщепленные волокна, пока она не отломилась совсем. Он думал о годах, рябью проходящих по стволу, вдоль сучьев, нарастающих, словно волны… Однажды он видел медведя. Огромный и неуклюжий тюк спутанной шерсти ломился через подлесок совсем близко от него, что-то выискивая. Олени, почуяв его, дробно ускакивали прочь. Вздрагивали и разбегались какие-то создания, не показывавшиеся на глаза. Солнечный свет пронизывал густые кроны, а когда дул ветер, то лес стонал и трещал, но он не боялся жестокости ветра. Хотя кое-чего он все-таки побаивался, особенно тяжело приходилось зимой, когда он промерзал до костей и от холода все внутри болело, но каждая зима переносилась легче предыдущей, и позже он понял: это потому, что он двигался на юг. Порою лес внезапно обрывался, открывалось широко распахнутое небо, и он оказывался на краю луга, болота, открытой местности. Избушки казались рассыпанными камешками, над ними поднимались тонкие струйки дыма, исчезавшие в крутой голубизне. Он нырял назад, сливался с тишиной леса, исчезал. Он был нелюбопытным, а потому неуловимым, невидимым и неведомым… Но ему нравилось смотреть на костры.
«Что?» (Взгляд приора выразит недоумение, бровь будет поднята, голова слегка наклонена.)
Когда сердце билось о ребра, а рот наполнялся слюной, он любил подползти ближе, оставаясь вне пределов слышимости, но все-таки ближе, чтобы почуять запах жарящейся на костре туши, различить, как лижут ее языки пламени, а возле костра, кивая друг другу, возятся согбенные фигуры. Они будоражили его, эти всполохи огня, эти раны, нанесенные мягкой светотени леса, тонким переливам темноты. Огонь бил в глаза, ослеплял, но ему это нравилось. Тогда ему казалось, что лес вот-вот ослабит свою хватку, отпустит его на волю, чтобы он, проморгавшись, прозрел и мог смотреть на открытый горячий огонь. Он ползал вокруг бивака по шуршащему лесному ложу, все сужая и сужая круги… Ему всегда хотелось подобраться ближе, ближе и еще ближе. Вот так его и поймали.
«Кто?» (Произнесено будет намеренно сухо, будто приор стесняется прежнего намека на любопытство. Приору не пристало быть любопытным. Он должен изъясняться буднично, по-деловому, не проявляя личной заинтересованности.)
«Ну-ка, тащи его за уши!»
«За ноги, за ноги хватай!»
«Врежь ему хорошенько!»
Сейчас ему кажется, что кричали именно так, что именно эти слова он слышал в поглотившем его шуме, хаосе и страхе. Да, его били. Треск огня, огромные лица, выныривавшие над ним из темноты и вновь в темноте исчезавшие, и шум, все перекрывающий шум… Они реяли над ним, молотили его кулаками, да и сами выглядели словно дубинки, и когда сталкивались друг с другом, раздавались глухие удары. Если он распластается на земле, станет плоским, вожмется в землю, в тень, они позабудут о нем и уйдут прочь, словно тот медведь, или ускачут, словно олени. Распластаться. Слиться с землей. Исчезнуть. Беги, беги к морю… Это были огромные, грубые мужики, странно пахнущие и громогласные. Он обхватил голову руками и заткнул уши, только бы их не слышать, но мужчины были настырны и сильны – и никак не желали исчезать. Один врезал ему по уху. Другой – по ноге. Он подтянул колени к подбородку, свернулся, став мячиком, – так он сопротивлялся. Но они развернули его, подняли на ноги. Он был почти обнаженным и – это его потрясло – почти такого же роста, как они. Как такое могло произойти? Он не понимал, это лишало его всех надежд и ввергало в отчаяние…
Была ночь, потом наступил рассвет. Гул, шум, рокот. Дни, грохоча, падали с небес.
Он помнил опутанный травой склон – ноги утопали в мягкой траве, словно в иле, – по которому они взбирались к вершине. Светило солнце, и его тащили на веревке. Так оно и было.
Вот еще воспоминание: он спит, впервые спит возле костра, ему снится, что его чем-то укрывают, слой за слоем, чем-то вроде звериных шкур, слои становятся тяжелее и тяжелее. Под ним в земле шуршат мыши, принося фантастический приплод. Сотни визжащих мышей.
А вот другое место: дерн стерт до черной сырой земли, потому что в ней протоптана, прорезана тропа, петляющая меж маленьких холмиков и муравьиных куч. Ему приходится перешагивать через длинные узкие лужицы, и отпечатки его ног приплюсовываются ко множеству других отпечатков – в тот день он шел едва ли позади всех. За лугом начинается лес. Выступающие из тени стволы кажутся палисадом, вход за который чужакам заказан, или прутьями чудовищной клетки, увенчанной зеленой крышей.
Раз они с уханьем и неистовыми воплями ворвались в какую-то деревеньку, и было там длинное низкое помещение, воздух в котором столько раз вдыхали и выдыхали, что он стал пахнуть человеческими внутренностями. Один из них что-то ищет на полу, усыпанном обглоданными костями, шелухой, корками, пустыми бутылками. Трое других о чем-то совещаются в дальнем конце и умолкают, когда он подходит ближе. Эти люди ему незнакомы, и запах у них другой. Это не те, что его поймали. В комнате стол – во всю ее длину. Тот, что рылся на полу, поднимается и кладет перед ним целую груду объедков. Он недоумевает, пугается. Другой жестами показывает ему: давай ешь, – но он по-прежнему ничего не делает в ответ, и тогда человек вытаскивает из груды кость и принимается обгладывать с нее остатки мяса. Тогда он понимает и набрасывается на кости, словно волчонок. Трое по-прежнему говорят о чем-то, снаружи доносятся вопли, одиночные возгласы. Сидящий напротив него человек тычет себя в грудь и произносит что-то вроде «а-ар-а-ар-у-у-у-уд». Они остались там на ночь – они никого не беспокоили, вели себя тихо, а он так тише всех. Ему это понравилось. Наутро, однако, все снова зашумело-загрохотало.
Потому что шум и рокот не умолкали никогда. Он словно бы попал в воздушную петлю, состоявшую из коротких взрывов и клекота, из «Ннуннг!», «Тццци-и-ик!», время от времени – «Ллаллу-улл!». Разнящиеся звуки пугали его, он нервничал из-за этих урчаний – то громких, то тихих, то завершающихся шлепками или шипением… Он начал пригибать голову, когда шипение и клекот пролетали рядом с ним, чуть ли не приседал, словно эти звуки обладали физической силой, словно эти мычания, шипения, ржания возвещали о приближении сотен разных животных – по десять-двадцать раз на дню. Были еще регулярно повторявшиеся звуки, которыми люди обменивались, заставляя свои языки быстро колебаться; другие же казались колючими или дрожащими. Резкий лай, потом тоненький визг. Он подскакивал, вертелся на месте, озирался, и со временем над этими его взбрыкиваниями даже перестали смеяться – привыкли. А потом, спустя несколько недель, а может, даже месяцев после его «захвата», случилось вот что: он сидел, зажав меж колен бутылку с водой, а один из них швырял в него мелкие камешки, он метил ему в лоб, и камешки отскакивали от головы, и вдруг к нему пришли звуки, которые он слышал от них раньше, звуки, обращенные к нему, – сначала как маленький взрыв: «п-п-п-п», потом шипение: «ш-ш-ш-ш», а вслед за ним что-то вроде стона: «ы-ы-ы-ы-ы»… Вот такие вот. Он почувствовал, как напряглись щеки, как заболел язык, как заработали все те мышцы, которые он использовал, чтобы размалывать пищу перед тем, как ее проглотить. Язык оторвался от внезапно пересохшего нёба, губы сомкнулись и разомкнулись, и он произнес – четко и ясно: «Пошел ты!» Потом сглотнул. И добавил: «Дерьмо!»
Все обмерли, потом удивленно загудели и вдруг умолкли. Наступила напыщенная тишина, которая обволокла то странное звуковое творение, что сорвалось с его губ, поглотила его творение целиком. Сочетание звуков зашаталось, заковыляло в поисках опоры, он мигнул от напряжения и – повторил. Тупое удивление окружающих дрожало, трепыхалось, словно стена из звукопоглощающей жидкости, за которой его слабый писк, эти простые слова казались невесомыми, беззвучными. И тогда кто-то сказал: «Получается, наш Сальвестро вовсе не глухонемой!» – и все захохотали. Он беспомощно озирался. «Ну конечно, а как еще нам тебя называть?» Это сказал тот человек, который бросал в него камешки, чтобы он передал ему бутылку с водой – теперь она, всеми забытая, лежала у его ног. «Гроот, – продолжал он, ударяя себя в грудь. – А ты – Сальвестро, понял? Господин „Пошел ты“, понял, да?»
П-п-п-п… Ш-ш-ш-ш… Ы-ы-ы-ы…
Сальвестро. Вода. Он перекатывал слова по рту, пробовал на вкус. Пошел ты. Гроот. Гро-о-от. Лес, полный шорохов и шепотов, неразличимых, бессмысленных, остался теперь позади.
А как зовут остальных бродяг, какие у них имена, новые для него, понятные?
Вот они: Фанте Кинжал и Умберто Пика, Синяк, Хорварт, Хурст (или Медведь), спокойный и невозмутимый, Хайнрих фон Болтон, которого прозвали Болтуном, потому как у него не было языка, а также Двойняшки Бандинелли: они были похожи друг на друга как две капли воды, выросли в одной деревне и отзывались на имена Альдо и Тебальдо, но при этом в родстве не состояли. Некий Корпроше присвоил себе титул Адмирала Адды, а Пандульфо все называли Грамотеем, потому как он единственный умел читать и писать. Грамотей слагал бесконечную эпическую песнь об их подвигах в южных странах. Еще были Крипаракос Грек, Коротышка Симон, Сигизмундо Бешеный Глаз, а также шевалье Джанбатиста Маркантонио ди Кастелло-Молина ди Фьемме. Того, у кого кожа на лице была неестественно гладкая и розовая, звали Пудреным Джеком. Но самым страшным из них был Зубатый.
Гроот показал и описал ему каждого, предупредил насчет их недостатков и слабостей и объяснил, что они не обычные люди, но солдаты, привыкшие к битвам и с непредсказуемым чувством юмора. «Всегда подходи к ним спереди, – поучал он, – и прекрати вопить». Потому что на протяжении нескольких недель после обретения им заново дара речи Сальвестро каждые несколько минут во всю глотку выкрикивал какую-нибудь ни к чему не относящуюся фразу – тренировки ради.
Их предводителя называли просто Капо, то есть Вожаком. Это был чернобородый, синеглазый, жизнерадостный господин лет пятидесяти или больше, которого солдаты таскали за собой в плетеной корзине, похожей одновременно и на небольшую лодку, и на большое, но безногое кресло, потому как у самого Капо не было ступней.
«Отряд вольных христиан – вот кто мы такие, мой мальчик. Мы – банда отъявленных ублюдков, мы злобные и опасные, как и все, кто тебе попадется на пути по эту сторону ада, Альп и загробного мира. Никогда не забывай об этом, юный Сальвестро. А также запомни… – Капо подался вперед, сопя и вращая глазами, потом совладал с собой. – Один Господь знает, как мы ненавидим французов!»
Смеркалось. С утра зарядил дождь. На дальнем конце поляны Пудреный Джек и Сигизмундо Бешеный Глаз сложили костер, но огонь упорно отказывался заниматься. Капо таращился, будто ожидал ответа.
«Французов», – повторил Сальвестро.
Капо одобрительно кивнул. «Ненавидим», – прошипел он и откинулся назад, в полумрак корзины. Оттуда послышались возня, скрип, глухое постукивание. «Ты, конечно, хочешь на них посмотреть», – донеслось из корзины.
«На французов?» – спросил изумленный Сальвестро.
Он полагал, что «француз» – это какое-то животное, ядовитое и наверняка огромных размеров. Непонятно, как оно могло уместиться в корзине у Капо. Но если там и был француз, то, конечно, только один. Почему же тогда он сказал «посмотреть на них»?
«На этих ублюдков? Господь наш на кресте, да нет же! – прорычал Капо, снова выныривая из корзины – в руках он держал по отливающей серебром металлической коробке. – Я имею в виду, ты наверняка хочешь посмотреть на Ступни!»
«Вителли отрезал ему ступни после падения Бути,[42]42
Вителли отрезал ему ступни после падения Бути… – Паоло Вителли (1461–1499) – итальянский кондотьер, сражавшийся на стороне Флоренции в войне с Пизанской республикой. В 1498 г., захватив крепость Бути, принадлежавшую Пизе, приказал отрубить руки пятерым пленным канонирам, после чего отправил пленников в Пизу, подвесив отрубленные конечности им на шею.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] – пояснил потом Гроот. – Имей в виду, ему еще повезло. Аркебузиры, бедолаги, лишались и рук, и глаз. А пальцы ног он тебе показывал?»
Ступни были желтыми и блестящими, от них ничем не пахло – сохранились они отменно, только чуть сморщились. А потом Капо достал и пальцы – каждый лежал в отдельной коробочке. С краю, где плоть усохла, торчали кончики костей, ногти тоже отделились от кутикул. Пальцы по цвету были чуть темнее, чем Ступни, как будто их, прежде чем отрезать, прищемили или ударили.
«Пальцы, по-моему, не очень-то впечатляют, – признался Гроот, когда Сальвестро кивнул ему в ответ на вопрос. – Но Ступни… Ступни, я полагаю, – это настоящее чудо».
Сальвестро посмотрел в ту сторону лагеря, где в полутьме едва виделся холмик – Капо в своей корзине. Его плетеное жилище устанавливали посреди поляны или пустыря, где воины решали устроить ночлег, и из корзины доносились команды: «Тридцать плеток тому, кто посмеет гадить внутри лагеря!» или «Расставить стражу! Медведь! Болтун! Быстро за дело!». Разжигались костры, дозорные расходились по своим постам. Каждый вечер разбивались биваки, а наутро свертывались, и все шли дальше. Шли, останавливались, шли, останавливались. И когда Капо командовал: «А ну не зевай!» – то воины Отряда вольных христиан, как правило, не зевали. Но, как Сальвестро ни пытался, он все не мог понять, почему Капо все слушаются. Истоки авторитета вожака оставались для него тайной. Сальвестро чувствовал, что это каким-то образом связано со Ступнями.
Наставало утро, и, если они были на марше, Гроот целый день нес корзину с Капо. Для этого имелись два шеста. Гроот, коренастый и крепкий, вставал спереди. Тот, что шел сзади, был намного сильнее даже Гроота и выше на две головы. Сальвестро относился к нему настороженно – он видел, что остальные обращаются с ним пренебрежительно, но и с насмешливой симпатией: неужели в Отряде, думал Сальвестро, есть кто-то еще более презренный, чем он сам? Второй носильщик Капо был для Отряда чем-то вроде козла отпущения и одновременно талисмана. Сальвестро запомнил этого парня – тот был немногим старше его самого – с самых первых дней, когда он еще ничего не понимал и всего боялся: тогда великан дал ему погрызть костей. Совсем недавно, отлучившись по большой нужде в кусты, он увидел, что гигант терпеливо переминается на ведущей в лагерь тропе. Оказывается, он уже пробыл там пару-тройку часов. Симон сказал ему, что он должен встречать Шевалье, который вернется по этой тропе с парой мешков жратвы, тяжелых… При этом сам Шевалье слонялся в лагере – его было хорошо видно из-за деревьев, но здоровяк не делал из этого решительно никаких выводов. Сальвестро попытался объяснить, что над ним подшутили.
«Не тяжелых. Ты ж олух!» – растолковал он.
«Ну да, а я что говорю?» – ответствовал великан.
Но тут Сальвестро вконец приперло, и он помчался в кусты, а здоровяк так и остался стоять на своем посту. В ту же ночь – он как раз нежился в мягких объятиях сна, плавал в чарующих волнах сновидений – ему пришлось проснуться от удара в спину чего-то твердого, похожего на лопату.
«Ты ж олух!» Над Сальвестро маячила огромная радостная физиономия: в темноте и со сна Сальвестро не сразу понял, кто это. «Ты ж… – Обладатель физиономии помедлил для пущего эффекта. – Олух». После чего разразился хохотом.
И сейчас, в холодном вечернем свете, заполнявшем промежуток между дверным проемом кладовки для брюквы и видневшимся сквозь него слякотным полем, он смотрел, как тащится по грязи его товарищ, как он преувеличенно хромает, выражая недовольство блудным своим башмаком. То ли башмак за это время ссохся, то ли нога распухла, кто его знает. Возникшую в памяти физиономию с ее широкой улыбкой идиота заменила эта же физиономия, но тупая и невыразительная. Бернардо с шестами на плечах. Бернардо, шагающий позади корзины… Они остановились в лиге-двух от деревушки где-то к западу от Инсбрука и приступили к непонятным приготовлениям. Деревушка называлась Мууд.