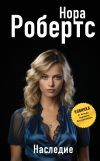Текст книги "Носорог для Папы Римского"
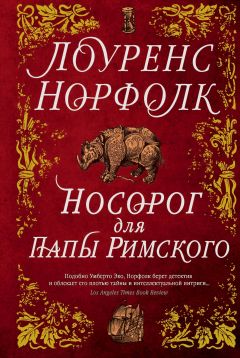
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Старшие монахи спали в дальнем конце помещения. Он прошел мимо своего тюфяка, так и не потревоженного минувшей ночью. Брат Герхард уже одевался. Узнав, что его вызывают, он не выказал никакого удивления, и оба быстро проследовали к выходу под любопытствующими взглядами. Пока они шли, в дортуаре царило молчание, но стоило им удалиться, как среди монахов тут же вспыхнуло бурное обсуждение. Герхард считал Ханса-Юргена ставленником приора, не принадлежащим к кругу его сторонников; врагом. Сандалии их проклацали по булыжнику, они поднялись по ступенькам. Герхард, Ханно и Берндт – эти трое держались особняком. К их клике была близка изменчивая по составу группа молодых монахов – все они формально поддерживали старого настоятеля. Ханс-Юрген и Герхард вошли в келью приора.
Отец Йорг по-прежнему стоял у окна.
– Мои глаза слабоваты, брат, – сказал он и жестом повелел Хансу-Юргену подойти к окну. – Здравствуйте, брат Герхард, – добавил приор; Герхард молча кивнул. – Расскажите нам, что вы видите.
Ханс-Юрген подождал, пока в тумане не возникнет просвет. Лодка стояла на том же месте – где-то в четверти мили от обрыва. Он разглядел на борту одного человека, но от его сотоварища не осталось и следа.
– Я вижу только великана, отец, – сказал он. – Второй куда-то делся.
– Он в бочке. Это-то, когда проклятый туман на минуту рассеялся, я видел.
В дверном проеме показалась любопытная физиономия – брат Иоахим-Хайнц.
– Да?
– Я пришел предложить свою помощь, отче.
– И брат Хайнц-Иоахим с вами, как я понимаю.
Монах кивнул, и за его спиной вырос второй.
– Что же, хорошо. А теперь, брат Герхард…
Брат Герхард снова молча кивнул.
– Великан пытается поднять бочку, отец, – пояснил Ханс-Юрген; на пороге возникли братья Ханно, Георг и Берндт, протолкнув ранее явившихся дальше в келью. – Чуть не упал, – продолжил он. – Боюсь, лодка уж слишком сильно раскачивается.
– Хорошо. Брат Герхард, я помню, что три года назад, когда вы занимались одной из ваших затей…
Мимо Ханно и Георга протиснулись братья Флориан и Райнхардт, пробрались в дальний конец кельи и попытались из-за спины Ханса-Юргена заглянуть в окошко.
– А вам что? – спросил Йорг.
– Мы очень спешили, – ответил Флориан.
– Чтобы помочь, – добавил Райнхардт и двинулся вперед, но тут его потеснили Гундольф, Маттиас и Харальд.
– Помочь? Но в чем?
– Великан выровнял лодку, – сообщил Ханс-Юрген, – руками размахивает. Нет, кричит что-то в бочку.
– С великаном, – хором ответили стоявшие в углу братья Эгон, Людвиг и Фолькер.
– С лодкой, – отозвались те, что стояли позади них: братья Хеннинг и Хорст.
Протискиваясь, они толкнули брата Кристофа, тот налетел на брата Гундольфа, брат Гундольф дал ему локтем по ребрам, кто-то пихнул брата Маттиаса.
– Мы здесь, – возвестил брат Вульф.
– Вот и мы, – добавил Вольф.
– Все трое, – заверил Вильф. – Мы уже здесь.
– Стойте, где стоите, – приказал Йорг. – Так вот, брат Герхард…
Герхард кивнул.
– Он ее все-таки поднял! – закричал Ханс-Юрген. – И собирается бросить за борт! Нет, не получается. Если он так сделает, лодка перевернется. Ой, снова упал!
Фолькер и Людвиг принялись проталкиваться между Кристофом и Харальдом, которые толкались в ответ, а кто-то снова пихнул Маттиаса.
– Возвращаясь к вашим затеям, брат Герхард… Три года назад вы, помнится, построили…
– Великан пытается перебраться на корму, но тогда, как я понимаю, задерется нос. Так и есть, я был прав. Простите, отец…
– …построили плот.
Брат Герхард кивнул. Сзади подтянулись братья Вальтер и Вилли и, обнаружив, что дверной проход уже плотно забит, равно как и сама келья, попробовали было взобраться на спины Хеннингу и Фолькеру, но те сбросили их с себя, в результате чего попáдали Гундольф, Флориан и Райнхардт, а за ними – Ханно, Георг, Берндт, Вульф, Вольф и Вильф. Кто-то дал Маттиасу под зад. На мгновение в келье освободилось пространство выше человеческой талии, и Йорг продолжил:
– И теперь, брат Герхард, нам нужно что-то, чтобы спасти этих несчастных. Любое плавающее средство. – Он помолчал, поскреб щеку. – Короче, нужен ваш плот.
При этих словах Флориан вскочил на ноги.
– Чур, я на румпеле, – возопил он.
Другие монахи тоже начали медленно подниматься:
– Нет, я!
– Я!
– Я!
– У плота нет румпеля, – ответил Герхард. – Нет ни палуб, ни мачты, парус тоже отсутствует. Плот весь прогнил и абсолютно не пригоден для…
Монахи не слушали, – заглядывая в глаза Йоргу, они наперебой предлагали свои услуги в качестве гардемаринов, капитанов, боцманов, третьих помощников, кормчих и корабельных плотников.
– Веревка! – заорал вдруг Ханс-Юрген. – Ну да, он будет опускать бочку на веревке! Вот-вот, приподнимает…
– Корабельный пасечник! – высказался наконец брат Фолькер.
– Ах нет! Он ударился о мачту и сейчас ругается на нее. Это даже отсюда понятно. Вот, идет…
– Нужны гребцы, – обратился к братии Йорг, чем вызвал новый прилив энтузиазма.
Йорг выбрал десятерых самых крепких: Эгона, Райнхардта, Гундольфа, Вальтера, Вилли, Георга, Ханно, Хеннинга, Фолькера и, бросив взгляд на возбужденную братию, Харальда.
– Хорошо. А теперь слушайте приказы своего капитана, брата Герхарда, и все получится. Ступайте…
– Великан растерян, не знает, что делать, – сообщил Ханс-Юрген.
А в дверях уже началась толчея: Кристоф и Иоханнес отпихивали друг друга, между ними проскочил Флориан, а Вульф, Вольф и Вильф топтались в нерешительности, и среди них застрял Георг, из-за чего не мог пробраться на выход Райнхардт.
– Он поднимает бочку, да! Вот это силища!
Берндт упал на Хорста, тот – на Хеннинга, последний толкнул Иоахима-Хайнца и Хайнца-Иоахима, Хайнц-Иоахим тоже упал, но быстро вскочил и налетел на Харальда и Ханно. Герхард важно кивнул. Эгон и Кристоф отталкивали Гундольфа и Ханно, а завершали исход Людвиг, Хуберт, Фолькер и Хорст. Маттиас ввинтился между ними, его поволокло к дверям, где он застрял, шлепнулся лицом вниз, и кто-то протопал прямо по его спине.
– Он воздел бочку над головой, его качает… Держись прямо, великан, не раскачивайся! Хорошо, хорошо… Готовится бросить бочку в воду, отец!
Маттиас наконец-то отскреб себя от пола и поспешил за прочими. В келье остались только Йорг и Ханс-Юрген, продолжавший комментировать:
– И вот… Раз, два, три!
– Э-э-э… э-Э-Э-ЭХХХь!
Натужно кряхтя, Бернардо поднял бочку над головой – лодка опасно раскачивалась, он тоже раскачивался, балансировал, пытаясь устоять, – и швырнул. Бочка, царапнув по самому краю вельса, рухнула в воду, его с ног до головы окатило брызгами, и он, в свою очередь, с размаху грохнулся на дно лодки. Канат и сигнальный линь, увлекаемые уходившей под воду бочкой, стремительно разматывались. Он ухватил канат, перекинул через уключину. Лодку болтало из стороны в сторону. Равновесие, напомнил себе Бернардо. Что-то там со сторонами.
Бернардо откинулся, лодка угомонилась, и он принялся равномерно стравливать канат. Когда под воду ушло футов тридцать, он придержал канат и дернул за линь. Туман рассеивался. Он ждал ответа, но линь оставался провисшим. Сначала был бух. Потом – плюх. Был ли между этими звуками еще какой-то третий звук? Слабый сигнал, угнездившийся между бухом и плюхом? Секунды тянулись, тянулись, и Бернардо забеспокоился. Спуск прошел отнюдь не так гладко, как ожидалось. Это была идея Сальвестро – раскачивать бочку на канате. Когда бочка ударилась о мачту, он увидел, что к окошку прижимается искаженное яростью лицо – Сальвестро что-то там кричал. Возбужденный, он тоже что-то проорал в ответ и просто швырнул дурацкую бочку в воду: это уже было его собственное решение. Плохо, что она при этом ударилась о борт… Он снова дернул за линь, настойчивее. Этот второй глухой звук – не могло ли это быть хрустом ломающихся о стенки костей, черепа, раскалывающегося о клепку бочки?… Бернардо замер. Ах, если бы Сальвестро был с ним здесь, в лодке, и, как обычно, направлял, командовал, говорил, что делать, а не скрылся под водой, – не спросишь, не поговоришь! Небось уже и помер, так что помощи никакой не дождешься. Сальвестро затащил его на этот гадкий островок, затеял эту дурацкую экспедицию и теперь, когда все пошло наперекосяк, бросил его одного! Вот именно: это Сальвестро во всем виноват, а он, Бернардо, тут ни при чем. И Бернардо уже приготовился тащить наверх плавучий гроб, как вдруг снизу, из страшной глубины, пришел слабый ответ: линь дернулся. Он принялся лихорадочно дергать веревку… Сколько раз дернулся линь? Один, что ли? А один, припомнил он, означает «ниже».
Бу-у-бу-ум!.. Содрогнулись от удара глубины, заколыхались на каменистом дне водоросли. Звуковые волны разбежались, растворились, утихли. Что-то спускается. Вода у поверхности возмутилась, но пересилила себя, сдержалась, не позволила разволноваться немногочисленным ныне подводным обитателям. Рыбьи косяки уже ушли вдоль берега к западу, покинув те края, где мечут икру, чтобы провести зиму на более привольных шельфах Бельта. Остались одни убогие: недокормленные мальки, старые да больные рыбы, и все они бросились врассыпную, когда в их владения вторгся незваный гость. Холодные массы воздуха продвигаются на юг, и первые зимние штормы, первые языки северных течений выхлебывают остатки осеннего тепла. Тощает, хиреет, обессилевает море. Маленькие рыбешки замерзают. Старые рыбы умирают. Больные слабеют и опускаются ко дну. А там, во мраке, встречают их какие-то странные завихрения, невнятные течения, в которых едва проглядываются огромные черные тела.
Безразличные к смене времен года и к нересту, сельди-каннибалы стали сейчас ленивыми, апатичными. Год совершит свой оборот, и здесь снова появятся угри, чуть позже вернутся косяки сельди. Пока же каннибалы довольствуются живущими в воде рач-ками, призрачно-голубыми облачками моллюсков, обитающих в хрустких мелких ракушках, всякой всячиной, выныривающей из донного песка, да пощипывают за хвосты друг друга. Они ворочаются у кромки расселины: там, внизу, тьма непроглядная, но сверху ведь может что-нибудь упасть? Спешить некуда, их дело – выжидать.
Вот и сейчас: что это там за колебания да вибрации? Сверху что-то спускается; раз спускается, значит – еда. Каннибалы заволновались, отправились патрулировать территорию. Но без лишней суеты – зачем, когда сверху, из светлых вод, опускается, раскачиваясь, темное пятно? Пятно становится больше, каннибалы сбиваются в стаю, объединяют силы, ждут: спешить некуда. Может, рыба. Или мясо. Мясо им тоже перепадает, но нечасто. Обычно оно не плывет, а дрейфует. Может, все-таки мясо? Или рыба?
Вот оно: неуклюжее, неуверенное, беззащитное, зависло у самой кромки рифа. Внизу – тьма, в которую даже они спускаться не отваживаются. Каннибалы кружат, тычутся носами, пробуют. Похоже на пищу, однако… очень уж большое. И твердое. И очертания совсем не как у рыбы. И точно не как у мяса. Что же получается: ферменты в желудках вырабатывались зря? Разочарование… Рыбы толкаются, вьются, сбиваются в более плотную стаю. У непо-нятного то ли существа, то ли предмета есть усики, один толстый, другой тонкий, которые уходят вверх, туда, где свет и смерть, дергаются, дрожат – брык-брык – в прикрывающей их воде. Вот усик дернулся раз-другой. У существа имеется то ли глаз, то ли еще какое отверстие, прямо посреди брюха, изливающее мутное желтое сияние. Зимовка – это время выжидания, зимой холодно, зимой скудеют косяки. А это… Ну, это от времени года не зависит, законы ему не писаны. Пути его прихотливы, на его появление не надеются, но его почти всегда ждут. Волнуются рыбины, аппетиты у них растут, пробуждая обычно дремлющий интерес к существам, которые обитают на поверхности, ползают по морю и рассекают волны, погружаются и тонут на пути из ниоткуда в никуда. Тупоносые рыбины бодают висящее на усиках нечто. С тех давних пор, когда из устьев рек резво вырвались первые обтянутые шкурами лодки, расползлись вдоль берегов первые неповоротливые корабли и дали первые течи, рыбы получают такую дань. Пусть и в разных обличьях.
Медленно, словно желчь, разливаются воспоминания. Сельди-каннибалы и их предки уже видели холодными своими глазами снующие меж заливами сосновые шлюпки, эскимосские лодки, плоты. С холодным безразличием наблюдали они за этой суетой. Потом появляются гарпунщики – гарпунщики стоят на самом носу, над ними реют прошитые кишками паруса, привлекая за собой тупых, но упорных гигантских акул, а весла гребцов взбивают пену, посылая свои удары на глубину. Корабли викингов – бюрдингеры и кнарры – бороздят открытые воды, добираются до островов Борнхольм и Готланд, плоскодонные же скафы жмутся к берегам. Сплетенные из ивняка и обтянутые кожами рыбачьи лодки вырастают в каботажные суда, галеры – в остроносые парусники. С подветренной от Узедома стороны корабли Харальда, украшенные фигурами драконов, окружают «Длинного змея», берут на абордаж, рубят подчистую всю команду, кровь хлещет по наборной обшивке бортов, вода в Ахтервассере становится красной, вкусной. Олаф Трюгвассон прыгает в море,[38]38
…корабли Харальда… окружают «Длинного змея»… Олаф Трюгвассон прыгает в море… – Олаф Трюгвассон (ок. 963-1000) – конунг Норвегии, владевший огромным кораблем под названием «Длинный змей». Погиб, прыгнув за борт с тонущего корабля, близ острова Рюген (или, по более распространенной версии, в проливе Эресунн), в морском сражении с объединенными силами датско-шведской коалиции. Со стороны датчан его противником в действительности выступал не конунг Харальд (умерший около 986 г.), а его сын и наследник, Свен I Вилобородый (960-е – 1014).(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] кольчуга тянет его на дно, где он и будет гнить вместе со своими наемниками. Никто ничему не учится: в море нет воздуха, в воздухе нет моря. Можно либо плавать, либо тонуть, третьего не дано. Поверхность губительна. Все просто: некоторые сельди должны гибнуть во благо всего косяка. Стало быть, у этих созданий существует свой собственный процесс отбраковки, и те, кого они отбраковывают, сколачивают неуклюжие, громоздкие тихоходы, смолят их, чтобы потом рыскать на этих посудинах туда-сюда, переворачиваться и превращаться в пищу? Вот только почему эти жертвоприношения чаще всего делаются во время шторма?
Вот ведь головоломка, точнее, кусочек головоломки. Большие суда и каравеллы кренятся, разламываются и сбрасывают груз в море. Плашкоуты дают течи. Баржи переворачиваются. Менапийские торговцы везут из Финской марки рычащих медведей – для римского цирка; в обмен на них на север плывут короткие мечи и галльское вино. Императорские придворные шлют за перьями, мехами, рабами – а доставьте-ка их к нам, на Мозель! Корпорации купцов везут кельнское стекло, самосскую керамику и terra sigillata – глиняные фигурки. Пути, по которым когда-то переправляли янтарь, открыты заново, по ним устремились фризы, франки и саксы, и торговые палаты далеких областей, Мёзии и Иллирии, установили соответствующие пошлины. Береговые и речные патрули на Рейне и Дунае не в силах воспрепятствовать потоку бронзы, железа, вина, оливкового масла и еще сотен разных товаров, свободная торговля которыми находится под запретом: Pax Romana[39]39
Римский мир (лат.).
[Закрыть] в эти времена не слишком-то спокоен. Ободриты и руяне пытаются перекрыть сухопутные пути для гетов на севере и западе, заставляя купцов путешествовать морем: понтийские бобровые шкуры, кувшины с зерном и вином с острова Бирка, рулоны pallia fresonica[40]40
Фризского сукна (лат.).
[Закрыть], воск – все это плавает, а значит, и тонет. С далеких персидских базаров идут торговые пути через Аландские острова, откатываются назад к суше, потом по Эльбе-реке – в южные города, по ним текут и монеты, которыми за товары плачено, – сестерции, дирхемы, динары, сольдо. Вода – великий уравнитель: лики императоров и калифов сверкают в ней и тонут одинаково – Адриан и халиф Валид, Август и Хишам, конунг Ивар Широкие Объятья и король Людовик Благочестивый. Из треснувших бочек, выкатывающихся из треснувших трюмов, хлещет густое пиво, окрашивая воду в коричнево-бурый цвет, и любопытные сельди, наглотавшись пива, идут подремать ко дну, где покоятся вперемешку франкские мечи и саксонские лемехи, волчьи и овечьи шкуры, Карл Великий и Гарун-аль-Рашид. Вода не прочь украсить себя драгоценностями тропиков – жемчугами и раковинами-каури, подбавить себе соли с тяжелогруженых барж. Море носит одежду своих апостолов, ест их пищу, пьет их вино, до отвала набивает пучину их щедротами. Его плавающие баловни настороженно прислушиваются к реву лишенных плавников существ, их мычанию, ржанию, блеянью, доносящемуся из пробитых волнами стойл. В недоумении наблюдают они за тем, как покрытые шерстью существа перепрыгивают через борта – вослед своим главарям, вослед – в пучину. Они не так глупы, эти плавающие баловни моря, они ускользают прочь, когда кони в панике бьют копытами по воде, когда медведи отчаянно загребают когтистыми лапами: все равно эти волосатые существа утонут, можно и подождать. Рыбы плывут за баржей, двигающейся на запад от устья Вислы, через Данцигский залив, мимо Арконского мыса и острова Рюген, через Мекленбургскую бухту – к Любеку. Баржа везет… верблюда!
Согласитесь, это более чем странно. Куньи, собольи шкуры бултыхаются, разматываются, опускаются, проскальзывают сквозь сомкнутые рыбьи ряды. Они чувствуют горьковатый привкус сосновой смолы, ощущают мерзкую вонь разложения. Опускание и рассеивание – разные понятия, их трудно сопоставить; и когда пришел великий шторм и город пал и полностью вверил себя их воле – то содроганье, тот глухой рокот и по сей день живы в рыбьей памяти, – рыбы только и могли, что пялиться на добычу, которую предлагали им улицы и шумные рынки Винеты. Они ошалели от столь обильной дани, от такого несметного богатства, с небывалым грохотом низвергшегося в их пучины… Эти, с поверхности, упорны, наверняка в их упорстве есть какой-то резон. Порою то, что они присылают рыбам, никуда не годится: мельничные жернова, круглые монеты, моржовые клыки, мыльный камень. Но попадаются и сами обитатели поверхности – кости, рога, плоть, кожа. Вон, двадцать зим назад – два человека и целая сеть рыб-сородичей опустились возле Узедома на дно. Чего они хотели? Что надеялись здесь, на дне, поймать? Любознательные сельди отмечают разрывы в деликатных циклах нереста, кормежки, в медленных теченьях вод. Когда груз идет на дно, он вытесняет воду, волнует рыб, рыбы выходят из себя. А два года назад в окутанные ночным туманом воды хлынул поток красной глины с прибрежного обрыва, откуда-то покатились огромные камни и успокоились в мягком прибрежном иле. Потом туда же рухнул алтарь. И крест. А теперь вот это…
Странный гость кренится набок. Каннибалы сплываются на его тусклый желтый свет. Этот неуклюжий, вперевалочку спуск, – наверное, в нем повинен тот самый воздух, из которого на них снизошел столь бессмысленный, бесполезный дар. Ага, вот сейчас, сейчас вывалится наконец то, ради чего они здесь столпились: они вглядываются в мерцающий желтый глаз, и, похоже, там, внутри, находится создание с поверхности. К тому же живое! На мгновение они позабыли о вечной потребности в пище и наблюдают за расчетливыми, настойчивыми маневрами предмета. Вот ведь искушение! Ну конечно, сейчас предмет поведет себя так же, как и все остальные, спускавшиеся к ним с поверхности. Однако усики, идущие на самый верх, напрягаются, потом выгибаются, расслабляются и, снова напрягшись, тянут предмет по дну, так что он, подскакивая, продвигается к расщелине.
Каннибалы плывут следом. На пути им попадается сельдь с отслаивающейся чешуей, пожелтевшими плавниками – они ее съедают. Предмет зависает на самом краю расщелины – теперь понятно, куда он держит путь. Вообще-то, каннибалам никто и никогда не запрещал спускаться в черное жерло расщелины, да и про опасности, поджидающие там, они тоже не слыхали. Много-много зим назад кто-то из них уже предпринял туда экспедицию – совершенно бессмысленную, и с тех пор туда никто не заплывал. Почему – они и сами не знают. Но что-то говорит им, что в этой черноте не стоит метать икру и с хрупаньем пожирать сородичей; даже упавшие на этакую глубину обитатели поверхности их не интересуют. Если б им снова попалась какая-то обессилевшая, больная селедка, они бы отвлеклись, занялись ею, но создается впечатление, что существо нарочно их поджидает, его усики дергаются все настойчивее. Предмет дрожит, колеблется, затем резко выпрямляется, усики напрягаются снова, и предмет, покачавшись на краю, начинает спуск. Они плывут следом.
Будь море более подвижным, эта расщелина давно бы затянулась. Плотные течения нагнали бы сюда глину и аргиллит, расщелина бы постепенно заросла, и тогда ни бочка, ни ее эскорт из сельдей не смогли бы сюда спуститься. Достаточно было бы щепотки глины раз в неделю, и за сорок тысячелетий каньон смог бы заполниться до краев. Да, он поглотил целый город – ну и что? От этого попахивает неприличным нетерпением и суетливостью. Спокойное, последовательное накопление – вот что правильно. Но остров разделил потоки впадающих в море Одера и Пеене, преградил им путь, и поэтому у дна вода почти неподвижна, чуть ли не мертва, колыхаясь, пожалуй, только от движения каннибальих плавников, когда эти рыбы вьются у края гладкой, созданной льдами расселины, вглядываясь в непонятное создание, чьи судорожные движения странным образом отражают их собственное волнение: создание дергает головой, размахивает руками, срыгивает еду. Так они и опускаются сквозь толщу моря к Винете – каннибалы, большое создание и создание внутри создания.
Сальвестро приходит в себя в кромешной тьме, голова раскалывается от боли – на ней вспухает шишка размером с яйцо. У ног его накапливается вода. Он нащупывает свечу и трут. При свете пространство внутри бочки кажется совсем крохотным. Он вглядывается в окошко, видит собственное отражение, отпечатанное в непроглядной тьме. Вонь невыносимая. Он хватает сигнальный линь и резко дергает – один раз. Проходит некоторое время, потом он чувствует крен, и его судно, странно раскачиваясь, начинает спускаться.
Пульсирующая боль в голове усиливается. Он пытается вставить свечу в предназначенный для нее держатель, но то ли он сам дрожит, то ли бочку раскачивает – ничего не получается. Его тошнит, но – вот странно! – это его почти не беспокоит. Ну и что? Свеча просто не желает лезть в держалку, а вода просто поднимается. Уже до груди добралась. Ему начинают чудиться странные вещи – будто стенки бочки вращаются вокруг него, окрашивая воздух в желтый цвет. Как забавно! Но явно неправильно.
Вода поднимается выше, Сальвестро поводит руками, ему смешно. Действительно, ужасно забавно, что ему никак не нащупать сигнальный линь, а когда наконец он обнаруживает, что линь не натянут, а болтается свободно, то смеется во весь голос. Он хохочет и хохочет, пока не начинает рыдать и задыхаться, а потом его рвет рыбой и желчью. Дышать становится совсем тяжело, кажется, будто голова с разверстым в безумном хохоте ртом вот-вот оторвется от бьющегося в конвульсиях тела и воспарит. Он словно бы видит себя изнутри – переплетающиеся жилы, дрожащие мембраны, пропитанные кровью губчатые легкие. Кровь, изголодавшаяся по кислороду, закупоривает сетчатку, глаза, испещренные лопающимися сосудами, вылезают из орбит, воздуху мало, воздуху не хватает. Кровь Сальвестро вскипает в мертвой атмосфере бочки, тело больше не повинуется ему. Пищевод – сверкающий желоб, ведущий во тьму желудка. В легких ощутимо покалывает – не проникла ли туда жидкость? – он чувствует, как ночное небо давит на ночное море, а между ними парит тело с белой, словно кость, кожей – или это лунный свет? Тело ребенка плавает в Ахтервассере. Винета зовет к себе, и теперь он спускается к ней, превращается в того, кем не стал тогда. Ребенок лежит на воде, та несет его – куда? Он не знает. Вода выносит его на берег подле Грайфсвальдера; обессиленный, он ползет в лес, чтобы провести первую из бесконечных ночей под открытым небом. Наутро солнце разбудит его, зарывшегося в густую траву. Он уйдет еще глубже в лес, будет скитаться, обходя деревни, держась поближе к деревьям. Он станет лицом, мелькающим во мраке, в отблесках костров, и родители будут пугать им непослушных, не желающих отправляться спать детей. Зимы будут гнать его дальше на юг, этого вскормленного отбросами обитателя задворков и лесов.
Но подводные течения Ахтервассера могли выбрать и другие пути, и существо, которым он мог стать уже тогда, наблюдает, как он погружается и исчезает. Водяной, состоящий не то из воздуха, не то из воды, поджидает на мелководье, караулит его среди брызг, которые вздымает легкий ветерок. Это тайна, о которой перешептываются волны, и теперь он здесь, все еще призрачный, но становящийся по мере погружения все более определенным, плоть от плоти утонувшей Винеты. Вода давит на него, под ее прессом у водяного формируются конечности, он обретает тело, снова сливается с плотью и кровью, утраченными в Ахтервассере много лет назад…
Из-за чего все это? Из-за того, что вода здесь мертвенно-неподвижна? Или тому виной нехватка кислорода в прытком мозгу сельдей? А может, резкая перемена кровяного давления, здесь, на огромной глубине, между корявых стен расщелины, заставляющая трепетать их спинные плавники? Водные массы вдруг устремились вверх. Неужели пояс осадочных пород уже пройден?… Дрожание вод сопровождается пугающим отдаленным гулом, выпученные рыбьи глаза тоже дрожат. Перепуганные каннибалы перестраиваются, существо же по-прежнему погружается: рыбы видят, как скользят вниз его усики. На фоне черного морского дна что-то возникает – в сопровождении вспышек, напоминающих солнечные блики на поверхности моря. От обрыва отделяются комья глины, падают в воду – что же там на самом деле происходит? Вода становится окончательной реальностью, полностью безвоздушной, абсолютной жидкостью, – им следует возвращаться, всплывать, убираться отсюда. Давление внутри их растет, кровь густеет, внутренние органы работают на пределе. Существо продолжает погружаться, и вспышки кажутся им теперь глазами, сотнями глаз, то открывающихся, то закрывающихся. Вода смыкается вокруг них, выносить это больше невозможно. Вспышка; существо все пробивается сквозь толщу воды, они следуют за ним, зная, что надежды никакой, что они поступают неправильно. Абсолютная вода – это пасть, смыкающаяся вокруг их плавников в темной пучине; абсолютный воздух означает смерть от удушья в ярком высоком небе – вверху или внизу? Они достигли и того и другого, и низ и верх сомкнулись, подобно челюстям. Существо сидит неподвижно, по-прежнему непонятное, и издает глухой ропот, а они вьются вокруг него, тонут, и город начинает медленно отпечатываться на сетчатке их лишенных век глаз. Водяной – он теперь наверху, над водой; это лодочник, он наклонился над бортом, вот его уже видно… Канат, делящий его надвое, – так видно из-под воды, – вздрагивает и натягивается, водяной раскачивается, дрожит от натуги, и предмет кренится, а потом начинает подниматься.
Канат быстро заскользил по борту, потом так же внезапно остановился. Бернардо закрепил его, обмотал вокруг уключины и уселся ждать следующего сигнала. Сальвестро достиг дна.
Он уж и не помнил, сколько раз засыпал под голос товарища, расписывавшего город в глубинах моря. Голос разгонял тоску и вспышки ярости, которые иначе бы поглотили его целиком – сам он с ними справиться не мог. Даже еще не виденное им, это море сотни раз развеивало мрачное настроение. Они сидели у костра, в голове его рокотали черные волны, но голос Сальвестро успокаивал, заставлял мысли бежать по новому пути, и он укладывался спать. Сколько он себя помнил, его мучил голод, который можно было приглушить, но удовлетворить – никогда. Даже после Прато. «Там будет хорошо», – сказал его товарищ, когда они стояли на болотистом берегу и смотрели через Ахтервассер на Узедом. Он кивнул: кто-то когда-то говорил ему, что голодающий станет жрать и уголь.
Ленивые волны ласкали лодку, вздымаясь и опадая. Ему было одиноко, и он забавлялся тем, что закручивал и раскручивал свободный конец каната. С тех пор как Сальвестро оказался за бортом и скрылся в глубине медлительных вод, прошло всего несколько минут, но они казались часами. Годами. Потом, в другие времена, он будет вспоминать этот день как «тот день, когда…». Но это наступит не скоро. Он раскрутил канат, потом пересел в центр лодки, со всех сторон окруженной морем, – этакая никчемная точка на бесконечной серой поверхности. Сигнальный линь натягивался, ослаблялся: лодку качало. Ну тяни, тяни! – мысленно умолял он своего ушедшего в пучину партнера. Его подташнивало – то ли от качки, то ли от голода, непонятно. Может, Сальвестро попал прямо в самый богатый храм? Он непременно пересчитает все сокровища, которые они поднимут, оценит их вес, прикинет, сколько поместится в лодке, – они ведь научились делать это там, в пруду. Все еще возможно. Но минуты шли, и возможность таяла. Сальвестро что-то с ним обсуждал по поводу воздуха, но что именно, он позабыл. Может, мало воздуха? И еще необходимость держать равновесие – тоже проблема. Вот грести ему понравилось, да и спуск тоже удался – был, правда, удар, но линь не подавал никаких сигналов, о, если бы Сальвестро был здесь и что-нибудь решил! А так – минуты шли, давили на него, ему это очень не нравилось, и он огласил воды ревом отчаянья.
Бернардо перегнулся и несколько раз раздраженно дернул за линь. На последнем рывке тот оборвался. Или ему показалось, что оборвался. Скорее всего, оборвался. Слишком уж он сильный и слишком глупый! Частенько его ласки оборачивались увечьями: шеи ломались, словно свечки. Он начал тихонько всхлипывать и шмыгать носом. Сальвестро, конечно, ублюдок, но без него он чувствовал себя совершенно потерянным и не знал, что делать. Сальвестро должен подать знак, он же обещал! Может, еще не поздно? Бернардо передвинулся и, раскорячившись между уключинами, уперся ногами в дно, потом отвязал канат, взялся за свободный конец и потянул. И сразу почувствовал, как снизу, из глубины, начала подниматься бочка и ее содержимое – он хорошо чувствовал вес. Туман уже почти рассеялся. Перебирая руками, Бернардо тянул мокрый упругий канат и вскоре вспотел, хотя солнце, уже почти зимнее, нисколько не грело.
Он поймал ритм, бормоча: «Раз-два, раз-два», и вес бочки, хотя и уменьшаемый водой, становился все более ощутимым. Откуда-то со стороны берега донеслись вскрики, всплески, но он, занятый своим делом, счел эти звуки обычным шумом волн и продолжал тянуть. Звуки становились громче, настойчивее. «Раз-два, раз-два», – считал Бернардо. И вдруг прозвучал резкий оклик-приказание: «Стой!» Этот крик нарушил ритм.
Он поднял голову и замер: с обрыва к воде мчались серые фигурки. Монахи. Некоторые уже достигли того, что он раньше счел грудой плавуна, – теперь это выглядело как огромное гнездо, свитое из бревен. Братья кричали друг на друга, лезли в гнездо, один, тот, что призывал других подождать, протолкался вперед, кого-то отогнал прочь, другим вручил что-то, издали похожее на весла. Ну конечно, весла, потому что все они били по воде, вздымали брызги; и вот плот отчалил от берега. Монахи на борту – человек десять, может, дюжина – горячо взялись за дело, но гребцами оказались неопытными. Плот крутило, он двигался неуклюже, рывками. Монах, возглавлявший команду, вопил и размахивал руками. Гребцы стали двигать веслами слаженнее, равномернее. Бернардо, раскрыв рот, смотрел на рысканье плота – вправо, влево, назад к обрыву, но общее направление уже угадывалось: они плыли к нему. Канат выскользнул у него из рук, бочка снова начала опускаться. Бернардо глянул в воду, потом на монахов и вернулся к своему занятию. Раз-два, раз-два… Крики отвлекли его, руки дрогнули, бочка переменила положение, и лодка резко качнулась. «Все пропало», – подумал он испуганно. Монахи, кажется, овладели своим судном и шли на него прямым курсом. Бернардо резко выдохнул, потянул, вес с каждым мгновением становился все ощутимее. Наверное, его друг сейчас уже прямо под ним. Он глубоко вздохнул, стараясь отрешиться от наплывающего на него шума и гама. Раз-два, раз-два… Бу-у-ум!