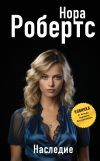Текст книги "Носорог для Папы Римского"
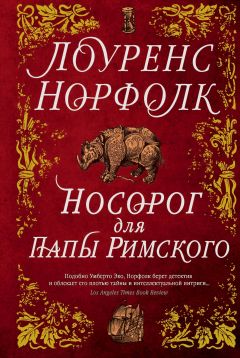
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
– Получено некое сообщение. От Албукерки, из Индий. Он прислал словечко сюда, в Рим, доктору Фарии. Они с ним заключили договор. Говорят, дону Маноло он очень даже на руку – маленький такой договорчик, чтобы порадовать его святейшество.
– И помочь прохождению буллы, – добавляет из-за его спины Антонио.
– Я скажу вам все, что слышал. А слышал я, что посол в последнее время прямо-таки цветет. Такой веселый стал, такой обходительный. Да, так вот, в послании говорится, что из Гоа будет послан какой-то груз. Второй зверь, товарищ для возлюбленного Ганнона.
– Еще один слон? – осведомляется Антонио.
Вентуро весь из себя изворачивается, отвечая секретарю лично:
– Да нет, говорят, совсем другой зверь. Доктор Фария говорит, что он о таком еще не слыхивал.
– И как называется этот неслыханный зверь? – мягко спрашивает дон Херонимо.
– Ах, господин посол Вич, должен покаяться, я совершенный невежда в этом вопросе. Имя-то как раз и не упоминалось, а если и упоминалось, то я при этом не присутствовал. – Вентуро нервно хихикает. – Но не сомневайтесь, ушки-то на макушке.
Дон Херонимо и Антонио обмениваются улыбками.
– Ушки на макушке?
– Это просто фигура речи такая, господин посол, не более того. Я всего лишь имел в виду…
– Имя зверя, Вентуро, имя.
– Как я уже сказал, сие мне пока недоступно…
– Антонио, он сказал, что у него ушки на макушке.
– Нет, я говорил, что имя мне пока неведомо. Клянусь, господа!
Антонио собирается было возобновить трепку, но дон Херонимо предостерегающе поднимает руку и закусывает губу. Поразмыслив, он приказывает:
– Дон Антонио, будьте любезны послать за доном Диего.
– Нет! – вопит Вентуро. Антонио направляется к дверям, вызывая на ходу дона Диего, Вентуро цепляется за его рукав. – Я же сказал, что пока не знаю!
– Однако знаете, что ушки у него на макушке? – И дон Херонимо сокрушенно качает головой.
– Ну прошу, дон Херонимо, я же все рассказал, что знаю. Я же вам всегда был верен, разве не так? А теперь я прошу поверить мне, умоляю!
Вентуро раскачивается на своем стуле, на физиономии у него написана самая искренняя мольба, а взгляд устремлен на дверь – ту, что за спиной у дона Херонимо. Внезапно дверь распахивается и на пороге возникают Антонио и дон Диего. Дон Диего направляется прямиком к Вентуро и, ни секунды не помедлив, отвешивает тому звонкую пощечину, затем одной рукой пригибает голову Вентуро к столу, а второй ловко выхватывает нож. Вентуро разражается рыданиями.
– Да не знаю я, незнаю, – вопит он снова и снова.
– Итак, имя, Вентуро… – снова спрашивает дон Херонимо, но в ответ получает лишь вопли. – Что ж, дон Диего… Вентуро здесь пообещал нам, что ради нашего дела будет держать на макушке свои собственные уши, поэтому…
– Не-е-ет-нет-нет! Пожа-а-алуйста… Я не знаю, как он называется, не знаю!
Дон Диего и не думает останавливаться, но прежде, чем он успевает хотя бы оцарапать ухо Вентуро, тот начинает верещать.
– Хватит, – приказывает дон Херонимо и откидывается на спинку кресла. – Благодарю вас, дон Диего. На сегодня доста-точно.
Все с той же непроницаемой физиономией дон Диего кивает, отпускает свою жертву, разворачивается и выходит вон. Тяжелые солдатские сапоги топают по соседней зале. Вентуро, по-прежнему распростертый на столе, шмыгает носом. Антонио поднимает его за шкирку и усаживает на стул. Дон Херонимо внимательно его разглядывает. Проходит пара долгих минут.
– Что ж, Вентуро, вы вели себя как настоящий храбрец, – заключает наконец он.
Вентуро, продолжая всхлипывать, кивает.
– Кажется, вам что-то в глаза попало, вода, не так ли? Антонио, подайте Вентуро платок. Его собственный слишком запачкался. Вот так. Теперь лучше?
– Он сегодня должен был рассказать его святейшеству про нового зверя, – бормочет, вытирая слезы, Вентуро. – Сегодня собирался сказать, вы же сами там были, а не я, так откуда мне знать, сказал он или нет? Чистую правду говорю, клянусь, ничего больше не знаю.
– Естественно, Вентуро, мы вам верим. Разве иначе мы стали бы подвергать вас такому испытанию? Вы – один из нас, свой человек. Значит, когда узнаете, расскажете, верно?
Вентуро снова громко всхлипывает и кивает.
– Прекрасно. Антонио заплатит вам за труды. А сейчас подойдите и поцелуемся.
Они соприкасаются щеками, и Дон Херонимо чувствует источаемый Вентуро кислый запах страха.
Несколькими минутами позже Антонио выходит к послу на лоджию.
– Ну и как, Антонио, верим мы ему?
– Ах, ваше превосходительство, он прекрасно понимал, что мы не станем колотить его по-настоящему – побоимся оставлять слишком явные следы.
– Однако испугался он по-настоящему. А я боюсь, что тот рогатый любитель девственниц, о котором говорил Папа, и есть таинственный зверь Фарии. Во всяком случае, нас больше должен беспокоить сам факт существования этого зверя, а не то, как он называется. Фария и сам не станет долго держать это в секрете: он большой мастер нахваливать себя, в этом я сегодня снова убедился. Что же касается его святейшества… С его стороны это хитрый ход – стравить нас с Фарией именно таким образом. Однако всяческие чудеса интересуют его куда больше, чем союзы, союзники и армии. Уверяю вас, если б у нас были дракон, грифон и кентавр, то мы бы овладели и Африкой, и Индиями, и Новым Светом, вместе взятыми. Но неужели кардинал Медичи так быстро забыл о том, кто ему вернул его любимую Флоренцию?
– Некоторые полагают, что это не совсем приятное воспоминание.
– О, не сомневаюсь, он вряд ли хочет, чтобы ему об этом напоминали. Возможно, этим и объясняется его страсть к развлечениям, но все равно, Антонио, он не любит ни меня, ни нашего короля. – Посол делает паузу: разговор заходит в некий тупик. – Я его не понимаю. Не понимаю я этого нашего Папу.
– Он так же наивен и предсказуем, как женщина, – отвечает Антонио. – А все проблемы – из-за его бесконечных причуд.
Они смотрят вниз, на двор. Там пусто, тихо, послеполуденное солнце так раскалило плиты, что обоим слепит глаза. Дон Херонимо вспоминает сегодняшнее утро, огромного зверя – такого неуклюжего, грубого, будто некий черновой набросок. А Папа радовался ему как малое дитя. Возможно, самые ничтожные его капризы разрастаются до таких масштабов только потому, что никогда не встречают никакого сопротивления. Горошины размером с тыквы. Мыши с волчьим аппетитом. Наверное, в этом все дело. Здесь, в садах Бельведера, причуды Папы расцветают пышным цветом – вне зависимости от времени года, ничем не обузданные, они вырастают в настоящих монстров. Наивен, как женщина? Да, так оно и есть. Дон Херонимо поворачивается к секретарю:
– У меня назначено свидание с моей дамой – я пообещал сопроводить ее к мессе во дворце Колонны. Говорят, празднества в день святых Филиппа и Иакова весьма впечатляющи, а мне необходимо развлечься.
– Ваше превосходительство, возьмите с собой дона Диего, – предлагает Антонио.
– Ухаживать за дамой в компании солдатни? Какая нелепица! Она признает одно-единственное оружие, а дон Диего им не владеет.
– Но, дон Херонимо, в настоящее время мы вряд ли пользуемся здесь любовью. Если вас застигнут одного, без сопровождения, они смогут…
– Бросьте, Антонио, мы же не в Венеции! Фария не посмеет. Я отправлюсь к ней раньше назначенного часа, пусть это станет для нее сюрпризом. А ты еще встречаешься с этой распутницей из Рипы?
Антонио кивает:
– Я от нее за гроши имею столько же радостей, за какие в другом месте мне пришлось бы платить полной мерой. По-моему, она просто дурочка.
– Мою глупышкой точно не назовешь. У нее самые алые губы на свете, самые золотые волосы, самые маленькие ножки и самый прыткий ум. Она играет на лютне или говорит, что играет, поет, читает стихи. Меня волнует сама мысль о ней, и, клянусь, порой я даже думаю, что люблю эту женщину…
Тут дон Херонимо умолкает, словно обо что-то спотыкается, словно что-то мешает ему и дальше петь дифирамбы даме сердца. Антонио смотрит на него с любопытством. Нужно упомянуть еще кое о чем, однако преодолеть сей рубеж будет трудновато, а главное, непонятно, славить ему эту особенность своей возлюбленной или, напротив, хулить? По правде говоря, именно эта особенность и смущает и даже отталкивает Антонио, когда он размышляет о ней. Но в тиши и темноте спальни, когда плоть сливается с плотью, когда его руки скользят по всем ее склонам и возвышенностям, лихорадочно их исследуя, тогда… Ладно, если совсем уж откровенно, его возлюбленная чересчур пышна телом. Тут никак не вывернуться, это сразу бросается в глаза: возлюбленная его очень, очень толста.
День клонится к закату, Антонио поглядывает на своего господина. Громоздкость зверя и громоздкость его возлюбленной Фьяметты, они каким-то образом… согласуются? Налепи ей рог на нос, одень в серое, и?… Нет. Он чувствует необыкновенное умиротворение, мысли его текут легко, прямо под носом у секретаря. Ах ты, предатель, ах ты, мерзавец, Антонио, да я тебе глотку перережу! Прямо под носом. Рога и девственницы…
И дон Херонимо, терзаемый яростью, но все же не в силах сдержать восхищения, провалившийся в пропасть между двумя этими противоположностями, вопит так оглушительно, что секретарь пугается, подскакивают сморенные полуденной дремой слуги, улепетывают в укромные тенистые уголки пригревшиеся на солнце ящерки.
– Плиний! – кричит дон Херонимо.
Этот домище, подобный утесу из травертина и туфа, возникает внезапно: он прямо-таки нависает над пьяцца-деи-Сантиссими Апостоли и тянется во всю ее длину. Маленькие, перекрытые тяжелыми чугунными решетками окна полуподвала похожи на амбразуры, вырубленные в могучих крепостных стенах. Окна следующих этажей стерегут ставни и прутья. Арочный вход также надежно защищен тяжелыми дубовыми вратами, окованными железом, выглядят они весьма неприветливо, и впечатление это усиливается примыкающей к дому церковью. С другой стороны площади на это архитектурное чудище униженно поглядывают ветхие домишки и конюшни. А замок Колонны – могучая, высокомерная, несокрушимая каменная громада – даже не замечает этих жалких, муравьям подобных пришлецов: она здесь от века и на века.
Внутри же все выглядит несколько иначе. Поколения за поколениями представители своевольного семейства Колонны удовлетворяли свою страсть ко всевозможным башням, мезонинам, балконам, переходам, небольшим укрытиям; во внутренних стенах прокладывались потайные лесенки, соединявшие спальни с гостиными, новые парадные залы возникали путем объединения буфетной с парой кухонь. Высота полов в помещениях разнилась самым решительным образом. Рабочие взмахивали молотками, будучи полностью уверенными, например, в том, что пробивают проход в некую определенную комнату, но все шло наперекосяк: стена оказывалась вовсе не той стеной, и они попадали совсем в другое помещение. Рабочие просовывали в дыру обсыпанные каменной крошкой головы и вместо того, чтобы увидеть предполагавшийся чулан, или уборную, или чердак, видели кабинет или спальню слуг, да все что угодно, кроме того что предполагалось увидеть. Пожилые кузины, вертевшиеся перед зеркалами в дезабилье, вопили от ужаса, когда откуда ни возьмись в зеркалах возникали чумазые рожи вооруженных молотками мужланов. Обитателей людской заставали в разгар самых постыдных и низменных удовольствий. Согласитесь, это раздражает и нервирует – в особенности прорабов. С какой стати вон тот маленький зал оказался на этом этаже, когда должен был находиться совсем на другом? И откуда взялась эта столовая? Новые проходы-переходы заводили их в давно потерянные комнаты, о наличии которых забыли много поколений назад, в комнаты невозможные, несуществующие, входы в которые были замурованы в процессе прежних «усовершенствований».
Частенько обрушивались потолки и перекрытия. Ходили слухи о дверях, которые открывались в никуда, – откроешь, а за ними ясное небо да отвесная стена, пятьдесят футов до земли. Коридоры изгибались под самыми невероятными углами, и никто не знал, что ждет в конце. За могучим, несокрушимым фасадом зам-ка – дыры, провалы, ловушки. В этом архитектурном хаосе есть едва ли не все – столько здесь трещин, изломов, каких-то бессмысленных и бесполезных клинообразных проемов, внутренних двориков, которые видны из окон, но в которые никоим образом невозможно выйти, колодцев, перекрытых печных труб. Время от времени эти закрытые дворы-колодцы заливает вода – откуда она берется, никто не знает, – из окон туда выливают содержимое ночных горшков, грязные тряпки, там же гниют собачьи кости и собачье дерьмо, внутренности животных, овощные очистки и прочие отбросы. Из углов и из трещин во внутренних стенах замка в самые неожиданные моменты вдруг тянет мерзейшей вонью, и зимой в эти колодцы спускают в плетеных корзинах слуг, а в самые узкие – мальчишек, хоть как-то вычерпать грязь и гниль. Летом же вонь разливается с прежней силой.
И еще одна шарада: если церковь Сантиссими-Апостоли действительно каким-то образом оторвалась от примыкающего к ней дворца, чтобы стать теперешним загадочным сооружением, то никто не помнит, когда именно это произошло. Всегда считалось, что западная стена нефа примыкает к восточной стене дворца и что западное крыло трансепта вообще вторгается в смежное здание. В том конце дворца полным-полно коридоров и переходов, но все они имеют вид запущенный и, скорее, смахивают на тупики. Как ни разглядывай и ни примеривайся, теория о внедряющемся во дворец трансепте представляется несостоятельной. А можно ли пройти из дворца прямо в церковь? Еще как можно – надо лишь вот в этом месте пробить стену, и попадешь на верхнюю галерею, которая идет вокруг всей церкви…
Люди, орудующие молотами и ломами, приучены уже ко всяческим чудесам, но те ночные горшки все равно застают их врасплох. Снова крошится камень, снова просовывается в дыру голова, и вот пожалуйста: та стена – она не там, где ей полагается стоять, а футах в тридцати-сорока. Когда смотришь с площади, кажется, что церковь и дворец вплотную прилегают друг к другу, а на самом деле – нет: еще одна бесцельная и непостижимая прогалина, еще одна сбивка во внутренней топографии замка (здесь явно руководствовались некоей шизофренической геометрией). Фабрицио[91]91
Фабрицио – Фабрицио I Колонна (1460–1520) – первый герцог Палиано из династии Колонна ди Палиано, кондотьер, великий коннетабль Неаполитанского королевства.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] помнит: ему было пять лет, когда он обнаружил эту тайную брешь. Он высунулся из окна и увидел внизу, футах в двадцати, внутренний двор, сверху похожий на ломоть сыра, только здоровенный, со стороной в сотню футов. Перепуганные няньки оттащили его от окна, но он пользовался каждой подходящей минуткой, чтобы поглазеть на строителей: вот они нарезают канаты, которыми будут крепить леса, поднимают лебедками балки, вываливают из мешков в чан известь, песок и конский волос для приготовления штукатурки. А один человек целый день был занят тем, что нарезал дранку. Разрыв, брешь, дыра: но для деда Фабрицио, по крайней мере, решение было очевидным.
На протяжении многих недель Фабрицио все смотрел, как дюйм за дюймом росла эта конструкция. Чем дальше она продвигалась к грубой стене напротив, тем невозможнее она казалась, а когда наконец достигла церкви, то апостолы сподобились сотворить небольшое чудо, и в одно мгновение конструкция из чего-то невероятного превратилась в нечто неизбежное, как будто этот коридор между дворцом Колонны и церковью Сантиссими-Апостоли существовал всегда, с этим его неровным полом, маленькими окошками и матовыми стеклами внутри их, с крытой свинцовыми пластинами крышей – на случай непогоды. Была ли торжественная церемония по завершении строительства или не было? Фабрицио Колонна, теперь седовласый, болезненно прямой – позвоночник совсем не гнется, – терпеливо ждет, пока слуги распечатают дверь того самого коридора, и роется в воспоминаниях. Мысли его блуждают между «тогда» и «сейчас». Когда же это было? Лет пятьдесят назад? Сейчас коридором тоже пользуются, но всего лишь раз в год. Позади переминаются с ноги на ногу сопровождающие. Кто-то кашляет. Ну конечно! Вспомнил! Цепочки слуг несли дымящиеся блюда, подносы с засахаренными фруктами. Солнечные лучи, отражаясь от фронтона церкви, проникали сквозь матовое стекло и заливали все теплым розоватым светом. Гости пили вино, переговаривались и точно так же переминались с ноги на ногу, словно пробуя настил на крепость. Сухой смолистый запах свежего дерева. Вот затворилась дверь за последним из приглашенных на празднество. Скоро ночь, лунный свет льется на бесчисленные башенки замка, на черепицу и шпили церкви, на двух этих монстров, сотворенных из камня и дерева. Тот же холодный свет просачивается сквозь матовые стекла коридора. Поначалу здесь стоит тишина, но потом слышатся шелест, фырканье, хруст, скрежет и мелкий топот – это две враждующие армии выслали вперед своих эмиссаров. В церкви и в крепости обитают не только человеческие существа. И теперь, когда между ними построен мост, конфликта не избежать. В ту ночь началась крысиная война.
Несколько недель назад, услышав, как застучали молотки, завизжали пилы, заскребли мастерки, крысы из замка стали интересоваться, что же с ними будет. Из Центрального Гнезда были высланы лазутчики-добровольцы – они протискивались в щели, проползали на брюхе под полом, вытягивали усики и напрягали все свои органы чувств. Обследовав коридор, они усмотрели в действиях строителей очередную бессмыслицу, дурость, хотя и куда менее вредную, чем предыдущие. Крысам этот коридор давал возможность построить еще одно, дальнее гнездо – в общем-то, совершенно ненужное, и без него прекрасно обходились. И лазутчики вернулись в Центральное Гнездо с сообщением: «Можно не обращать внимания».
Что оказалось неверным.
Первое столкновение, в западной части дворца, произошло случайно и было каким-то бестолковым: две самки, отправившиеся на поиски продовольствия, по возвращении натолкнулись на двух странно пахнувших самцов; в результате одну убили, вторую обрюхатили. В ту же ночь было разорено гнездо за деревянной панелью в районе кухонь: трое самцов с откушенными головами валялись на ступеньках подвала, а у нескольких самок, в ужасе забившихся в щель внешней стены, хвосты были отгрызены до основания. Вряд ли это можно было списать на обычную суматоху, сопровождавшую брачные игры. В Центральном Гнезде состоялось экстренное совещание, после чего были разосланы новые разведчики и начали раздаваться первые, пока еще робкие предложения о создании армии.
Апостольские крысы, нагло посмеиваясь, выскочили из засады и поубивали всех разведчиков – кроме одного, который и доложил о случившемся. Значит, ситуация еще хуже, чем поначалу представлялось Центральному Гнезду: соперничающая колония, такая же большая, как их собственная, такая же, возможно, свирепая, жадная, стремящаяся к экспансии… Состоялось еще несколько совещаний, хотя всем было ясно, что существует единственно возможный план действий. Из штолен и из-под крыши крепости Колонны потянуло крысиными секрециями – там шли учения, отрабатывались соответствующие позы: нападение, подчинение, победа, проигрыш… Учения сопровождались соответствующим писком, означавшим угрозу, свирепость, разочарование. В самой глубине лабиринта Центрального Гнезда девять самцов, надышавшись пьянящими испарениями крысиной ярости и дрожа от них, прижимались друг к другу, сплетая и расплетая хвосты, пока не слились воедино, превратившись в символ могучей, сокрушительной атаки.
И в последующие три ночи шла битва между крысами церкви и крысами замка, битва не на жизнь, а на смерть: случайные стычки в переходах, щелях, под полом, яростные групповые схватки, рейды, отражения атак… Им даже случалось мериться силой, грызясь один на один на открытом полу, прямо на виду у великанов. Как и в каждой войне, случались совсем уж дикие зверства. На вторую ночь колоннские использовали в качестве приманки раненую апостольскую самку – в ходе битвы ей откусили все четыре лапы. К ней, естественно, был выслан отряд с заданием прикончить ее из милосердия. Крысы продвигались осторожно, вынюхивая, выглядывая, выставив вперед усы: они понимали, что враг рядом, совсем близко, что надо быть предельно внимательными… Но как она кричала! И раны, раны – такие ужасные! Церковные, забыв об осторожности, рванули вперед, чтобы поскорее перекусить ей яремную вену, и в это мгновение замковые – все это время они, невидимые и неслышимые, наблюдали за противником – ринулись из засады, из-под стропил, на которых лежали, притаившись, набросились сверху на своих противников, переломили им хребты, выкусили глаза, и в результате на полу коридора остались лежать девять трупов, а победители отправились восвояси пировать – слизывать друг у друга со шкур капли вражьей крови.
Соседним колониям, располагавшимся под церквями и часовнями виа Лата, пришлось сменить места обитания: одни отправились на север, к деревенским кузенам, добывавшим себе пропитание на виноградниках и пастбищах Пинчо, другие двинулись на юг, в центр города. Римские крысы забились по своим норам и, высунув скользкие от кислотных секреций языки, обнажив розовато-серые десны, ощерив острые желтые зубы, дрожали от ужаса перед небывалой резней. От них воняло страхом, и ферменты ужаса распространялись по туннелям и катакомбам… Свирепствующие коты и крысоловы – привычная напасть, но крысиная война! От волнения крысы сучили лапами, скребли когтями, и только те, что жили у реки, сохраняли спокойствие, хотя и до них доносились сигналы из города, и они настроили уши на верхние регистры, на частоты беспокойства, носами учуяв страх, темными потоками изливавшийся к Борго. Однако эти слабые сигналы мало их трогали По их мнению, та война была делом частным, всего лишь репетицией апокалипсиса. Настоящая опасность придет с запада – ее принесут чудовища, притаившиеся за рекой. Крысам уже случалось видеть, как те пересекают реку: размером с небольших лисиц, щетинистые, покрытые струпьями, жилистые, ни к чему, кроме резни, не приспособленные… В один прекрасный день к ним в поисках места для новых гнезд нагрянут крысы из Борго – легионы, заселившие римские пограничные валы, прекрасно это понимали, – и вот тогда начнется настоящая бойня. Потому они прислушивались – и ждали, принюхивались – и ждали… Это, конечно, всего лишь слухи, будто крысы с Борго пожирают собак.
Между тем и человеческим существам, обитавшим в замке Колонна – от глубочайших подвалов до самых высоких чердаков, вдоль всех коридоров и на всех этажах, – не давали спать по ночам царапанье и писк за обшивками, под полами и над потолками. Поваренок, задремавший в людской, проснулся в полном ужасе – он сам стал полем битвы обезумевших мохнатых существ. Фабрицио помнит, как прямо над его плечом пронеслась зверюга размером с кошку – она спрыгнула с балюстрады, а вдогонку за нею неслись еще три внушавших ужас и омерзение темных комка. В эти страшные ночи погибли шестьсот двадцать семь крыс. По утрам слуги разгребали кучи мертвых тел. На третью ночь выследили и убили последних из апостольских захватчиков, и на замок Колонны снова снизошли мир и покой. А коридора, в котором началась резня, стали бояться и замковые, и церковные крысы. Он стал местом, где царили воспоминания о некоем смутном кошмаре. Запретной территорией, для начала. Потом к этому примешались и другие соображения.
Слуга уронил ключи. Стук, перезвон. Наклонился, чтобы их поднять, и потревоженная пыль, год копившаяся на дверной перемычке, осела ему на голову. Слуга снова попытался вставить их в замо`к. Замо`к проржавел, скрипит, протестуя против вторжения ключей. Восковая печать крошится у него под башмаком. Старик Колонна стоит неподвижно, как статуя. Слуга сопит от напряжения, наваливается плечом на дверь, дверь подается, распахивается… Пол, словно гравием, усыпан пометом, доски рассохлись, вздыбились, крашенные охрой стены облезли, осыпались, обнажив дранку. Матовые окна и лунный свет. Свет свечей. Он ступает в коридор, гости следуют за ним. Перед ним, словно шляпки торчащих из пола гигантских гвоздей, шевелятся тела, они отбрасывают двойные тени – из-за лунного света и света свечей, потом разбегаются прочь. Остальные так и остаются неподвижными. За стенами возникает копошение, сопровождаемое странными хрустящими и поскрипывающими звуками.
Когда окончилась крысиная война, то воспоминания о минувшей резне обеспечивали в пресловутом коридоре хрупкий мир. Случайные стычки, не поощряемые ни Центральным Гнездом, ни его аналогом у апостольских крыс, свелись к минимуму. Убийство непрошеных гостей с обеих сторон воспринималось как необходимое условие перемирия. Кто знает, что за преступление лежало на совести крысы, рискнувшей искать здесь прибежища? Раем или темницей считала коридор беглая крыса, абсолютно лишенная возможности вернуться или двинуться вперед, когда глядела на своих преследователей, остановленных невысказанным запретом? С какой из сторон она явилась? Не важно, ибо слухи распространяются быстро, и вскоре этот коридор стал не подвластным никому пристанищем для изгоев: разорителей гнезд, пожирателей младенцев, психопатов, воров, проигравших претендентов… Отверженные обоих станов стекаются к коридору, принюхиваются, писком сообщают о своем присутствии, отмечают странное поведение окружающих, ищут себе какое-нибудь пропитание и находят, скажем, штукатурку.
Крыса, не подвластная никому, – голодная крыса. Штукатурка – это все же лучше, чем ничего. Изгои питаются, размножаются, вскармливают детенышей, снуют под половицами, строят себе гнезда за стенными панелями. Они склонны помногу спать, хотя и вспышки лихорадочной активности тоже случаются часто. Все дело в диете: в песке, извести и конском волосе – ингредиентах штукатурки, – с которыми расправляются острые резцы, когда изгои пытаются утолить свой голод, набрасываясь на стены. Но конский волос – вещь грубая, волокнистая, неприятная для пищеварения, и история этих ранних колонистов может быть сведена к бесконечному рассказу о запорах и спазмах, о кровотечениях и приступах геморроя, обо всех разновидностях желудочных мук. Неподвижно лежали апатичные крысы, меж тем как упорная перистальтика пропихивала жесткую пищу мимо панкреатических кист, язв, очагов катара, и тела горбились, кишки завивались спиралью, направляя все усилия внутрь, чтобы добиться хоть какого-то насыщения в результате однообразной диеты. Это изнурительно – а следовательно, порождает леность.
Известь – субстанция прямо противоположная, она резко ускоряет обмен веществ, заставляя крошечные сердца неистово биться, обостряя аппетит, посылая в систему кровообращения странные энзимы, доводящие крысиные тела до бешенства. Конский волос замедлял эти процессы, а известь ускоряла: коридорные крысы метались между возбуждением и депрессией, переключаясь с одного состояния на другое так же внезапно, как весенняя гроза порой разражается в невидимом для них небе. Вот и сейчас, как обычно, обезумевшие от извести «наркоманы» беснуются в невидимых щелях, меж тем как беспомощные лежебоки волокут свое раздувшееся от конского волоса брюхо по полу на виду у приближающейся процессии. Слуги хватают этих несчастных за хвосты, чтобы размозжить им голову об осыпающиеся стены. Кровь убиенных стекает сквозь решетки, и туда же, к их собратьям-изгоям, препровождаются трупы. Хруст и скрип затихают и вскоре сменяются едва различимыми звуками размалываемой плоти. После нескончаемой штукатурной диеты мясо только что забитых крыс представляется неописуемым деликатесом.
Колонна переставляет ноги, продвигаясь в сумраке обветшалого потайного хода. На нем шляпа – странное изделие из отороченного тесьмой бархата, имеющее форму колпака для печной трубы. Его камзол представляет собой панцирь из грубой черной кожи, усыпанный пуговицами и брильянтами. После ранения, случившегося в Равенне, камзол висит на нем как на вешалке. Несколько часов назад он, обнаженный, стоял в своей спальне, пересчитывая выпирающие из-под кожи ребра. Плоть его истощается. Он тяжело ударяет посохом по засыпанному песком, загаженному полу. Крысиные шорохи. Лунный свет. Когда он умрет, в его честь воздвигнут великолепные статуи.
– Дверь!
Слуги бросаются вперед и, сгорбившись, словно воры, принимаются неловко возиться с замком. Колонна замечает, что по-ловицы сильно искривились, о них запросто можно споткнуться. Опять пересеченная местность! За спиной у него колышется вереница народу, желая, чтобы он прошел наконец вперед: Асканио и его ублюдочный братец Умберто,[92]92
…Асканио и его ублюдочный братец Умберто… – Асканио Колонна (1500 или 1490–1557) – сын Фабрицио I Колонна от брака с Агнессой да Монтефельтро, наследовавший отцу в должности великого коннетабля. Умберто – внебрачный сын Фабрицио.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] оба со своими девками, их сестра Виттория[93]93
…их сестра Виттория… – Виттория Колонна (1490/1492-1547) – дочь Фабрицио Колонна и Агнессы да Монтефельтро, знаменитая поэтесса, подруга и вдохновительница Микеланджело.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] со своим пажом, все его высоко вознесшиеся домочадцы. Позади них томятся посланники: возлюбленный Неаполь со своей свитой и Арагон – со своей. А за ними его сотоварищи: дон Джеральдо, Вильфранш, Чезаре, верный Жерсо и другие надежные люди Колонны, ныне состарившиеся и немощные, а ведь некогда они, одной рукой уцепившись за баррикады, другой молотили по головам приспешников Орсини. Дивные деньки… Откуда-то из-за этих знакомых и незнакомых лиц доносятся птичьи насмешки, пересвисты и писки; скрип переполненных маслобоек. В голове у него погребена некая тайна.
Дальняя дверь наконец-то распахивается, и за ней под небольшим углом к коридору продолжается галерея церкви. Он шагает вперед, оступается, выпрямляется и поворачивается. Следом идет Асканио, целует ему руку, что-то бормочет, продвигается дальше. Затем – Умберто. Их потаскухи вспыхивают, и каждая делает реверанс. Раздается глухой звук падения: кто-то споткнулся-таки о половицу, и следующее лицо появляется после некоторой задержки. Это Виттория, рассерженная на него – а почему, он не может припомнить или вовсе не знает. Да, несомненно, он ее чем-то смертельно оскорбил. Сделав книксен, она исчезает. Перед ним покачиваются лица всех остальных, потом их обладатели удаляются с шарканьем по галерее. Лица людей, которых он любит или любил, лица тех, с кем он давно разругался. Он бесстрастен, словно ледник. С годами все лица стираются, сливаются, черты их переплетаются. В конце концов все они обращаются в одно и то же лицо. Ничего не выражающее – что радует.
Далее следуют слуги, сопящие каждый под своей ношей. Мес-то, отведенное ему, ожидает его посреди галереи, однако чего-то не хватает. Он снова смотрит в коридор, поверх голов, украшенных засаленными волосами или покрытых капюшонами… вот оно! К нему рывками приближается огромное позолоченное кресло. Все остальные слуги вжимаются в стены, чтобы позволить его пронести. Оно перевернуто кверху ножками, а под ним видны человеческие ноги.
– Кресло! – гаркает Колонна, когда оно с ним равняется.
Кресло замирает. Он ударяет по нему своим посохом, и движение возобновляется, только теперь посторониться просят его гостей, и вскоре галерея оказывается запруженной и в ней начинает попахивать потом: никому особо не улыбается уступать дорогу предмету мебели. Продвижение кресла замедляется. Замедляется сильнее. И прерывается вовсе. Некая громоздкая женщина распласталась, вжавшись в перила балкона и притворяясь, что все в порядке, что вполне может продолжать перемещаться, пока она будет по-прежнему заниматься своим делом, то есть флиртовать с… – здесь Колонна прищуривается – испанским послом. Вичем. Кресло предпринимает ряд легких атак, отражаемых животом женщины. Ширина галереи, ширина кресла и объемы любовницы Вича – все эти параметры настолько противоречат друг другу, что Асканио и Умберто теперь уже в открытую хохочут, а старые его сотоварищи осторожно посмеиваются. Даже у Виттории изгибаются губы. Кресло движется все более неистово, и выражение лица у женщины, когда в нее ударяется это творение краснодеревщи-ка, делается то задумчивым, то каким-то жабьим, пока кто-то из сопровождения Вича не выступает вперед и не разрешает проблему, пиная по неустойчивым ногам под креслом. Кресло валится, Вич предлагает своей даме руку, и Колонна видит, как гора плоти грациозно переступает через препятствие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?