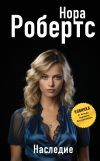Текст книги "Носорог для Папы Римского"
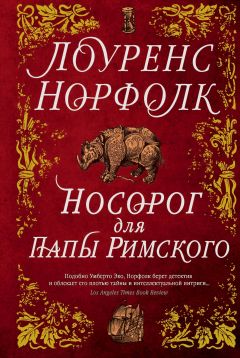
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
– Потри мне пятки пемзой.
– Надо немного подождать.
– У меня пятки как копыта, как у лошади-тяжеловоза.
– Вода их размягчит.
– Значит, ты полагаешь, что у меня – копыта?
– Нет, госпожа.
– Тогда потри пемзой.
– Потерпите.
Поначалу она знала только «нет», «пожалуйста», «да», «госпожа» и «Рим». Ри-им. Потом быстро выучилась другим словам: «вода», «солома», «хорошо», «сейчас», «скоро» и «потерпите». Кричащий, визжащий город хотел утопить ее в своем шуме, и сначала она выучила названия того, чего здесь недоставало: «Груша», «Господи благослови». Этими словами она пыталась восполнить нехватку разных вещей, мучившую ее в первые месяцы. Запястье заживало плохо, медленно, зимой она с трудом двигала рукой, зато весной рука словно оттаивала. Так уже было три раза. Город вцепился в нее со всей силы, и ее варварский акцент влился в гомон его перепутанных улиц, в их грязь и поднимавшуюся к небу вонь – суматоху, мусор, шум. «Пошел прочь», «один джулио», «два», «три», «четыре»… Она поочередно берет в руки ступни госпожи, раздвигает ее пальцы и принимается обрабатывать их пемзой.
– Теперь намыль.
– Минутку…
– Ну давай же. Я встаю.
– Каким мылом? Лимонным? Розовым?
– Он терпеть не может запаха лимона. Розовым.
Из маслянистых глубин выныривают порозовевшие предплечья. Пальцы хватаются за края ванны, плечевые мышцы напрягаются, голова наклоняется вперед, локти растопыриваются – точь-в-точь как у гребцов. Госпожа выжидает пару секунд, а затем… Затем резко поднимается, вода каскадами струится с ее груди, живота, женщина крепко упирается в дно ванны широко расставленными ногами, глотает воздух, а на лице написано легкое разочарование – словно она расстроена потерей плавучести, взгляд устремлен вперед, в некую невидимую точку, подобно взгляду согнувшегося под тяжким грузом носильщика, чей мир на миг сжался под этим самым грузом. А ведь когда-то ее даже принимали за мальчика – тощая была, как грабли.
– Три посильнее.
– Поднимите руки, госпожа.
– Теперь помедленнее… Вот так.
Она трет ей плечи, продвигается ниже, намыливает, смывает, неловко наклоняется, подхватывает мыло, намыливает под грудью. Становится на колени, – рука госпожи легко покоится на ее туго заплетенных косах. Намыливает пышную задницу. Фьяметта поворачивается. Рука больше не касается ее головы, вместо этого толстые пальцы обхватывают ее подбородок. Она смотрит вверх – на склонившемся над нею лице написана тоска. В марте умер Аккольти. А через месяц от госпожи ушел и молодой Киджи, унизив ее напоследок прощальным подарком в ларце, подбитом черным шелком. Черные дни. Домочадцы забились в кухню, не осмеливаясь показываться на глаза хозяйке, переживавшей припадок самоуничижения: долгие вечера были заполнены криками и глухими ударами, стонами, воплями, рыданиями, от которых сотрясались стены, – так продолжалось целых две недели, пока подарок Киджи не возвратился в свой ларец. В сопроводительной записке значилось: «Чтобы не скучала»; на основании же каждого из сувениров было выгравировано соответствующее существо – собака, козел, человек, бык и самым последним шел – несомненно, в напоминание о процессии, которую они вместе наблюдали с балкона Агостинова особняка, именно главный участник той процессии и вдохновил Киджи на первую из его скверных шуточек, – так вот, последним шел слон. В шкатулке из кедра располагались по возрастающей – первый размером с палец, последний же, здоровенный как дубина, – пять фаллосов из слоновой кости: формальное извещение о ее отставке. Через две недели, в субботу, она отправила обратно самый большой – вонючий, весь измазанный менструальной кровью. Теперь остался только этот старый полковой конь, не такой жестокий, как Киджи, и не такой богатый, как Аккольти, и печаль приходилось прикрывать маской веселости, пока и то и другое не удавалось поглубже упрятать в полыхании собственной плоти. Промежуточные радости. Поднятое к ней лицо спокойно, бесстрастно, хозяйка ждет, что она скажет.
– Твое платье все в пятнах. Посмотри, вот тут мыло, здесь и здесь.
– Вечером постираю.
– И ты вся вспотела.
– Пар…
– Давай сними платье.
Ситцевое платье, слишком плотное для мая, шурша, спадает на пол. Туда же, на пол, опускается и промокшая от пота тонкая нижняя юбка. Стукают сброшенные на ковер сандалии. Ей это не в тягость. Такое уже бывало – крепостные стены из юбок оплывают вокруг ее щиколоток, и она, совсем обнаженная, делает шаг вперед. «Давай снимай». Приказ, всегда один и тот же, пусть и выкрикнутый на одном из полудюжины языков, или просто жест. Купцы с любопытством разглядывают шрамы на ее щеках. Поворачивают ее и так и эдак. Иногда она лежит, раздвинув согнутые в коленях ноги, а опытный палец обследует ее влагалище, пока она не начинает визжать. А потом она зевает. Вот так она обманывает тех, кто захватил ее в плен. Зевает, и покупатель отшатывается. Сделка не состоится. Эту он точно не купит. Она проделывает такую штуку восемь раз кряду, и с каждым разом захватившие ее люди злятся все больше. Она думает, что они братья. Может, двоюродные. Они лупят ее по щекам, плюют на нее, но не решаются бить сильнее, чтобы не повредить товар. Караван двигается на север, всегда на север, дни похожи один на другой: рассвет, потом полуденная жара, вади, в которых они останавливаются передохнуть, рынки, где ее никто не покупает. Сначала в караване было восемьдесят невольников, но постепенно, по двое-трое, их число уменьшалось, как и коз, которые тащились следом, и в конце концов осталось всего трое: старик, натужно, с присвистом дышавший мальчик и она. Однажды ночью они убили старика и мальчика, бросили их тела в канаву. Она слышала, как они ссорились из-за денег, и понимала, что ссорятся из-за нее. Они ее ненавидят, но не могут от нее избавиться. Она смеется – молча, про себя; руки у нее связаны полосками козьей кожи, она сидит на песке и ждет, ей хочется узнать, что из всего этого получится. Голову жжет от горьких ягод ули, восемь она уже проглотила, осталось четыре. Четырех хватит, думает она. В конце концов они доберутся до – того прибрежного рынка, окруженного сверкающими на солнце белыми домиками, на блестящем море – маленькие кораблики. Братья напьются арака и сломают ей запястье. А потом снова поссорятся. Она ничего не стоит, лучше было б ее прикончить, но они забрались слишком далеко на север. Рана ее будет прикрыта. Генуэзский купец смеется, тянет ее за руку, видит, как напрягается тело девушки, как ее прошибает пот. Он схватил ее за сломанную руку, но она не издает ни звука. Братья согласны на сущие гроши. Уже на борту наложил на ее перелом шину: знал о нем с самого начала. Смотрит, как она вынимает из-под туго сплетенных кос припрятанные там горькие ягоды и выбрасывает их за борт. По воде плывут четыре иссиня-черных пятна, потом исчезают. Она жестами показывает, как запихивала их в рот – одну за другой, рынок за рынком… Генуэзец наконец-то понимает и смеется: удачную сделку он совершил, умненькая девчонка. Он указывает вперед и произносит слово: «Ри-им». Да, это просто. Она понимает сразу же. «Ри-им». Острый взгляд впивается в лицо женщины – та смеется, повиснув на руке своего щедрого любовника, меж тем как он отсчитывает монеты. Генуэзец наблюдает, берет монеты, уходит. Женщина от души целует любовника во впалые щеки, но глаза ее смотрят поверх его плеча, она раздевает девушку взглядом. Эу-се-бия. Хозяйка снова опускается в ванну.
– Эусебия…
– Да, госпожа…
Фьяметта внимательно оглядывает ее с ног до головы.
– Совсем еще девчонка… Эусебия, сколько тебе лет?
Она пожимает плечами – не знает.
– Повернись-ка…
Хозяйка произнесла это шепотом, и слова повисли во влажном, насыщенном ароматными парами воздухе спальни. Привычка не в состоянии притупить особый смысл этого приказания.
Она поворачивается, чувствует, как напрягаются ягодицы, слышит, как падают капли воды с вынырнувшей из ванны руки. Первое прикосновение – пока еще нерешительное, пальцы поглаживают подколенные ямочки, поднимаются выше, по бедрам, к ягодицам, касаются их нежно-нежно… Она чувствует, как набухает все там, внизу; как же это просто. Вспомни.
– Эусебия…
Девятнадцать раз она подставляла лицо дождям позднего лета, потом, после «Эу-се-бии», прошло еще три лета. С последнего раза минуло пять полнолуний, и сегодня ночью, далеко-далеко от этого Ри-има, трое глупцов уставятся в темное небо, на шестую полную луну, и будут вспоминать ее и думать, что она мертва. Теперь податься вперед, приблизиться к этому насыщенному паром дыханию, к губам, молчаливо ищущим укромную, ведущую к обители тьмы складку в нежной коже, к губам, расплетающим тугие колечки волос. Губы встречаются с другими, тающими, розовыми губами. Она медленно раздвигает ноги.
– Эусебия…
Она прожила на этом свете двадцать два года, преодолела пустыню, переплыла море. Она не принадлежит этому миру, но приняла его.
– Моя маленькая чернушка… – стонет позади нее Фьяметта.
Она ждет, когда в дело вступит такой знакомый толстый язык.
А там, за стенами, все сильнее полуденный жар, который навалился на Ри-им, придавив собой шум и суету улиц. Жители ищут спасения в тени домов и навесов, обалдев от солнца, скрываются в помещениях. Наступает временное затишье. Матроны со слугами спешат домой с рынков Навоны и Кампо-ди-Фьори. Коровы, лошади, козы, непроданные свиньи и овцы маются в загонах. Со столов убрали и спрятали в ящики рыбу, сыры, мясо. Торговцы сбились в кучки, они даже болтать не в силах. Люди обливаются потом. За ставнями, окнами, шторами, в хижинах, домах, дворцах этого города лежат без сил мужчины и женщины, пережидая удушающую жару. Делать ничего невозможно, разве что зевать, почесываться да вытаскивать из колодцев полные бадьи прохладной воды. В этих часах есть что-то от ночной дремы, исключающей всякие резкие движения. Скованные послеполуденной истомой, на кухне лежат рядышком Арнольфо и Эмилия. Огонь в очаге прогорел еще час назад. Тебальдо предпочитает валяться в тени во дворе. Виолетта куда-то исчезла, у Эмилии ушки на макушке – прислушивается, не влетит ли та в кухню, хотя, по правде говоря, она бы предпочла, чтобы в эти часы Виолетта куда-нибудь скрывалась. Эта летняя истома весьма способствует ее с Арнольфо ленивым утехам – грудь у Арнольфо могучая и волосатая, как у козла, да и доносящиеся сверху звуки тоже возбуждают: глухие удары и стоны, выкрики, потом стоны превращаются в пронзительные вопли, короткое затишье – и снова стоны, крики, всхлипыванья. Эти звуки разжигают ее куда больше, чем непосредственное лицезрение самой парочки. А после всех стонов и криков неизменно следует странная кода: череда ужасных ударов. Совершенно необъяснимая, как и их последствия на лице этой властолюбивой мавританской девки: разбитая губа, вспухшее ухо. Эти выкрики служат для Эмилии сигналом слезть с Арнольфо, или оттолкнуть его руку, трудящуюся в ней под юбками, или встать со стола, где она лежала кверху задницей, сплюнуть в мертвые угли очага, вытереть губы… Не думать больше о черной коже девки, прижатой к белой коже Фьяметты. Эмилия раскачивается взад-вперед, крепко стиснув коленями бедра Арнольфо, который качается ей в такт и только знай себе постанывает: «гн, гн, гн», а потом, когда она расстегивает верх платья и по одной вытаскивает расплывшиеся груди, он выдает «а-а-ах!». «Соси!» – приказывает она. Наверху временно затихли, только Арнольфо мычит «мммм», да с улицы, что за двором, слышны какие-то выкрики, перестук копыт. Она трется все настойчивее. Копыта. Эмилия закрывает глаза, пальцы ее впиваются в спину Арнольфо. Теперь побыстрее, да, да, да… И слышит: «Бам, бам, бам!» Что это? Слишком рано, она почти готова, но еще рано, внутри у нее все так и кипит… «Бам, бам, бам!» Случилось нечто худшее, чем она предполагала: внезапно до нее доходит, что удары доносятся не сверху, а от двери. Копыта? Лошадь! Ужас, ужас просто, она одергивает, разглаживает юбки, лихорадочно убирает за уши растрепанные волосы, машет своему недавнему наезднику – тот по-прежнему лежит на полу, содрогаясь в такт доносящимся сверху, из спальни, ударам и воплям, поскольку именно этот миг Фьяметта выбрала, чтобы громогласно объявить о своих радостях. Глухие удары сверху, резкие удары в дверь, Эмилия летит вверх по лестнице, весь дом содрогается от разноголосых звуков. «Топ-топ-топ» – это ее сандалии пробегают по полу залы, «и-и-и» – это скрипит половица, ее легкое «тук» в дверь спальни, совершенно неслышное за стуком во входную дверь, и – когда она поворачивает ручку – дикое «БАБАХ!» изнутри, из спальни. Дверь распахивается, она видит ванну, кровать, пар, раскрасневшуюся плоть хозяйки, черную кожу девчонки, и оба выглядят как пойманные звери. Фьяметта поднимается, тяжело дыша, девушка по-прежнему лежит на полу у ее ног, возникает странная тишина, какая бывает, когда жертва наконец воочию видит хищника. Эмилия хватает ртом воздух, она и сама вся раскраснелась: «Простите, госпожа…» А животная радость, прежде написанная на лице Фьяметты, сменяется сначала шоком, потом гневом, а затем паникой, когда она слышит возобновившиеся удары во входную дверь. По физиономии Эмилии она уже поняла, о чем та собирается ей сообщить, да это и без того ясно – из-за ударов, от которых сотрясается весь дом.
– Госпожа, прибыл дон Херонимо.
Плиния?
Закрытый двор Попугаев, словно воронка, втягивает в себя шум с площади Святого Петра, дребезг и грохот отражаются от стен и каменных галерей и растут, словно Вавилонская башня, из воздуха, но притом что сам воздух вокруг сотворен из камня: возгласы торговцев соломой, лошадников, баб, нахваливающих крестики и носовые платки, крики паломников со всех краев христианского мира, монахов, священников, разносчиков, чиновников и попрошаек. Трубят ослы. Лают собаки. Здесь, в закрытом дворе, звуки перемешиваются, путаются, их не так-то просто различить, рассортировать. Хоть площадь и близко, стены все-таки их приглушают. А что это там за плеск? Фонтан возле поилки для скота, что ли?
Нет, то фонтан в Бельведере. И где-то в эту мешанину людских голосов – знает Антонио – вливается голос его господина, дона Херонимо. И голос Папы. А также голос португальца, чьи людишки нагло расположились на другом конце двора: Бандера, такой же, как и он, секретарь, дон Эрнандо, кожа у которого загорела дочерна и вся сморщилась после Берберских походов, шестеро его, дона Эрнандо, головорезов и Вентуро. Его собственные люди – дон Диего и шестеро вооруженных – переговариваются между собой. Они демонстративно не замечают тех, что на той стороне двора, и только Диего время от времени поглядывает на коня Эрнандо, мощного гнедого со странными пятнами, причем так, будто сейчас пойдет да отберет его. Но помимо этого они все ведут себя так, будто людей Фарии не существует. Лошади переминаются, стены двора эхом откликаются на перестук копыт по булыжникам. И так уже несколько часов.
Вдруг поверх льющихся с крыш разнообразных криков и шумов раздается отдаленный трубный глас. Антонио вздрагивает, смотрит вверх, на мгновение маска безучастности слетает с его лица, лишь на мгновение – но и этого достаточно. Португальцы на том конце дворе заметили и теперь кривляются, передразнивают – в ужасе пялятся в небеса, потом изображают громкий смех: «Бру-ха-ха…» Рука дона Диего тянется к палашу. Ржет гнедой, и португальцы в притворном ужасе снова пялятся вверх, все как один, и снова смеются, теперь уже непритворно. «Бру-ха-ха…» Громче всех хохочет, конечно, Вентуро, да и неудивительно – голос-то у него писклявый, пронзительный. Подходящий для такого рода издевок и шуточек. То, что слон затрубил, означает многое, но ничего хорошего: в частности, то, что недолго им своего посла ждать осталось.
Вскоре одетые в зеленое с золотом швейцарцы оттесняют толпу просителей, которые каждый день собираются во дворе старого дворца Иннокентия, – расталкивая бранящихся людей, они освобождали проход для лошадей испанцев. В течение часа после полудня двор Попугаев заливало солнце, теперь сюда вернулась тень, и Антонио чувствует, как из-под плит, которыми вымощен двор, потянуло сыростью – в Борго вообще очень сыро, это всем известно. А за пределами двора солнце шпарит во всю силу. Здесь собрались неудачники – те просители, у которых и во двор пробраться не получилось. Антонио щурится, глядя в спину своему послу, подпрыгивающему в седле прямо перед ним. Спина прямая, движения скованные. Он уже понял – понял еще тогда, когда увидел людей Фарии, услышал насмешливый рев зверя, – что аудиенция провалилась.
Они раздраженной рысью скачут по мосту Святого Ангела, и возглавляющий кавалькаду дон Херонимо проклинает всех и каждого, кто возникает у него по пути: неотесанных алебардщиков, мальчишку с поросенком на руках, каких-то бродячих монахов. За ним следует Антонио, а потом дон Диего со своими людьми. Маленькая площадь сразу за мостом свободна – Антонио знает, что уж там-то его господин точно задерживаться бы не пожелал, – и кортеж набирает скорость, маневрируя между телегами, груженными бочками с вином из Рипетты, повозками с камнем для известковых печей, ныряя под навесы, распугивая пешеходов. Улица, недавно переименованная в Слоновью, осталась слева. Они минуют дома банкиров и сворачивают налево. Там, у въезда на улицу ювелиров, stadera – весовщики – остановили телегу с зерном. Пришлось притормозить; он подъезжает и останавливается вровень с послом.
«Плиний!» – рявкает посол своему секретарю, потом снова натягивает поводья. Дорога загибается к реке, отсюда видна культя башни Сангуиньи, торчащая над черепичными крышами и печными трубами. На этом отрезке пути Антонио ни разу не замечал, чтобы запахи сыромятни хоть сколько-нибудь ослабевали, но если поехать в объезд, мимо башни Нона, то дорога там проходит вдоль берега реки в ее нижнем течении, и в такой жаркий день там уж точно царит невыносимое зловоние. Сразу за церковью Сан-Никколо они опять сворачивают налево. Оглядываясь через плечо на площадь Навона, Антонио видит погонщиков, ведущих вьючных лошадей в стойла, над которыми наскоро соорудили навесы из мешковины, видит праздношатающихся. Все направляются туда же, куда и он, – домой, хотя в этом городе, городе, населенном преимущественно чужаками, приезжими, сама эта фраза «направляться домой» звучит фальшиво: еще одна римская обманка. Антонио Серон, секретарь посла его католического величества Фернандо Арагонского, пришпоривает коня и вслед за своим господином въезжает во двор.
Стойла пустые, и двор откликается на прибытие гостей эхом. Появляются грумы, берут лошадей под уздцы. Дон Херонимо окликает его: «За мной, Антонио», – ныряет в дверной проем, исчезает в доме. Выглядывает парочка сонных слуг, интересуясь, какие еще могут последовать сюрпризы.
Дон Херонимо взбегает по лестнице, его шаги грохочут по лоджии. Антонио видит, как исчезает его спина, когда дон Херонимо входит в залу, слышит, как распахивается невидимая дверь. Секретарь спешит за ним. Глянув вниз с лоджии, он видит дона Диего – тот стоит посреди двора, смотрит в безоблачное небо, его лицо, как всегда, бесстрастно. Прежде один из любимых капитанов Кардоны, он не демонстрировал, но и не скрывал собственного равнодушия к той роли, которую играл здесь, в Риме. А что это была за роль? Чисто декоративная? Или он выполнял обязанности телохранителя? После Равенны и Прато ходили слухи о его «крайностях». Антонио его побаивается.
– Антонио!
Вестибюль позади маленькой залы служит одновременно и архивом, и приемной. Желтоватые шторы смягчают льющийся в окна яркий свет, придавая ему охристые и оранжевые тона, тона заката. Но даже это препятствие не мешает солнечным лучам поджаривать сложенные в закутке у дальней стены бумаги, из-за чего края тех загнулись и потемнели; бумаги вываливались из комодов, ящиков, устилали добрую половину пола – черновики договоров, меморандумы, копии декретов, старые – пришедшие еще до Рохаса – депеши, груды, горы корреспонденции, среди которой Антонио удалось разрыть буллы и указы целой череды пап; эта лавина слов, будучи потревоженной, выталкивала на свет божий давно погребенные под своим собственным весом старые раздоры и диспуты, свидетельства давно забытых предательств и заговоров, и Антонио, глотая бумажную пыль и щурясь, вчитывался в подписи: Николай, Калликст, Александр, Юлий… Все они приложили руку к этой истории.
– Антонио, ты сегодня разговаривал с нашим другом?
– Он держался замкнуто, господин посол. Не представилось возможности.
– Но он придет?
– Если поймет, что это для него выгодно.
Дон Херонимо задумчиво кивает. Он сидит в этой затемненной, но все равно жаркой приемной: взгляд устремлен вниз, пальцы теребят лежащую перед ним тонкую книгу. Углы некоторых страниц загнуты. Просто поразительно, что столь грандиозное может зависеть от столь малого. Римский понтифик Николай подтверждал собственную буллу «Dum diversas» (которая, однако, противоречила булле Папы Евгения IV «Rex regum»), эту буллу затем более детально развил Калликст III, она была ратифицирована в Алькасовасе в тот год, когда родился его младший брат Алонсо. А булла «Aeterni Regis»? Она снова даровала все права портингальцам, что и подтверждал Папа Сикст IV в тот год, когда Алонсо умер. Три года… «Inter caetera» Александра, его же «Eximiae devotionis», вторая его «Inter caetera», затем «Dudum Siquidem», этот прилив смывал испанцев к западу, а направляли поток булл португальцы – по крайней мере, так казалось. А затем пришел черед Тордесильяса,[89]89
А затем пришел черед Тордесильяса… – 7 июля 1494 г. в городе Тордесильяс (Кастилия) был заключен договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире, одобренный буллой папы Юлия II в 1506 г.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] там они одержали победу. И там же, в Тордесильясе, они потерпели поражение.
Невидимые границы разделили невидимые моря, змеями проползли по берегам и островам, чье местоположение менялось по мановению руки очередного Папы: острова Зеленого Мыса, Канары, мыс Бохадор, Антильские острова. А может, там и вовсе никаких островов не было, а были только облака, туманы-обманы, которые утомленные бессонницей и легковерные впередсмотрящие, неустанно выискивающие новые земли, приняли за твердь земную. И теперь граница пролегала в открытом море, в трехстах семидесяти лигах к западу от островов Зеленого Мыса. Линия проведена. Португальцы и испанцы стоят, повернувшись друг к другу спинами, – парочка безрассудных дуэлянтов: один глядит на запад, другой – на восток, но на другом конце света они неминуемо встретятся лицом к лицу. И что тогда?
Фернандо сказал ему по секрету: «Я не стану посылать армию на Молуккские острова, если один хороший говорун способен выиграть для меня эту войну в Риме…» Впрочем, эти слова Фернандо зафиксированы на какой-то из бумаг, здесь хранящихся. Есть Индии на востоке, и есть Индии на западе. А добраться к ним можно как угодно – отправляясь хоть на запад, хоть на восток. Так эта папская граница – она разделяет мир или служит отправной точкой? Начало это – или (за вычетом полушария) конец пути? Нет, Фернандо армию не послал, но слухи об армии понеслись на всех парусах, это были призрачные паруса, похожие на крылья морских птиц, а перед ними несся эскадрон возникающих и исчезающих по приказу островов. Португальцы испугались, кинулись к Юлию за подтверждением своих прав, получили его. Вот почему он, хоть и занимал здесь свой пост уже почти два года, все равно считался «недавно прибывшим послом Фернандо». Булла «Ea Quae» снова подтвердила Тордесильясский договор, и линия оставалась невидимой, неосязаемой, но совершенно изменила свою конфигурацию. Как такое могло произойти?
Дон Херонимо представлял себе растущую из глубин морских землю, потоками скатывающуюся с нее соленую воду, чудесным образом вырывающийся на свет новорожденный берег. Колоновы Индии. Новый Свет Кабрала. Географы и астрономы должны были отправиться в плавание, чтобы нанести на карту эту драгоценную линию, – ради этого заключили целый ряд договоров, однако по непонятным причинам испанские корабли так и не вышли из порта. Новый берег пер к востоку, пересекал границу – подарок портингальцам. Это препятствие преодолели когда-то их первопроходцы, но сейчас испанцы были привязаны к нему, став заложниками своего былого невежества, границы-призрака. Игры словами, терминами, договорами. Плещутся где-то невидимые моря, хлещут их по щекам влажными ладонями. Замыслы проваливаются, идут ко дну. Но теперь игра возобновилась – суетятся ушлые теологи и чиновники, снуют туда-сюда по Апостолической камере, перешептываются, плетут интриги. Дон Маноло со своими присными в фаворе у Папы. Готовится новая булла, это-то достоверно известно. Все остальное – домыслы, однако всем понятно, что булла уж точно будет не в пользу Фернандо. Папа – арбитр непредсказуемый, и постановления его текучи, как само море.
– Скажи, Антонио, а вот если бы я попросил тебя указать главную причину наших неурядиц, какую бы ты назвал? – спрашивает он у секретаря.
Антонио ерзает, раздумывая, и отвечает:
– Слона.
Так оно и есть. С того времени, как прибыло посольство портингальцев, ему приходится балансировать на слоновьей спине. Но с сегодняшнего утра, после выступления Папы, после его хорошо разыгранного учтивого удивления: «Как? Неужели никто из вас не читал Плиния?» – он, оказывается, зависит уже совсем от другого зверя. «Он затачивает свой рог о скалу, чтобы лучше пронзать им брюхо слоновье, он свиреп и неукротим, но в присутствии девственниц становится ручным…» Цитируя это описание, Папа прямо бурлил от восторга. Но существует ли такой зверь?
– Ему нужен напарник для Ганнона, – говорит Вич. – Теперь его милости зависят от этого.
– От напарника? – удивляется секретарь.
– Ему хочется посмотреть, как они будут сражаться, – пожимает плечами Вич, так, словно давно уже перестал удивляться папским прихотям.
Снизу, из tinello[90]90
Людской (ит.).
[Закрыть], раздаются странные звуки – звон горшков, грохот отодвигаемой от стен мебели, окрики его помощников, ответные вопли слуг. Затем посол и его секретарь слышат, как стукнула где-то внизу дверь, и напрягаются: по ступеням кто-то тяжело и медленно поднимается. Затем распахивается дверь комнаты, и на пороге возникает некто, закутанный в плащ, в низко надвинутой шляпе, с лицом, прикрытым огромным шарфом. Посетитель отдувается. И нещадно потеет. Сначала сброшен плащ, потом шляпа, наконец вновь прибывший разматывает шарф и глазам присутствующих предстает раскрасневшаяся от жары физиономия, которая приветственно ухмыляется, в то время как все остальное тело странно приседает и дергается, словно уклоняясь от плохо нацеленных бросков камнями, – это, по-видимому, долженствует изображать поклоны. Антонио взирал на извивающееся и дергающееся существо с плохо скрываемым презрением.
– Присядьте, Вентуро, – приглашает дон Херонимо.
Человек садится – сначала прямо, потом наклоняется вперед, затем снова откидывается назад, и все это время вертится, чешется, подскакивает, словно стул, на котором он сидит, весь утыкан гвоздями. По лбу у него сбегают беспорядочные струйки пота, затекая в глаза, из-за чего он все время моргает. Он вытаскивает платок, быстро промакивает лоб. Шляпа превратила его волосы в воронье гнездо. Антонио и дон Херонимо терпеливо ждут: расспрашивать Вентуро смысла не имеет – рот у него и так никогда не закрывается.
– Проклятая жара. И духотища. Да, интересные дела, очень интересные. – Посетитель снова вытирает лоб. – Это по поводу прошения. И по поводу буллы, которую скоро издадут. Да, буллы. Названия у нее пока еще нет, имейте это в виду, нет названия, но прошение я видел, черновик. В палате видел, оно уже там, с ним начали работать, говорят. У меня там есть знакомые, так что я посмотрел, хорошенько посмотрел, вот так-то. – И посетитель в подтверждение своих слов яростно трясет головой. – И они не собираются расширять ваши владения, вовсе нет. – Он опять мотает головой. – Насмерть стоять будут, вот что. И – ни – ногой.
– Вентуро, это вы о границе? – уточняет Антонио.
– Триста семьдесят лиг к западу от островов Зеленого Мыса, как и раньше. Дон Маноло к востоку, мы к западу… Я вас чем-то обидел, дон Антонио?
Это «мы» коробит Антонио настолько, что острого отвращения, написанного на его лице, не может не заметить даже Вентуро.
– Продолжайте, – говорит дон Херонимо.
– К западу, вот так-то. От полюса до полюса, но не кругом. В этом-то и загвоздка, да? Не кругом. – Вентуро для убедительности описывал руками окружности. – Ни-ни, не вокруг.
– Вентуро, это же только прошение. Пока издадут саму буллу, многое может измениться.
– Либо изменится, либо нет. Доктор Фария предпочитает, чтоб ничего не менялось, вам нужно, чтобы все поменялось, и решительно. Чья возьмет? На чью сторону склонится его святейшество? Интересные дела, вот что я вам скажу. Весьма интересные. Сестра Фарии у королевы во фрейлинах. И она написала дону Маноло, что при дворе в восторге от этой новой манеры вести дипломатию. Вы видели, какое у Медичи было лицо, когда зверь обрызгал водой кардиналов? Этот зверь ему дороже собственной родни, я слышал, Папа отказался одолжить его своему кузену – побоялся, что зверь, пока будет топать до Флоренции, ноги себе повредит. Отказал собственному кузену! Слыханное ли дело?
Теперь Вентуро вертится уже не так прытко – только раскачивается взад-вперед да заламывает руки. Повествование его все так же перескакивает с предмета на предмет: восторг Папы, камень в желчном пузыре у его собственной сестрицы, слухи о том, что Лено и Армеллини поссорились, чуть позже – о том, что они вроде как помирились, доходы от Пармы и Пьяченцы отойдут к герцогу Моденскому, а агенты Бентивольо из Болоньи вступили в переговоры с Венецией.
Дон Херонимо сидит, подперев рукой подбородок, и сам удивляется собственному терпению – надо же, он слушает болтовню этого мошенника, хотя сам еще час назад кипел от злобы на его хозяина.
– Давайте-ка ближе к делу, – вмешивается Антонио. – Вы испытываете терпение моего господина.
– Терпение, да? Вот именно, в этом-то вся и суть. Как я уже сказал, происходят некие события. И очень интересные. Но я вот о чем думаю: а как много я могу вам поведать? Вы, испанские господа, совсем оголодали, так сколько мне сегодня вам рассказать, чтобы насытить ваши аппетиты?
Судя по всему, Вентуро просто издевается, играет на их любопытстве, и вот этого Антонио уже вынести никак не может. Он встает, решительно подходит к Вентуро и отвешивает ему затрещину – одну, вторую. Вентуро втягивает голову в плечи, но и не думает защищаться.
– А теперь говори, ты, ублюдок! – рявкнул Антонио.
Он уже заносит было руку для третьей затрещины, но тут дон Херонимо едва заметно качает головой, и Антонио отступает. Вентуро же принимается вертеться и подскакивать пуще прежнего, снова лопочет, машет руками. Антонио угрожающе нависает над ним.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?