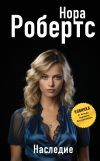Текст книги "Носорог для Папы Римского"
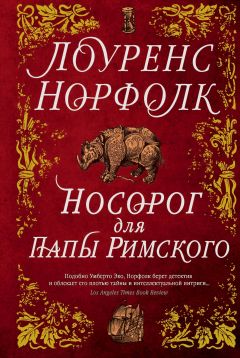
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Деревня называется Мууд», – объявил Капо. Вокруг уже кипела работа. Сигизмундо и Хорварт рубили орешник, Шевалье обстругивал ветки тесаком. Коротышка Симон распутывал бесчисленные обрезки веревки, с помощью которых другие подвязывали себе кто руку, кто ногу, после чего обматывали их грязными тряпками. Пудреный Джек наносил на повязки краску цвета ржавчины или же капал алой краской на лбы, руки, ноги, а когда эти участки тоже заматывались тряпками, то краска проступала сквозь них, словно то кровоточили свежие раны. Зубатый в приготовлениях не участвовал: спокойный и страшный, как всегда, он бездельничал. Отряд немного поупражнялся: солдаты похромали, некоторые приладили костыли.
«Гляди веселей! – скомандовал Капо. – Сегодня мы набьем себе брюхо!» Коротышка Симон сложил из веток орешника решетку, связал ее, сделал еще три такие же, связал их веревками, сверху привязал решетку, которая открывалась вроде дверцы, приладил шесты – получилось что-то вроде большой клетки. Пудреный Джек достал огромный носовой платок и принялся стирать спекшуюся пудру, та отваливалась слоями, и оказалось, что вся левая сторона его лица покрыта глубокими оспинами и следами от фурункулов, а на правой обнажился зазубренный широкий шрам, шедший от уха до шеи и такой глубокий, что казалось, будто щека пропорота насквозь. А потом Сальвестро увидел, как Шевалье подозвал Зубатого и открыл дверцу клетки. Молча, нисколечко не протестуя, Зубатый влез в клетку и уселся.
И Отряд, хромая, двинулся в путь – по мере приближения к деревне Мууд хромота становилась все заметнее, солдаты выглядели все несчастнее, Болтун и Медведь тяжело опирались на костыли, Близняшки Бандинелли издавали ритмичные охи и ахи, на бинты были нанесены последние живописные штрихи, при-парки смочены. Четыре коровы, пасшиеся на общественном лугу, уставились в тупом удивлении на побитое войско, растянувшееся вдоль дороги, а козел, привязанный к колышку и отринувший чертополох, который он, по идее, должен был щипать – вместо этого он старательно разрушал вязанку миртовых ветвей, – даже на время прекратил заниматься столь приятным вандализмом, чтобы поглазеть на раненых, истекающих кровью бойцов, окутанных аурой несправедливого поражения, задавленных полчищами врагов, отступающих от сданного ими последнего оплота чести… Присутствовал и некий намек на угрозу, потому как страдальцы тащили клетку, в которой сидел страшный Зубатый, а за клеткой бежал привязанный к ней Сальвестро. Зрелище было красочным и весьма впечатляющим.
Во всех этих страданиях, ложной хромоте и ужимках был еще один элемент – и решающий: надо было дать понять местным жителям, что отряд пришел ненадолго, что воины хотят поскорее оставить деревню. Надо было внушить мысль, что они от кого-то – несмотря на весь свой несомненный героизм и прирожденную смелость – скрываются, бегут, что их кто-то преследует. За их спиной осталось нечто ужасное, это ужасное преследует их. Селянам, кругозор которых ограничен полями да пастбищами, с одной стороны, не дано всего этого постичь, с другой – они не могут этого не видеть, поскольку ужас просачивается сквозь окровавленные повязки, и крестьяне, выстроившись в дверях, мрачно глядят, как, превозмогая страдания, шагают через их деревню герои. Вот Отряд сгрудился возле колодца, а деревенские сбились в кучку, шепотом переговариваясь. Войны, о которых пока что доносились только разрозненные слухи – словечко здесь, словечко там, – ужасы и страдания, перевалив Альпы, пришли в Мууд.
«Воды`! – вскричал Капо. – Воды` для моих людей! Мешкать мы не можем. Неужто никто не даст нам напиться?»
На мгновение селяне замерли, потом один из них, чернобородый, кивнул другому. Тот бросился к колодцу, зачерпнул ведро воды и вытащил его.
«Благослови тебя Господь», – поблагодарил Капо, и крестьянин, боязливо оглядываясь на страдальцев, на клетку и на привязанного к ней юношу, выступил вперед.
«Для жаждущих вода всегда найдется», – произнес крестьянин.
«Господь да сохранит тебя», – ответил Капо и махнул рукой Грооту и Бернардо: мол, опустите меня.
«Что привело вас в Мууд?» – осведомился чернобородый.
«Ах, мой друг, – начал Капо, – нет нужды потешаться над нами, пусть даже мы вот так и разбиты. Нам пора уходить, но если вы… Да, пора идти. Благодарим вас за воду…»
«Потешаться? Но я же вежливо спросил, – возразил крестьянин. – Так скажите, что привело вас сюда?»
«Неужто не знаете? – Вокруг чернобородого начали собираться крестьяне и крестьянки, которые переводили встревоженные взгляды с земляка на пришельца и обратно. – Как так могло случиться, ведь Инсбрук пылал и река там стала багровой от крови, а вы ничего не знаете?»
Некоторые из крестьян помотали головами, а Капо продолжил:
«Войны – вот что привело нас сюда!»
«Но у нас здесь нет войн», – бесстрастно сказал чернобородый, однако голос его звучал не слишком убедительно.
«А там, там…» – Капо указал на дорогу, будто ему слишком трудно, невозможно даже произнести название.
«В Слиме?»
«Да, в Слиме!» – Это прозвучало воплем ужаса.
«Но ведь Слим всего в дне пути отсюда!»
«Слим был в дне пути, мой друг. Был. Теперь его больше нет. Их было слишком много, и все хорошо вооружены, а то, что они творили… Мы – закаленные солдаты, мы вовсе не такие добрые и мирные люди, как вы, нам тоже приходится убивать, когда надо, но то, что они сделали с добрыми жителями Слима…»
Из домов давно уже подтянулись остальные жители в надежде перехватить сочных и свежих сплетен. Столпившись вокруг чернобородого, они испуганно молчали. А Капо, казалось, с трудом пытался отрешиться от ужасных воспоминаний о Слиме.
«Основные силы вряд ли вас найдут, друг мой, можете на этот счет не беспокоиться…»
«Основные силы? Чьи основные силы?!»
«…а вот фуражиры могут добраться к вам уже сегодня ночью, в крайнем случае завтра… Впрочем, может, и эта беда вас минует – мы сражались с ними из последних сил… Но… Но… – Капо еле сдерживал слезы. – Вчера я командовал сотней солдат! Целой сотней! – Из груди вожака вырвалось рыдание, но внезапно его голос окреп, словно посреди хаоса, горя и насилия раздался трубный глас: – Помолимся!»
«Что?!» – воскликнул чернобородый, но за его спиной вся его родня, соседи, друзья и недруги, мужчины, женщины, дети уже опускались на колени в мутную грязь Мууда, а перед ним, кряхтя и стеная, вставали на колени доблестные, израненные воины Отряда вольных христиан. Бородатый тоже преклонил колена.
«Боже! – Голос Капо летел над импровизированным молитвенным собранием. – Боже! Спаси и сохрани бедных крестьян Мууда, кротких агнцев в львиных когтях, ибо невинны они и не заслуживают кары столь жестокой… И, Боже… – теперь он был десницей карающей, клинком закаленным, сверкающим над головами неверных, – сдери с них кожу, перемели их кости, пусть души их рвут и пытают каленым железом за то, что сделали они с бедными селянами Слима, ибо мерзостны они, МЕРЗОСТНЫ! Злобные, отвратительные твари, сброд, грязь – вот кто они такие… Они, они…» – Капо умолк, словно захлебнувшись очередным проклятием.
«Кто?» – выдохнул один из крестьян.
«…они, они… Не могу говорить более, не могу. Пора нам идти. Мы и так здесь задержались».
«Вы не можете просто так нас покинуть!» – раздался женский вопль.
«Ради Господа нашего, защитите нас!» – кричала другая, и вскоре вся толпа принялась их умолять, некоторые уже рыдали, моля о защите, и посреди всего этого гвалта Капо снова принялся за свое.
«Они – это… – Превозмогая страх и боль, он высунулся из корзины и широким жестом указал на того единственного, кто колен не преклонил, на того, кто сидел в клетке, Зубатого, – со спины Сальвестро были видны его перекатывающиеся челюстные мускулы, а его плотно сжатое кошмарное ротовое отверстие отражалось в блестящих от ужаса глазах дурачков-крестьян. – Французы!» – наконец выкрикнул Капо.
И настал ад кромешный.
Обычно все так и делалось. После того как несчастные крестьяне всеми правдами и неправдами уговаривали своих вынужденных спасителей задержаться, вольные христиане выставляли часовых на всех выходах из деревни, а те, якобы дрожа от страха за собственную жизнь, говорили путникам, что в селении – чума или еще какая страшная зараза, после чего путники обходили деревню стороной. Отряд оставался на несколько дней, иногда на неделю, но наибольший урожай – как называл его Капо – приносил именно первый день, когда привычный для селян мир рушился на глазах, когда страх достигал апогея. Тогда с пальцев снимались кольца, с шей – цепи и ожерелья. Откуда-то из темного угла, из утоптанного земляного пола выкапывались заветные шкатулки, и их содержимое, как по волшебству, перекочевывало к командиру защитников. Среди содержимого попадались и драгоценные камешки – чаще всего фальшивые, – но и их принимали с благодарностью: это было даже трогательно.
Постепенно страх шел на убыль. В первый день их кормили как королей, на второй или третий день ужинать приходилось уже овощной похлебкой, пиво и вино поначалу лились рекой, потом вино становилось кислым, пиво – перебродившим, поток скудел, а то и вовсе иссякал. На четвертый день крестьяне начинали перешептываться, избегать встреч с чужаками, слонявшимися по их убогим домам и амбарам: может, мы слишком рано запаниковали? Ничего не происходит, никто не нападает, никакого тебе конца света… Женщины переставали крутиться вокруг них, мужчины косились, иногда сквозь кордон пытался прорваться какой-нибудь пацан с корзиной яиц и дурацкой легендой. Сальвестро, «пленник», и сидящий в клетке Зубатый – видимые доказательства невидимых ужасов – чувствовали, что страх отслаивается, спадает с крестьян, как пудра с лица Пудреного Джека. Капо хорошо улавливал настроение жителей деревни. Крестьяне поглядывали на Сальвестро и Зубатого. Капо следил за крестьянами. Отряд смотрел на своего капитана. Он знал. И в один прекрасный момент солдаты исчезали, растворялись, словно ночная тьма при первых солнечных лучах. Крестьяне вставали утром – а их защитников и след простыл.
Сальвестро собирал хворост, складывал костры, смотрел, как то пылают, то дрожат под изменчивым ветром угли, как свет их постепенно тускнеет и тает в окружающей темноте. Иногда на рассвете Шевалье вставал, кивал сидевшему где-нибудь в сторонке Зубатому, и они уходили. Как-то раз Сальвестро прокрался за ними и видел, как сверкал, разрезая тьму, клинок Шевалье, а чуть поодаль шел Зубатый, потом клинок со свистом понесся Зубатому прямо в голову, которой тот даже не дернул, но сделал какое-то легкое, быстрое движение – словно рука, хватающая на лету муху, – и раздался глухой скрежещущий звук. Это Зубатый схватил клинок ртом, потом отпустил, – странная, нелепая дуэль. Оба удовлетворенно кивнули друг другу.
Иногда Пандульфо читал ему отрывки из своей поэмы: кровавые битвы, совершаемые непонятно зачем подвиги – Великий Капитан громит неприятеля у Сериньолы,[43]43
Великий Капитан громит неприятеля у Сериньолы… – Великий Капитан (Эль Гран Капитан) – прозвище выдающегося испанского полководца Гонсало Фернандеса де Кордовы (1453–1515). В 1503 г., вооружив свою пехоту аркебузами, де Кордова разгромил армию французов в битве у городка Сериньола (юго-западная Италия) и сделал Неаполитанское королевство испанской провинцией. Это была первая в истории битва, выигранная при помощи огнестрельного оружия.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] Паоло Орсини тонет во всех своих доспехах после Гаэты, граф Питильяно с необъяснимым спокойствием наблюдает, как войска Тривульцио переходят Адду…[44]44
…граф Питильяно с необъяснимым спокойствием наблюдает, как войска Тривульцио переходят Адду… – Никколо III Орсини, граф Питильяно (1442–1510) – итальянский аристократ и кондотьер, с 1494 г. состоявший на службе у Венецианской республики. Тривульцио, Джан Джакомо (1440/1441-1518) – итальянский аристократ и кондотьер, перешедший на службу к французскому королю и ставший маршалом Франции. В переломный момент войны Камбрейской лиги, когда французские войска под предводительством Тривульцио перешли реку Адда на севере Италии и двинулись в наступление, Питильяно отвел свои войска, чтобы избежать битвы, и тем самым предопределил поражение Венецианской республики в войне.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] Каждый эпизод заканчивался либо отступлением, прикрываемым мощной и таинственной силой, в которой – хоть Грамотей никогда об этом не говорил – угадывался Отряд вольных христиан, либо рассказом о том, как французов срезáли с тела Италии, «словно бородавки»: это было любимое выражение Грамотея. Бернардо тоже часто присутствовал при этих чтениях, но куда больше, чем сама история, его завораживали взгляд и палец Пандульфо, скользившие по черным неровным строчкам. Он оживлялся, только когда Пандульфо разражался гневными проклятиями в адрес французов – а делал он это часто и виртуозно: тогда Бернардо принимался колотить по земле кулаком и приговаривать: «Вот верно, верно!» – до тех пор пока Сальвестро не приказывал ему заткнуться.
Больше всего времени он проводил с Гроотом и Бернардо. В своей прошлой инкарнации Гроот был – или хотел быть – пекарем. «Встанешь, бывало, спозаранку, пока все еще спят, запалишь печь…» – мечтательно приговаривал он. Он здорово разбирался в разных сортах муки и вообще в еде. Гроот потратил бы свою долю в добыче на кирпичи и известковый раствор, на маленькую пекарню с высокими трубами, глиняные миски для замеса теста – такие тяжелые, что и не поднимешь, – деревянные лопаты с длинными ручками… Он рассказывал, как определить, что хлеб пропекся: надо осторожно постучать по донышку костяшкой пальца и послушать, как звучит хлеб, – это должно напоминать стук палочкой по туго натянутой коже барабана. Так, за разговорами, они и проводили вечера. Бернардо не мог рассказать ничего путного, кроме обрывочных воспоминаний о какой-то женщине, о каменной хижине на раскаленной солнцем горе, о мужчине, на которого он смотрел с палубы корабля, уносившего его в открытое море… Когда же подходил черед Сальвестро, он терялся: угольки растаявших в прошлом костров, спокойные воды, непроходимые заросли – он не желал ворошить прошлое, но и придумывать себе другое прошлое тоже не хотел, и тогда он рассказывал о Винете.
Из Мууда в Кремс, из Кремса в Шлин, оттуда в Вис, потом в Орбах, Круэн, Грюневальд и далее: скопища лачуг, исхудалая скотина, лукавые обитатели, поленницы дров, грязь и надувательство. По зиме крестьяне становились более жестокосердыми и недоверчивыми, а Отряд – менее осмотрительным. Четыре раза им пришлось удирать по полям: за спиной мелькали факелы, слышались крики и стук копыт. В двух случаях из четырех крестьяне нашли убитых детей – мальчика и девочку: у обоих оказались свернуты шеи, но в остальном тела оставались нетронуты и были беспечно оставлены у всех на виду. Это случилось в деревнях Процторф и Марн: в Процторфе была девочка, в Марне – мальчик. Об этом никто не говорил. Это было сигналом опасности, сигналом к бегству.
Сальвестро взбунтовался против своей роли в пантомиме. Ему надоело быть привязанным к клетке: скучно и неудобно. Он предпочитал выхаживать вместе с остальными, при широкополой шляпе с пером и с большим тупым ножом. Однажды в амбаре он познал женщину. Это было на исходе лета, но стояла такая жара, что он чуть не задохнулся от запаха сена. Она была гораздо старше его, с рыжими волосами и ужасно некрасивая. Женщина завалила Сальвестро на спину и скакала на нем до тех пор, пока оба не изошли потом.
Отряд вольных христиан пробирался по дорогам, встречая бродячих торговцев с мулами, нагруженными коробами и мешками, кучки паломников, пастухов, перегонявших стада с пастбища на пастбище. Они шли лесными тропами и путями гуртовщиков, петляли по лесистым долинам, брели по испещренным озерами, заросшим луговыми травами и усеянным крупными камнями предгорьям, за которыми вздымались зазубренные обледенелые вершины, похожие на редкие, льдами надраенные зубы, на кости каких-то доисторических великанов. Однажды летом они пересекли эти горы: хребет за хребтом, вершина за вершиной, пологие, поросшие травой склоны сменяются голым гранитом, чем выше, тем суровее пейзаж – гранит колется, крошится, глыбы с рваными краями и рядом – острые осколки. Чахлые горные сосны изо всех сил цепляются за скудную почву. Ручьи прорыли глубокие ущелья, и серая галька, омытая их брызгами, кажется совсем черной. Первую зиму они провели еще по эту сторону гор, на высоких склонах, разреженный воздух которых погубил Коротышку Симона. На следующий год они решили переждать зиму южнее и перебрались в долину Адиджи, оттуда двинулись на юго-восток, возле Феррары покинули большую дорогу и направились к лагунам Валли-ди-Комаккьо. На пути им встретилась деревенька Вьемми.
«Деревня называется Вьемми», – заранее оповестил их Капо.
С самого начала все пошло не так. Селяне оказались мрачными и туповатыми. Капо распинался перед ними битый час, после чего добрые жители Вьемми принялись обсуждать свое бедственное положение, на что ушел еще один час, и наконец соглашение было достигнуто. А затем на них просто не обращали никакого внимания – их услуги купили, как покупают годовалого теленка или бочонок вина. Земли во Вьемми были болотистые – в нескольких сотнях ярдов лежало большое озеро. Местность была ровная, как стол, – дозоры не выставишь, и вечером Сальвестро подслушал разговор Сигизмундо с Капо. Вожак сказал: «Ничего не получится. Завтра вечером уходим».
Когда они проснулись, их бивак уже был окружен солдатами.
Что еще желает знать приор? Сколько еще скормить ему, чтобы он наконец насытился? Мысль все не отпускала Сальвестро, но теперь приутихла, стала более смиренной. Он помнил слова капитана испанцев, когда Гроот и Бернардо наклонились, чтобы поднять Капо: «Оставьте его». Их выстроили в колонну, по бокам шагали арбалетчики. Сзади раздался крик, он оглянулся, крестьяне времени не теряли. Капо пытался уползти от них, но крестьяне – их было пятеро или шестеро – размеренно и неспешно били его ногами, сменяя друг друга. Вопль оборвался, и слышались только тупые удары, затем наступила тишина, снова удары и вопли, снова тишина, удары – и вопли, удары – и вопли. И снова тишина – окончательная.
«А потом?» (Тон ровный и мягкий – теперь, чтобы подбодрить допрашиваемого, будет уместен именно такой тон.)
А потом – лагерь: крики грубых мужиков, которых называли сержантами, безделье и болезни. Там умер Хорварт, а Близняшки Бандинелли просто исчезли – просочились сквозь все посты и растаяли. После лагеря – битва под Равенной, там их выставили прямо напротив французов, но две армии разделяла обширная вересковая пустошь, французы находились далеко, поэтому страшно не было, и Медведь сказал: «Не вижу ничего тревожного», – а через несколько мгновений начался обстрел, и Медведь буквально взорвался у Сальвестро на глазах, исчез в фонтане из крови и осколков костей. Дым, грохот, страх. Гроот схватил их с Бернардо и потащил в канаву. Сальвестро утратил все ориентиры, не понимая, откуда идет обстрел – пушек было не видно – и чьи это солдаты бегут, спотыкаясь, в сплошном дыму: свои или вражеские? Невесть откуда появилась и куда-то скрылась повозка, лошади ржали, вставали на дыбы, поводья свободно болтались – возниц не было. Ближе к концу совсем рядом с ними раздался взрыв, и Сальвестро опалило лицо. Он обделался, но когда – вспомнить не мог. У Бернардо и Гроота лица были обожженные, черные от порохового дыма, как и у него. Славная победа.
Они провели ту ночь на поле битвы, различая где-то милях в двадцати ряд костров, откашливаясь от пороховой гари и прячась от мародеров, которые обшаривали мертвых и умирающих. Набрели на рыцаря в доспехах, но без шлема – тот стоял на коленях, словно молился. Он дышал и смог восстановить равновесие, когда Гроот легонько тронул его за плечо, но не более того. Арбалетная стрела, выпущенная сзади и снизу, отыскала мягкий канал, проходящий в том месте, где позвоночник встречается с черепом, и пробуравила себе путь в мозг. Голова у рыцаря раздулась в два раза против обычных размеров. На одежде у него имелся крест, но какого цвета – различить было невозможно. Гроот решил было забрать его меч, но Сальвестро и Бернардо уже побрели прочь. Во рту стоял вкус пороха, порох пробрался всюду, и когда Сальвестро сморкался, сопли были ярко-желтыми. Грохот канонады все еще звучал у него в ушах, разрываемый пронзительными вскриками тех, кого под покровом тьмы обыскивали ледяные руки мародеров. На рассвете стали видны разноцветные знамена и люди, сползавшиеся к ним со всех сторон, а также несколько палаток и шатров. Кто кем командовал – было непонятно.
Им приказали двигаться маршем к Болонье. Сальвестро почудилось, будто в толпе испанцев, слонявшихся у статуи на площади Нептуна, мелькнули Шевалье и Зубатый, но больше он их не видел. Остальные воины из Отряда вольных христиан словно бы исчезли с лица земли. Они с Бернардо и Гроотом наслушались сладких речей неаполитанского вице-короля и присоединились к роте копейщиков, состоявшей в основном из сицилийцев: те напивались до бесчувствия, а очухавшись, развлекались тем, что кололи друг друга. Они выслушали устав и принесли присягу, а в заключение получили по пятьдесят сольдо. Затем всем троим вручили пики, и три дня в неделю они маршировали за город на полевые учения. Солдат становилось все больше, и к концу лета, когда Болонья совсем разбухла от солдатни, их перевели в лагеря. Из бревен сколотили рамы и накрыли их парусиной – получились палатки, затем воздвигли виселицу, понатаскали сена, разожгли костры, доставили воду. Нескончаемым потоком в лагерь тащились повозки. За солдатами нагрянули маркитантки, насмешливые, злые бабы, – они ругались друг с другом, орали на своих мужчин и не боялись ни бога, ни черта. Одну из них – она скакала верхом – испанцы прозвали Nostra Señora d’Espuela[45]45
Наша Сеньора со Шпорами (исп.).
[Закрыть] – из-за того, что у нее на башмаках были шпоры, сицилийцы же звали ее La Cavalerizza Sanguinosa[46]46
Кровавая Всадница (ит.).
[Закрыть], намекая то ли на то, как – по слухам – она пользовалась шпорами, то ли на то, что волосы у нее были медно-рыжие. Сальвестро поедал ее глазами – издали, потому что у него не было денег, да если б и были, он все равно бы не решился к ней подойти. Спешившись, она ходила враскачку, совсем как мужчина, иногда исчезала на несколько дней, а потом возвращалась в лагерь и осыпала оскорблениями своих любовников – их было множество, но, как ни странно, по поводу ее прелестей ни один не распространялся. Один сицилиец поведал ему, что она не носила с собой никакого оружия, кроме маленького заточенного крюка – понятно, с какой целью. В мечтах Сальвестро видел, как покрывают его лицо волосы маркитантки, как бурлит в паху у них обоих, каким восхищенно-удивленным делается ее лицо.
На исходе лета начали подвозить артиллерию. С нею прибывали заносчивые, надменные бомбардиры, и лагерь разросся до таких размеров, что теперь путешествие из конца в конец отнимало не меньше часа. Ходили слухи о возвращении в Равенну, о захвате Болоньи, о разграблении Флоренции, которую испанцы окрестили La Crasa Puta[47]47
Жирной шлюхой (исп.).
[Закрыть]. Жернова сплетен перемалывали безделье и скуку в мелкую пыль из «когда» и «где»: завтра, самое позднее – через неделю, на святого Аполлинария, или на Доменико, или на Козьму и Дамиана. Ходили совсем уж невероятные байки – о том, что на святого Мартина их пошлют на Париж или что будущий год они встретят в Иерусалиме, но когда войско наконец построили, когда перед ним начали гарцевать вице-король Кардона и кардинал Медичи при кресте и шпаге, когда они двинулись – Сальвестро шагал ближе к концу колонны, голова ее терялась вдали, и из его шеренги, сквозь поднимающуюся к небесам пыль, шедшие впереди казались муравьями, – когда повозки увезли с бывшей стоянки поклажу и единственным воспоминанием о лагере остались черные кострища, слухи уступили место фактам и Сальвестро подумал, что он подписался на участие в беспощадном, безостановочном крестовом походе к святыне, до которой им никогда не суждено дойти. Восемь дней спустя они остановились возле городка Барберино, по лагерю пронеслась новая весть, и то, что казалось им непреложным фактом, обратилось в нечто эфемерное, ускользнуло от них и ускакало прочь, потому что выяснилось: идут они не на Флоренцию – как им раньше говорили, – а на Прато.
Ладно, хватит.
Бернардо наверняка скоро вернется, потому что из кухни поползли знакомые запахи. Да и темнеет к тому же. Порою зимний закат отражался от поверхности моря, и на восточную часть небесного свода ложились лиловатые и бледно-бирюзовые отблески. Ярко-розовый и красный разыгрывали пышную пантомиму на западном горизонте, но сам купол неба таинственно темнел: до того, как его потревожат звезды, оставалось еще несколько минут. А потом и этот идеально ровный свет исчезнет: то ли солнце обронит свои пляшущие угольки, то ли море впитает, всосет в себя соперничающий с ним небесный океан, то ли просто упадет тьма, положив конец сумеркам. Так и случилось: упала тьма.
Вот и он, вышел из зарослей с левой стороны (расстояние восемьдесят два ярда), плетется вдоль забора с виноватой физиономией, раздражение забыто или почти забыто… Сальвестро чувствовал, что Мысль внедрилась ему под кожу, слилась с ним воедино. Он думал о двух островах, о двух Узедомах, о годах, отделяющих один остров от другого. Скоро появятся три послушника с едой, затем – монах по имени Ханс-Юрген. А потом его снова призовет приор – может, даже сегодня, – и, может, ему еще не раз придется сидеть на табурете в этом странном, разрушающемся монастыре, отвечая на вопросы, поставленные просто и прямо.
– Настоящие заросли, – объявил Бернардо, входя в их временное жилище и усаживаясь на солому. – Деревья и все такое. – Как будто его посылали на рекогносцировку.
Сальвестро кивнул. Его уже дважды назвали лжецом, приор выслушает его ответы и либо снова взорвется от нетерпения, либо выслушает, но не поверит ни слову. Но тот – в этот вечер, в следующий, в течение всей зимы, когда, кроме допросов, неизбежных и изматывающих, больше нечем себя занять, – отныне вел себя по-иному: не вскидывал в отвращении руки, будто отмахиваясь от мерзкого создания, квакающего в его келье, не вздрагивал в негодовании, когда выслушивал бесчисленные истории об убийстве, воровстве, насилии. Монах смотрел на него, почти не мигая, лишь иногда слегка кивая или мыча «гм», что предполагало если не приятие, то вежливую беспристрастность, а если не беспристрастность, то незаинтересованность, а если не… Зима шла на убыль, и со все более острой обидой Сальвестро осознавал, что приору уже давно известны многие детали его жизни, но даже на то, что было для него внове, приор почти не реагировал – почесывал нос, разглядывал ногти, подбирал какие-то воображаемые пылинки с заваленного бумагами стола, пролетая над которым слова Сальвестро теряли свою силу и, безжизненные, тонули во все приемлющей скуке того, кто вел допрос.
Сальвестро терялся, Сальвестро недоумевал, Сальвестро не видел во всем этом смысла и, словно жемчужину, найденную в навозе, лелеял очередной подарок: вот Йорг наклонился вперед, явно заинтересованный рассказом о переходе Отряда вольных христиан через Альпы; вот приор нетерпеливо бросил: «Продолжайте», когда Сальвестро подробно описывал способы преодоления болот; кивал, побуждая и дальше говорить о том, как сплавляются на плоту по Одеру; но затем снова возвращалась скука, когда Сальвестро описывал их путь на север, к морю, которое в это самое время лениво всхлипывало и плескалось за окнами, и это безразличие заставляло его умолкать снова. Опять утомление, снова разочарование: первое – непреднамеренное, второе – нежелательное, но ни от того ни от другого ему не скрыться.
Йорг читал:
В день святого Леонарда[48]48
…день святого Леонарда… – день памяти святого Леонарда Ноблакского, 6 ноября.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] или на следующий день монахи Узедома увидели из своей обители странное судно – в море, прямо перед ними. Они спасли двоих искателей приключений, которые по недомыслию пытались разграбить затонувший много лет назад город под названием Винета; монахи доставили этих двоих на берег и из милосердия оставили у себя на зиму…
Последнее утверждение не до конца правдиво, отметил про себя Йорг, перечитывая свою рукопись. Он возобновил работу над ней примерно через неделю после того, как море принесло им этот странный улов. В тот вечер бродяга по имени Сальвестро разоткровенничался, даже слишком разошелся, и его пришлось выпроваживать – не выгонять, как два раза до того. Приор очинил перо и принялся писать, пребывая в непонятном для него самого волнении. Согласно отрывкам, выписанным из «Жизнеописания» и хранившимся в стоявшем за его спиной ларе, святой Леонард был защитником и покровителем военнопленных.[49]49
…святой Леонард был защитником и покровителем военнопленных. – В 1103 г. крестоносец Боэмунд, герцог Антиохийский, попал в плен к мусульманам и после освобождения, во исполнение данного в плену обета, отправился в основанный святым Леонардом монастырь Ноблак. После этого возникла легенда, что император Лотарь I (795–855), крестный отец Леонарда, в свое время обещал отпускать всякого узника, которого тот навестит, – и Леонарда стали почитать как защитника военнопленных.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть]
Они назвались Сальвестро – я знаю, что это имя ненастоящее, – и Бернардо. «Сальвестро» – среднего роста, с лицом прос-товатым, но не лишенным приятности, белым при черных волосах. Я считаю его человеком лукавым: он весь соткан из хитростей и уловок, по большей части, однако, безобидных. Его товарищ силен и широк в плечах и бедрах; он на две головы выше любого из моей братии, за исключением Фолькера и Хеннинга, а умом слаб, словно дитя малое.
Моя братия. Когда-то он говорил так с полным правом, но правда ли это теперь? Перед его мысленным взором предстала физиономия Герхарда, окруженного своими злобными приспешниками. Теперь, бродя по монастырю, Йорг не чувствовал прежнего покоя. Разговоры, перешептывания затихали при его приближении, а стоило ему пройти, вспыхивали вновь. К нему повернулись спиной. Перейдет ли этот молчаливый протест в открытое неповиновение? Он уже давно забросил свои лекции. Лемнос, над которым нависла тень Афона, Кармания, обитатели которой покрыты рыбьей чешуей и в которой не растет виноград,[50]50
Кармания… в которой не растет виноград… – Кармания – древняя историческая область на юге Ирана, описанная в трудах античных историков. В труде Арриана «Индия», напротив, сообщалось, что Кармания очень плодородна и покрыта цветущими виноградниками; Страбон также утверждал, что в этой области растет лучший виноград.(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть] Египет, где года вычислялись – этот отрывок особенно его волновал – при помощи «странных зверей, живших в священных лесах[51]51
…Египет, где года вычислялись… при помощи «странных зверей, живших в священных лесах…» – подобные методы описаны в трактате Гораполлона «Иероглифика» (IV в. н. э.). Под «странными зверями» подразумеваются павианы, священные животные бога Тота, который почитался как покровитель летосчисления и хода времени. В частности, по словам Гораполлона, «из всех животных во время равноденствий один только [павиан] двенадцать раз в день издает крик через каждый час».(Прим. Анны Блейз)
[Закрыть]: когда свод небесный в своем неуклонном движении достигал определенной точки, они давали о том знать, и выражалось это в соответствии с талантами, коими они владели: кто выл, кто мычал, кто ревел, а кто вопил, иные мчались к трясине и катались там в грязи».
Он писал:
Сегодня первый день февраля тысяча пятьсот четырнадцатого года от вознесения Господа нашего. Завтра – Сретение Господне, но в монастыре на Узедоме мессу служить не будут, ибо монахи Узедома пренебрегают своими обязанностями. Лишь немногие следуют за своим приором, а их настоятель пребывал в болезни и немощи всю зиму.
Йорг предполагал, что зима будет суровее и что настоятель вряд ли ее выдержит. Ханс-Юрген принимал его нежелание говорить на эту тему за равнодушие, однако приор несколько раз заходил в келью в том конце коридора, долго рассматривал прикованное к постели существо, прислушивался к его хриплому прерывистому дыханию и думал: как странно, что вот он так близок к смерти – и все-таки жив. Настоятель не мог или не желал вставать, говорить, даже жевать. Но эта груда костей, обтянутая истончившейся, усыпанной старческими веснушками кожей, все еще была одушевленной, и Йорг мог чувствовать себя в относительной безопасности, поскольку никто, даже Герхард, не посмел бы захватить в монастыре власть, пока настоятель был в живых. О том, что случится потом, он не думал, да и не собирался волноваться по этому поводу. Потом все уже будет не важно. Если он к этому времени успеет подготовиться – или если братья будут готовы. Он снова вспомнил о святом Леонарде, о бескровной войне, пленниками на которой стали все монахи – даже Герхард, о послании Павла к коринфянам: «чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков…» Они прошли почти через все, кроме, пожалуй, гордости и беспорядков, но Ханс-Юрген уже и о гордости ему каждодневно напоминает… Остались лишь беспорядки.