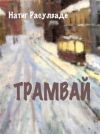Текст книги "Лютый гость"

Автор книги: Людвиг Павельчик
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Без накладок, конечно, не обходилось. Как-то раз он, лежа на своей лужайке в сонном мире, от нечего делать сплел себе браслет из одуванчиков, который так и остался на его запястье до конца сновидения. Проснулся он от нестерпимой жгучей боли, охватившей его левую руку до самого локтя. Вскочив, он с изумлением увидел на том месте, где только что находился мягкий желто-зеленый браслет, уродливо скрученный, покрытый мелкими ядовитыми шипами побег какой-то невиданной им доселе колючки, издававшей, как ему показалось, какое-то странное шипение, словно разгневанная кошка. Содрогнувшись от омерзения, Вилли схватил ножницы и рассек отвратительное растение, которое, упав на пол, выделило лужицу вонючей жидкости и сжалось в комок. Пока мальчик бегал вниз за печными щипцами, чтобы ухватить ими колючку и выбросить ее прочь, мерзкая гадость исчезла, оставив после себя лишь противный кислый запах.
Было ясно, что существовала какая-то связь между сновидением, браслетом из одуванчиков и отвратительным растением. Но какая? Напрасно ломал Вилли голову над этой загадкой – ни один земной мудрец не смог бы объяснить случившееся.
В другой раз он увидел во сне недопитую матерью и Барри бутылку шнапса на столе в кухне и, дурачась, вылил пойло в раковину, заменив его водой. Отправившись гулять, он забыл про эту шалость и вспомнил о ней только тогда, когда утром был разбужен криками матери, вздумавшей похмелиться и жестоко обманувшейся. Перпетуя орала и бесновалась, обвиняя во всем дурака-Барри, сын же ее, убедившись, что не покидал ночью своей комнаты, погрустнел и вновь задумался о необъяснимом.
Как хотелось несчастному парнишке иметь настоящего друга, которому он поведал бы о своих переживаниях! Тогда, глядишь, вся эта история оказалась бы не такой уж и страшной. Но ни в школе, ни по соседству, ни вообще в городе не было никого, с кем бы ему хотелось подружиться. Другие дети жили, думали и вели себя иначе, чем он. В их жизни не было ни злобной бабки, ни Перпетуи, ни погубленного отца, и Вилли не без основания полагал, что никто из них не сможет понять его переживания и разделить с ним радости и горести его двух миров. Разве задумываются они о чем-то, эти всегда веселые, крикливые и беспечные ребята? Разве интересно им было бы сидеть и размышлять неизвестно о чем, да еще и вместе с сумасшедшим магазинным воришкой? Вспомнив о своем «криминальном прошлом», Вилли помрачнел еще больше. О друзьях ему следовало забыть: он рано повзрослел, узнав страх, безысходность и отчаяние, а потому не мог бы примкнуть к их легкомысленной, галдящей ораве, даже и полюби они его вдруг. Сын Кристофа Кая чувствовал себя изгоем.
Только-только прожив свой тринадцатый год и вновь не получив от матери никакого подарка (на что он уже и не рассчитывал), Вилли в одну из ночей лежал в стогу душистого, пахнущего солнцем и свободой сена на своем лугу и смотрел в небо. Он не знал, кто косил и стоговал эту траву, но ему почему-то очень захотелось, чтобы сено появилось, и, выйдя во двор сегодня, он его увидел – сонный мир, как всегда, лучился дружелюбием и был готов исполнять маленькие прихоти своего одинокого хозяина.
Вынув изо рта изжеванную травинку, мальчик скомкал ее в шарик и щелчком отправил в сторону маленького усатого жука, неспешно ползущего по сломанной и засохшей ветке клена. Он оказался ловок, и мокрый шарик угодил жуку в спину, после чего отскочил от нее и исчез в траве. Вилли засмеялся, глядя, как озадаченное такой наглостью темно-бордовое насекомое неуклюже пытается обернуться, чтобы оценить противника. Жук находился всего в метре от него, и Вилли хорошо видел его похожие на серп усы и выползшие из-под панциря перепончатые закрылки. О, да ты, похоже, умеешь летать, дружок!
Оскорбленное жесткокрылое и впрямь напрягло свою хитинизированную переднегрудь (такие термины Вилли помнил из школы), расправило нижние крылья и, мерно жужжа, тяжело оторвалось от ветки. Сделав небольшой круг над головой Вилли, жук пропал из виду, и мальчик, тут же забыв про своего недавнего соседа, сунул в рот новую травинку.
Спустя какое-то время лежать ему наскучило. Руки-ноги затекли, а шею под воротником щекотно, словно сороконожка, терла какая-то настырная трава. Почесав в затылке, парнишка поднялся, отряхнул со штанов сухие травинки и, побродив немного вдоль речки, отправился домой просыпаться.
Дикий, исполненный боли и ужаса крик в мгновение ока выдернул его не только из сна, но и из кровати. Придя в себя, Вилли обнаружил, что стоит в прихожей и через распахнутую дверь материнской спальни со страхом смотрит на корчащееся на кровати существо, в котором он не сразу признал Перпетую. Женщина, извиваясь, то скулила, то рычала, и было ясно, что она невыносимо страдает. Мальчику вдруг захотелось, чтобы мать, наконец, потеряла сознание от боли и перестала терзать его слух этими нечеловеческими воплями. Его самого будто парализовало, и он мог лишь безучастно смотреть на разворачивающееся перед ним загадочное действо.
Белый как мел Барри, до этого также неподвижно стоявший в углу комнаты, вдруг очнулся и, бросившись к сожительнице, одним рывком сорвал с нее замызганное старое одеяло. Взору перепуганного парнишки открылось голое скрючившееся тело дико воющей Перпетуи, спазматически содрогающееся и испещренное какими-то красно-коричневыми потеками, которые она судорожно растирала обеими руками, должно быть, в попытках от них избавиться. В нос Вилли ударил тошнотворный, омерзительный запах гнилой плоти, от которого его тут же вырвало, а секунду спустя и мать начала одновременно рыгать и испражняться, добавив тем самым в переполненную ужасом душу сына изрядную порцию омерзения.
Дальнейшие события мальчик почти не удержал в памяти – все окружающее вдруг завертелось и замелькало, словно в центрифуге. Он видел каких-то людей, слышал их крики и удаляющийся рев Перпетуи, видел перекошенную страхом, а потом злобой рожу Барри и чувствовал тупые удары чем-то тяжелым – должно быть, кулаком – в грудь, лицо и спину. Его куда-то тащили, ему что-то кололи в плечо и в конце концов бросили не то на жесткий топчан, не то просто на пол в каком-то помещении, где он на следующий день и очнулся.
Напрасно уверял Вилли равнодушных врачей и санитаров в своей невиновности, напрасно пытался рассказать им правду – она никого не интересовала. Подонок Барри и его сожительница, уже сжившие со свету Кристофа Кая, явно намеревались сделать то же самое и с его сыном. Чудом выжившая, замотанная в бинты и оклеенная с ног до головы пластырем Перпетуя невнятно рассказывала персоналу клиники и полицейским какие-то небылицы, обвиняя родного отпрыска во всех смертных грехах и именуя его не иначе как гаденышем и вором, а похмельный ее партнер без устали вторил ей и добавлял от себя несуществующие подробности.
– Подумать только, господа, до чего злобного гаденыша вырастил я на свою голову! – мычал он, размахивая ручищами. – Я, конечно, видел сквозь сон, как поганый щенок крадется на цыпочках к нашей с женою постели, но и подумать не мог, какую гнусность задумал малолетний изверг! Ну а уж когда бедняжка завопила, задергалась, я проснулся окончательно и тут же принял меры! Не скажу вам точно, господа, что произошло, но думаю, что звереныш сначала искусал свою матушку, а потом еще и умудрился полить ее раны какой-то ядовитой вонючей жидкостью…
И все в том же духе. При иных обстоятельствах показания известного в округе алкоголика и грязнули доверия бы, конечно, не вызвали, так ведь других-то не было! Бредни Барри зафиксировали на бумаге, которая, как известно, все стерпит, а самому ему сочувственно посоветовали не терять самообладания и крепиться. Узнав, что никакой компенсации ему в полиции не выдадут, несчастный муж понурился и отбыл в кабак, надеясь перехватить там стаканчик-другой в обмен на свежую историю.
В первую свою ночь в психиатрической лечебнице Вилли так и не смог уснуть. Он ворочался, всхлипывал и думал лишь об одном: а не сказал ли Барри правду? Что, если те дикие «шутки» сна не ограничились мелочами и он в самом деле пытался расправиться с матерью, не сознавая этого? Ведь он действительно проснулся уже у двери ее спальни! И что это за вонь там стояла? Может, и она – «подарок» сонного мира?
В последующие дни эскулапы неустанно пичкали мальчика сильнодействующими снадобьями и буквально изрешетили уколами, но спать он стал хорошо и, что самое главное, без сновидений и дальнейших происшествий. Однако страх перед неведомым, перед самим собой навсегда поселился в душе Вилли Кая, и с переводом его в интернат для мальчиков страх этот только усилился.
Это было все, что маленький пациент смог рассказать озадаченному доктору Шольцу. Окончив свою повесть, Вилли неловко пожал плечами, улыбнулся и посмотрел на старика с надеждой и страхом. Да, он очень надеялся, что тот поможет ему, но ужасно боялся, что и Шольц спасует перед этой его загадкой, страшной и тягостной.
– Ну что ж, Вилли… – после минутного раздумья изрек врач. – История твоя, прямо скажем, довольно необычная, но я верю тебе. Во всяком случае, верю в то, что тебе все это кажется реальностью и ты не лукавишь и не фантазируешь. Но скажи-ка мне, дружок… Что общего между этими твоими… хм… яркими снами и теми ранами, что появились у тебя ночью? Насколько я понял из твоего рассказа, раньше у тебя ничего подобного не наблюдалось?
– Нет, доктор, не наблюдалось, – вид у мальчика был несколько озадаченный. До этой минуты ему казалось, что между старыми и свежими событиями существует очевидная связь, но теперь он вдруг засомневался в этом. – То есть, конечно, мне случалось набивать шишки и получать ссадины, но чтобы так… – в глазах его мелькнула надежда. – А не мог ли я и в самом деле бродить ночью по монастырю и свалиться в какую-нибудь яму, доктор?
– Все может быть, мой мальчик, все может быть, – произнес задумчиво врач. – Да вот только как можно свалиться куда-нибудь и даже получить перелом, но не проснуться при этом? Будучи, заметь, трезвым и не опоенным никаким снотворным?
Вилли не нашелся, что ответить.
– Молчишь? То-то и оно. Объяснение здесь должно быть другим…
– Каким же, доктор?
– Это сделал с тобой кто-то, малыш. И вполне сознательно.
Вилли побледнел.
– Или…
– Да, мой мальчик?
– Или что-то…
Шольц покачал головой и задумался.
Глава 8
О счастливом детстве Линды Клетт, ее первой любви и добром дяде Богумиле
Проскау – небольшой городок на юго-востоке Силезии, неподалеку от Ополе. Окруженное пестрыми пятнами полей и лесов, лежащее чуть в стороне от шумных торговых путей, местечко это в 1927 году еще сохраняло самобытность и почти нетронутые волной прогресса красоту природы и чистоту помыслов своих жителей. Все здесь было просто – от главной площади во все стороны разбегались кривые, скорее сельские, улочки, чью глинистую почву дни напролет месили лошадиные копыта. Улочки эти выводили в лес, поля или просто на окраину городка, где располагались мастерские да торчали из земли неказистые лачуги.
Скобяные, мясные и прочие лавчонки, булочные и будки ремесленников, большей частью разбросанные в центре, распахивали свои ставни с самого утра и оставались открытыми до обеда, а иные и до самого вечера, создавая видимость кипучей городской жизни. Правда, от снующих целый день туда-сюда воспитанников аграрного училища – единственного в городке учебного заведения – было немного прибыли, но порядок есть порядок.
Училище это располагалось в замке Проскау – возведенном в середине шестнадцатого века величественном сооружении в стиле ренессанса, которое, впрочем, после пожара 1644 года и последующего восстановления приобрело явно выраженные черты барокко. Когда-то замок был резиденцией графов Просковски, но род их пришел в упадок, и здание пришлось за гроши продать королевской фамилии, а с годами на пышное, требующее немалых денежных вливаний строение и вовсе не нашлось достойных претендентов. В 1845 году в замке учредили Сельскохозяйственную академию, а с конца девятнадцатого века коридоры и залы его наполнились гомоном и смехом отпрысков крестьянских и маломещанских фамилий, съезжающихся со всей округи – не только из местечек вокруг Ополе, но и из других районов Верхней Силезии – для учебы в аграрном училище.
Если бы читатель этих строк мог – в силу каких-то необычных своих способностей, коими автор, к сожалению, не обладает, – оказаться возле главного входа в училище ранним приветливым утром четвертого апреля 1927 года и возжелал бы перекурить несколько минут, сидя на деревянной скамейке под развесистой липой у крепостной стены, то увидел бы высокого, крепко сложенного мужчину лет тридцати пяти от роду, спешащего откуда-то с окраины к центру города. Одет ранний прохожий был в добротный шалоновый редингот, приталенный, но не портящий его массивную фигуру, блестящие резиновые сапоги и довольно несуразный, вышедший из моды шапокляк, который уже в те времена надевали лишь для бала или чтобы подурачиться. Походка его была торопливой, движения – резкими и немного суетливыми. Слякотные кочки и лужи, после вчерашнего потепления в изобилии образовавшиеся в глинистой почве дороги, мужчина обходить не желал, выбивая из них при каждом шаге целый веер грязных брызг, которые густо покрывали его штаны и полы сюртука до самой поясницы. На эту неприятность человек не обращал, однако же, никакого внимания, лицо его светилось радостью и удовлетворением, и он время от времени поднимал глаза к начинавшему голубеть небу, словно желая разглядеть в нем отеческую улыбку главного виновника его веселья. Пройдя мимо аграрного училища, он вскоре скрылся за поворотом улочки, направляясь куда-то в сторону церкви Святого Георга, чья башня высоко вздымалась над крышами близлежащих домов.
Мужчину звали Вернер Клетт. Он служил в Проскау церковным сторожем, а также смотрителем дендрария, разбитого на территории замка еще во времена бывшей там Академии. Человеком он был мягким, покладистым и очень исполнительным. Ни священник церкви Святого Георга, пастор Поллошек, ни ректор училища по фамилии Гарпун не могли бы пожаловаться на него – последний говаривал даже, что репутацией дендрария и удивляющим всех разнообразием сортов его хризантем он всецело обязан неусыпному бдению и стараниям «дорогого господина Клетта». Слыша это, смотритель всегда смущался, краснел и принимался рассказывать о незначительности и второстепенности своей персоны, что, конечно же, было правдой.
Но в тот знаменательный день, четвертого апреля 1927 года, он был самым важным, самым значимым и, прежде всего, самым счастливым человеком на свете: у него родилась дочь! Всю ночь Анна, жена Клетта, мучилась в родах, всю ночь грел он по приказу повитухи воду и передавал ей через подручную белые тряпки и полотенца, заранее приготовленные и сложенные роженицей на комоде в гостиной. Бедолага вспотел от усердия, переволновался и потерял счет времени. В молодости он подвизался кочегаром на речном пароходе и прошел, кидая в топку уголь, весь Одер от Остравы до Бреслау, но таких трудных часов припомнить не мог. Страх за жену стиснул ему челюсти, заставив молча и зло исполнять поручения, но новость, объявленная Клетту повитухой без четверти пять утра, явилась более чем достойной наградой за терпение и усердие. К жене его бабка, правда, не пустила, сказав, что та вконец измучена и непременно должна отдохнуть, но дочку – завернутый в пеленку пищащий комочек – ему продемонстрировала и даже позволила чмокнуть новорожденную в крошечный, меньше пуговицы, носик. Сразу после этого Клетт наскоро привел себя в порядок, втиснулся в единственный свой редингот, приберегаемый для торжественных случаев, нацепил зачем-то старый дурацкий шапокляк и отправился отпирать церковь.
Поздравив «наидобросовестнейшего из всех церковных сторожей» с рождением первенца, пастор Поллошек, не изыскав в своих книгах подходящего к четвертому апреля – дате рождения девочки – женского имени, предложил назвать малышку в честь святой Герлинды Эльзасской, что жила в седьмом веке, была матерью трех аббатис и почему-то запала в душу доброго священника. Из уважения к пастору родители возражать не стали, но дома дочку никогда не называли полным именем, ограничиваясь «мягкой» его частью. Так началась первая жизнь Линды Клетт.
Девочка росла здоровой, спокойной и ласковой. Это были те годы, когда после вихрей 1921 и перипетий 1922 годов население Силезии снова понемногу сплотилось, страсти окончательно улеглись и добрососедские отношения восстановились. Вернер Клетт, пусть и занимал очень скромную должность, пользовался у горожан уважением, начальство к нему по-прежнему благоволило, и его Линда скоро стала всеобщей любимицей.
– Подойди-ка, крошка, возьми леденец! – кричали через плетень старухи и бабы, едва завидев на улице цветастую юбчонку славной дочки церковного сторожа, и принимались шарить руками в карманах своих огромных, на здешний манер, передников.
– Как папаша твой поживает, Линда? – кричал, бывало, какой-нибудь крестьянин из телеги, протягивая девочке букетик полевых цветков. – Передай ему, чудесную дочку он народил!
В ответ на эти знаки внимания Линда тоже не скупилась на маленькие любезности: то грядку поможет прополоть престарелой хозяйке, то пирожком с капустой мужика угостит, то ковш воды вынесет напиться – по-соседски ведь, по-человечески!
С ранних лет пропадала девчонка у отца на службе – и в церкви увидишь ее с метелкой для пыли, и на осеннем кладбище с граблями, ну а уж в дендрарии при аграрном училище она разве что не ночевала – очень уж полюбились ей отцовы орхидеи, пионы да розы. Тоненькая, лучистая и улыбчивая, она сама напоминала цветок так же, как это описание напоминает начало доброй сказки о принцессе. Как ее источающие аромат разноцветные питомцы разбрасывались осенью семенами, так и Линда Клетт сеяла вокруг себя целые поля радости и «благоухала» чистотой и надеждой. Преподаватели и работники училища, будь то суровый поджарый дядька или добродушный молодой увалень, церемонно снимали перед ней шляпу, а сам господин Гарпун – краснощекий директор-«мячик» – называл ее не иначе как «нашей маленькой цветочной феей» и подсовывал ей время от времени сладкое миндальное печенье, а то и дорогущую шоколадную конфету в ярком фантике (фантики эти Линда тщательно разглаживала ладошками и прятала под матрас своей кровати – серебряная фольга на удивление долго сохраняла запах орехов и шоколада, и можно было перед сном наугад вытаскивать по одной обертке и узнавать по запаху название конфеты).
Вернер Клетт души не чаял в дочери и очень гордился ею. Правда, будучи человеком сдержанным и даже немного замкнутым, он старался держать при себе свои чувства, дабы не выглядеть смешным (чудак был уверен, что всякое проявление сентиментальности превращает мужчину в бабу и делает из него посмешище), совершенно не подозревая о том, что улыбки окружающих вызывает не отцовская любовь, а, скорее, его напускной консерватизм да нелепый старый шапокляк, который он теперь почти не снимал, думая, что тот придает ему солидности. К тому же «дорогой господин Клетт» предпочел бы, наверное, гордиться сыном, что было бы, по его мнению, куда как более уместно. Но тут Бог не был к нему щедр: сына ему Анна так и не родила, и церковному сторожу приходилось довольствоваться в своей гордости тем, что имелось, – «маленькой цветочной феей».
Упомянутая Анна, мать Линды, была на удивление скрытной, молчаливой женщиной, всегда и все делавшей по-своему. Лицо ее, когда-то красивое, но от многолетнего затворничества превратившееся в бледную маску, было почти лишено эмоций. Казалось, ничто ее не интересовало – ни рассказы мужа о городских происшествиях, ни подрастающая дочка, ни сам семейный очаг. По дому она передвигалась словно тень, механически управлялась по хозяйству, а за обедом не прикасалась к еде, молча выжидая, когда Вернер отодвинет тарелку и можно будет убрать со стола, – выпроводив всех из столовой, она, может быть, и поклюет чего-нибудь неохотно, в остальном же супруга церковного сторожа была «сыта этим болотом», как она сама говаривала в редких обменах мнениями с соседками.
Болтая с подружками, Линда удивлялась их рассказам о взбучках, которые устраивали им матери за непослушание, и подарках, что те дарили своим дочкам на Рождество, Пасху и день рождения. Сама она ни того, ни другого не знала, но не завидовала подругам, а скорее сочувствовала им: как могут они жить в таком непостоянстве? Цветные платьица Линде привозил из Ополе отец, а заплетать косы учили соседские бабы (жалко девчонку!). Ни ссор, ни размолвок в семье Клеттов не было, жизнь текла ровно и размеренно, словно Одер, который Линда видела однажды в городе. Девочке не было ни скучно, ни плохо – она не знала другой матери, да и не хотела знать – спокойная, равнодушная Анна была крепка и надежна, словно привальный брус при швартовке, и, казалось, могла противостоять любой непогоде. Это ее качество ценил и сам Вернер Клетт, старый матрос, и не очень-то расстраивался из-за отсутствия в его семье жарких объятий, рождественских елок и веселого гомона. Он просто ходил на службу и наблюдал, как растет и взрослеет маленькая Линда.
Как-то раз, перед Пасхой, Линда играла с соседскими ребятишками в «бедного черного кота» на опушке. День был ясный, солнечный, и настроение у всех было весеннее. Вот уже битый час дети не уставали хохотать над глупым «черным котом» – противным нытиком, в роли которого уже по многу раз побывали все без исключения. Хорошо было и то, что в игру эту невозможно было проиграть или выиграть, а значит, и ссор не предвиделось. Рваные чулки и растоптанные ботинки ничуть не смущали девчонок, да и их розовощекие друзья мужеского полу отбросили на время свою деловитость и, не стесняясь, катались в пыли, мяукали и мурчали, как того требовали правила. Пару дней назад Линде исполнилось девять лет, но и она позабыла о том, что уже «взрослая», и дурачилась наравне со всеми.
– Гляди-ка, Линда! К вам гости! – закричала рыжеволосая маленькая Марлен, получившая свое имя после того, как ее папаша посмотрел где-то фильм «Женщина, которая желанна» и чрезвычайно восхитился исполнительницей главной роли. Марлен была моложе Линды года на два, но очень развитой, необыкновенно подвижной и располагающей к себе девочкой.
– Гости? – удивилась Линда, которая как раз гладила «бедного черного кота» по коротко остриженной колючей башке и не смотрела по сторонам. Само слово «гости» как-то не вязалось с ее домом, в стенах которого гостеприимности было ровно столько, сколько чуткости и теплоты в сердце его хозяйки. Кто же это мог пожаловать? Не иначе как какой-нибудь крестьянин по делам.
Однако у дома Вернера Клетта стояла не телега, запряженная захудалой лошаденкой, которую ожидала увидеть Линда, а настоящий новенький автомобиль «Мерседес», сверкающий черными лакированными крыльями и красным боком! С опушки ей хорошо были видны два левых колеса с блестящими спицами и третье, запасное, закрепленное перед самой дверцей толстой бежевой бечевой. Такая машина в здешних краях была не просто редкостью – событием! Привыкшие с пеленок к цокоту лошадиных копыт, жестким вожжам да скрипучим телегам, ребятишки разом прекратили игру, оставив недоласканного «кота» в покое, и уставились на это чудо современной техники, превзойти которое вряд ли было бы возможно.
Исполненная любопытства, Линда опрометью бросилась домой. Отец уже был там и встречал своего гостя – солидного, пузатого человека в жилетке. Звали его Богумил Торшевски. Торшевски этот оказался не то управляющим, не то попечителем какого-то небольшого речного пароходства на Эльбе. Оказалось, что когда-то он вместе с Клеттом служил на судне, и теперь ему требовался для одной из его контор в Ополе человек, которому он мог бы доверять. Говоря об этом, толстяк то и дело вытирал платком пот со своей красной складчатой шеи и вращал по сторонам круглыми, чуть диковатыми глазами. Он начинал задыхаться даже при смехе и носил смешные розовые туфли, которые уже испачкал в грязи у ворот, но в общем показался Линде человеком веселым и незлобивым.
Шутя и подначивая всех и вся, Богумил Торшевски походя сожрал целый таз силезских картофельных кнедликов с сырным соусом и не лопнул при этом, чем весьма удивил Линду. Он сыпал малопонятными шутками, отпускал Анне бесконечные комплименты да похвалы касательно ее кулинарных дарований и говорил с явно выраженным польским акцентом, что делало его еще потешней. Расхваленная им хозяйка дома несколько оживилась, интересовалась женой гостя и погодой за границей и даже делала вид, что внимательно слушает его байки. Такой оживленной мать еще никогда не была, во всяком случае, на памяти дочери.
– Вот так мне и достался этот красавец! – Торшевски толстым пальцем указал через окно на свой «Мерседес», закончив рассказ о какой-то сомнительной афере. – Не ездит, дорогой Клетт, а летает, право слово! Мы со Станислаусом и не заметили, как домчали до вас, хотя путь от Брига и немалый – пятьдесят верст! Ты бывал в Бриге, Вернер?
В Бриге Вернер бывал, в чем и поспешил заверить гостя, чтобы избежать потока подробных сведений по истории, географии и экономическим перспективам этого города. Богумил Торшевски крякнул и отправил в рот большой кусок жареной колбасы.
– Тебе даже не придется переезжать, друг Клетт! Контора находится на окраине Ополе, прямо на берегу, так что ты с утра до вечера сможешь любоваться нашим Одером. Эх, хорошие были времена! – гость похлопал Вернера по плечу, и Линде показалось, что вот-вот прослезится.
Однако хозяин дома не поддался на сентиментальную удочку.
– И не уговаривай меня, Богумил, – покачал он головой. – Моя должность при церкви мне очень нравится, да и ежедневная езда в Ополе мне не подходит. А дендрарий при училище? Нет-нет, приятель! Спасибо тебе, конечно, за предложение, но…
– Не торопись с ответом, дружище! – не отступал Торшевски. – Давай-ка посидим с тобой, выпьем хорошенько да обмозгуем это дельце! Не зря же мы со Станислаусом перлись сюда из самого Брига!
– А что у тебя в Бриге?
– А! – махнул рукой Торшевски. – Дел всюду полно! Городок маленький, но в тихих заводях, как известно, – самая крупная рыба. А у Станислауса каникулы, вот я и вожу его с собой. Учу, как говорится, уму-разуму.
Трижды упомянутый Станислаус был сыном этого ловца крупной рыбы. Рослый, на удивление худощавый паренек лет четырнадцати был противоположностью своего отца не только в комплекции, но и по характеру. Он не хохотал, не балагурил без продыху и не стремился быть центром компании, хотя, впрочем, могло статься, что вел он себя столь скромно именно из-за присутствия папаши.
Станислауса несколько раз приглашали за стол, но он отказывался, ссылаясь на то, что утром позавтракал и до сих пор сыт. Это свое «утром позавтракал» он повторял каждый раз, когда Анна обращалась к нему с приглашением отведать чего-нибудь, словно желая подчеркнуть, что на однообразные вопросы даются соответствующие ответы. Торшевски принялся было вышучивать худобу сына (современная молодежь, дескать, и есть-то по-человечески не умеет, предпочитает, чтобы ребра в разные стороны торчали, как у барана), но это ему быстро наскучило, и он отвлекся. Линда пыталась вспомнить, когда ей в последний раз доводилось видеть у баранов торчащие в разные стороны ребра, парень же в ответ на подначку отца лишь пожал плечами и улыбнулся. Улыбка эта запомнилась маленькой дочке церковного сторожа на всю жизнь – она была, как… мазок кисти романтического художника по солнечному холсту, как бесконечное звездное небо, как теплый плед в холодную зимнюю ночь, как… Линда долго могла бы продолжать эту цепочку сравнений, но устыдилась своих мыслей и покраснела. Станислаус заметил ее смущение и, поднявшись с кушетки, на которой все это время сидел, подошел к ее стулу.
– Могу ли я попросить вас, барышня, показать мне окрестности? – обратился он к ней с легким поклоном. – Если, конечно, господин Клетт позволит, – поспешил он добавить, повернувшись к отцу Линды.
– Пусть идут! – промычал Торшевски, сдирая зубами кусок мяса с вилки. – Разговор у нас с тобой долгий, так что самое время молодняку отдать швартовы и отчалить! Посмотри только, какая красивая пара!
Он громко рассмеялся своей шутке. Клетт же, казалось, был немного озадачен.
– Какая ж это пара, Богумил? Моей Линде всего девять!
– Знаю, знаю, старик! Знаю и шучу беззлобно! Эй, Станислаус! Его Линде всего девять, так что имей в виду, подлец!
Станислаус сокрушенно, но несколько деланно покачал головой, вздохнул и посмотрел на новую знакомую.
– Вот ведь заладил… Пойдем?
– Угу, – кивнула она и, пропустив гостя вперед, вышла следом за ним во двор.
Девятилетняя Линда не имела понятия, как нужно прогуливаться с молодыми людьми и что именно их может интересовать в «окрестностях». Сначала она собралась было предложить Станислаусу пойти поиграть в «бедного черного кота», но, посмотрев на его ладный бежевый костюм и лакированный бок притихшего у крыльца «Мерседеса», усомнилась в уместности своего намерения. И действительно – неужто рослый парень, над верхней губой которого уже проклюнулась растительность, примется ползать в полевой грязи и дурашливо мяукать? Линда замялась, растерявшись. Ее «ухажер» заметил это и, улыбнувшись своей сногсшибательной улыбкой, совсем по-братски потрепал ее по голове, сбив заколку.
– Меня звать Станислаус. Думаю, ты уже поняла, что я сын того клоуна, что травит байки и набивает себе брюхо в вашем доме.
Она это поняла, но тон, которым парень отозвался о своем отце, обескуражил Линду. Сама она ни за что не смогла бы назвать папу клоуном, даже если бы и считала его таковым. Покраснев, девочка рискнула поинтересоваться:
– Почему ты так говоришь, Станислаус? По-моему, господин Торшевски очень веселый… Даже мама сегодня улыбается, а это нечасто бывает.
Парень задумчиво посмотрел на нее, изо всех сил стараясь казаться взрослым и рассудительным.
– Бедное дитя! – произнес он трагичным голосом. – Как же ты живешь, если даже мать не одарит тебя улыбкой? Должно быть, плохо тебе приходится…
– А зачем меня… как ты сказал? Одаривать? Мама всегда плохо себя чувствует, ей не до глупостей… А мне и так хорошо.
– Хорошо?
– Очень хорошо…
Пошли вдоль ручья. Помолчали. Странно, но общество усатого мальчишки (а кем же, как не мальчишкой, он мог быть в четырнадцать лет?) совсем не тяготило маленькую Линду, как можно было ожидать. Напротив – она гордилась тем, что идет рядом с таким опрятным, ухоженным горожанином, у которого к тому же такая замечательная улыбка! Ей очень хотелось, чтобы подружки увидели ее с ним – вот будет зависти! (Многие люди почему-то хотят, чтобы им завидовали. Они просто жаждут зависти, но отчего-то боятся слов «ненависть» и «козни», не понимая, что это – два конца одной веревки для их удушения). Да простит великодушный читатель дочке церковного сторожа это маленькое тщеславие! Тот Станислаус – лощеный, пахнущий парфюмом молодой франт – был для нее чем-то сродни оберткам от шоколадных конфет, которыми угощал ее господин Гарпун, – таким же ярким символом лучшей, недосягаемой жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?