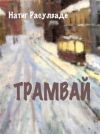Текст книги "Лютый гость"

Автор книги: Людвиг Павельчик
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Так тебе, говоришь, по душе мой отец? – спросил вдруг со смешком Станислаус, и Линда внезапно поняла, что ей разонравился этот жирный болтун Богумил Торшевски, посмевший недавно подтрунивать над своим благородным сыном, который казался девочке едва ли не совершенством.
– Нет, Станислаус, уже нет! Хотя папа, помню, рассказывал мне, что твой отец – верный товарищ и очень сообразительный…
– Да? – прищурился юнец. – А мой папа рассказывал мне кое-что другое. А именно, что твой отец – поганая немецкая собака, с которой он когда-нибудь спустит ее облезлую шкуру.
Линда остановилась, пораженная.
– Неужели это так, Станислаус? Но почему? Ведь он же его друг!
– У моего отца нет друзей. У него есть хозяева, перед которыми он лебезит, подчиненные, которых он терроризирует, и собутыльники, что лижут ему пятки из-за жалких подачек. Вот и все.
– Правда?
– Истинная.
– А почему… почему он не любит немцев?
– А кто их… Э-э-э… То есть, я хочу сказать, что поляки после всех этих прошлых дел немного… злятся, что ли. И не только на немцев. Злятся на французов, которые в 1933-м трижды отказались навалиться скопом на Германию и разодрать ее в клочья в угоду полякам, злятся на покойничка Пилсудского за то, что не смог настоять на этом скотстве, злятся на Советский Союз, Литву и Чехословакию, которых хотели было покусать, да получили пинка в тощий зад. А теперь еще это железнодорожное дело… Отец говорит, что полякам осталось лишь немного надавить, и Гитлер отдаст им Силезию. Но я так не думаю.
– А как ты думаешь? – спросила перепуганная Линда, которой было неясно, как это можно вдруг кому-то отдать или не отдать ее родину.
– Думаю, что Гитлеру скоро надоест терпеть эти польские пакости и он решит вопрос иначе.
– Как?
– А вот так! – мальчик шутливо приставил ко лбу Линды указательный палец. – Та-та-та-та! Поняла?
– Угу. Станислаус?
– Да?
– А что, если он все-таки захочет отдать им Силезию?
– Гм… Тогда ты станешь полькой, вот и все.
– Как ты? – ради своего нового героя Линда готова была стать не только полькой, но даже негритянкой или кем угодно.
Но Станислаус нахмурился.
– Я не поляк! – заявил он. – Это папаша мой поляк, а я родился в Силезии и вырос в Саксонии! Я немец, и мне начхать на все его выкладки, понятно? К слову сказать, сам он что-то не больно торопится в свою Польшу – пароходами вон управляет в Ополе и Бриге, государственные заказы и так далее… А я ему не помощник! Я хочу стать ученым, а не объезжать порты или орать на рабочих!
– А если прикажут?
– Кто?
– Ну… отец.
– Да хоть сам Пий Одиннадцатый! Я решил, что буду жить своей жизнью. Честной и открытой.
«Жаль, что он не мой брат! – подумала Линда. – Вот было бы здорово!»
Терпеть «польские пакости» и в самом деле долго не стали, и спустя три года после этого разговора рейхсканцлер «решил вопрос иначе», как и предсказывал в разговоре со своей маленькой подружкой не по годам развитый Станислаус. Самому ему ни один из пап – ни Пий Одиннадцатый, ни собственный – ничего приказывать не стал, и парень, которому в июне 1939 года исполнилось восемнадцать лет, был записан в Венский медицинский университет. Несмотря на довольно скромные успехи в гимназии, принят он был без всяких проблем – недавнее присоединение Австрии к Рейху сыграло ему на руку, так как вычеркнуло из списка претендентов еврейских детей и отпрысков «всяких там социал-демократов», как Станислаус любил повторять, подражая отцу.
С первых дней учебы он показал себя с лучшей стороны, был прилежным, трудолюбивым и любознательным студентом, интересовался генетикой и евгеникой и стал любимцем слабого пола. Последнее обстоятельство, несомненно, расстроило бы Линду, но она о нем ничего не знала.
С того памятного дня, когда она познакомилась со Станом (так его называли друзья), девочка и дня не проводила без мыслей о ее «старшем брате», коим он обещался ей быть, и с гордостью пересказывала подружкам те отрывки из ее с ним разговоров, которые, как ей казалось, они могли понять. Разговоры эти, представлявшие собой, собственно, не что иное, как чванливое бахвальство старшего перед ребенком, Линда именовала «научными беседами» и страшно расстраивалась, если Станислаус по какой-то причине не мог приехать в Проскау в конце недели, как у них повелось. Если у отца были дела в городе, то он время от времени брал дочку с собой и завозил по дороге в гости к Торшевски. Девочка свела дружбу с матерью Станислауса, пышной болтливой домоседкой, и была желанным гостем в их опольском доме.
Несмотря на отказ Клетта стать его помощником, Богумил Торшевски оставался снисходительным к его дочери и не имел ничего против ее визитов. Если он был дома, то часто сажал Линду к себе на колени, шутливо похлопывал пониже спины или давал ей «примерить» какие-то платья довольно странного покроя, подолы которых редко скрывали трусы. Это происходило главным образом в то время, пока Станислаус был в школе, а хозяйка дома хлопотала на кухне или была в прачечной, и сохранялось в строжайшем секрете. Слово «педофилия» тогда не было в ходу, да и само это явление общественного резонанса не имело, так что никому и в голову не приходило заподозрить «милого дядю Богумила» в глупостях такого рода. Сама Линда не видела в этих маленьких шалостях добряка Торшевски ничего плохого и терпела их, вознагражденная возможностью видеть Станислауса. Порой она недоумевала, с чего это вдруг дыхание толстяка так учащается при прикосновениях к ней, и спрашивала, не тяжело ли ему держать ее на коленях.
– Что ты, что ты, детка! – хрипел Торшевски, потея. – Век бы… век бы держал!
Все изменилось, когда Стан поступил в университет и уехал в Вену. Двенадцатилетняя Линда очень переживала разлуку. В это время в ее отношении к юноше как раз появились новые, необычные нотки, и внезапное прекращение регулярных встреч, к которым она так привыкла за три года, подействовало на нее удручающе. Станислаус, конечно, обещал писать и приезжать при любой возможности, но это было уже не то – она остро чувствовала каждый из тех полутора тысяч километров, что отделяли Вену от Проскау, и по-девичьи страдала. Вряд ли Линда сумела бы объяснить, что именно в этом новоиспеченном студенте так ее привлекает, чем держит он ее неопытное сердце в своей власти, но, наверное, эта безусловность и является признаком настоящего юного чувства?
Если она видела, что отец собирается в Ополе, то непременно напрашивалась сопровождать его в поездке, чтобы проведать госпожу Торшевски. Подъезжая к знакомому дому, она заранее начинала волноваться, а стуча в дверь, бывала просто сама не своя. А вдруг случится чудо и на пороге возникнет Стан? Улыбнется ей и скажет, что как раз собирался мчаться в Проскау, чтобы повидать ее?
Но чуда не происходило. Дверь раз за разом отворяла мать Станислауса, весело щебетала, как толстая, неугомонная пташка, и была вне себя от радости при виде своей маленькой терпеливой подруги. Она вываливала на гостью кучу ненужной информации о каких-то своих тряпично-кухонных делах, поила ее чаем и восторгалась успехами вермахта в Польше. Линда вежливо выслушивала ее, стараясь скрыть разочарование, и была рада уехать домой, но лишь затем, чтобы через неделю-другую вернуться сюда с новой надеждой.
В один из таких визитов дверь девочке открыл сам хозяин, господин Торшевски. Он выглядел приунывшим и пояснил, что жена-де отбыла третьего дня к своей заболевшей сестре в Дрезден, оставив его, бедолагу, в одиночестве. Напускная грусть Богумила не вязалась, однако, с сияющими глазами, которыми он смотрел на Линду, но расстроенная гостья этого не заметила. Узнав, что ни Станислауса, ни его матери дома нет, она хотела было сразу уйти и погулять до возвращения отца, но Торшевски, всплеснув руками, объявил, что был бы негостеприимным хозяином, если бы позволил ей уйти «вот так сразу», не напившись хорошего цейлонского чаю с конфетами. «Что ж я скажу жене, цыпленок? Она же загрызет меня, как куропатку, если узнает, что я так поступил! Нет, нет и нет! Ты сейчас же пройдешь в комнату и порадуешь дядю Богумила хорошим аппетитом и… всем остальным».
Птичьими сравнениями Торшевски Линду не удивил (такие глупости были вполне в его духе), а на «всем остальным» она по неопытности не обратила внимания. Посчитав, что отказываться было бы невежливо (да и с какой, собственно, стати?), двенадцатилетняя дочка церковного сторожа переступила порог квартиры извращенца. В этот день и час первая – счастливая – жизнь Линды Клетт закончилась.
Глава 9
«Подарок» Бродяги, наивность Вилли и неприятность, приключившаяся с сестрой Магдой
Оставим пока маленькую Линду разбираться со своей судьбой и вернемся к нашему Вилли. Пока пожилой эскулап ломал голову над загадкой своего маленького пациента и раздумывал о том, как ему помочь, сестра Эдит продолжала лечить Вилли по-своему. Даже в те дни, когда дежурить в спальне воспитанников выпадало не ей, миниатюрная монашка с добрыми лучистыми глазами неизменно возникала после отбоя у постели своего любимца (как теперь думали многие), чтобы напоить его целебным отваром из алюминиевой кружки. Она, казалось, не обращала ни малейшего внимания на косые, насмешливые взгляды сестры Бландины и ядовитые, полные злобы – Ойдоксии: сухая как вобла ведьма ненавидела весь свет, ну а уж тех, кто «цацкается с этими отбросами», и подавно. Она не понимала сестру Эдит, а потому боялась ее, как чумы, природа которой была малообразованной Ойдоксии также неизвестна.
Старуха неоднократно пыталась жаловаться настоятельнице на странное поведение «этой новенькой», но та, поговорив с Эдит и выслушав ее доводы, согласилась с ней, признав, что забота о воспитанниках и их здоровье все же является частью обязанностей, возложенных Всевышним на сестер ордена Петры-Виргинии. В глубине души матушка Теофана не разделяла рвения младшей воспитательницы, считая, что баловать и без того разнузданных подростков не следует, но вынуждена была уступить мягкой настойчивости и христианскому благочестию сестры Эдит.
Поначалу Вилли стеснялся своего якобы привилегированного положения, но потом привык и принимал внимание воспитательницы безропотно и покорно. Получая кружку отвара из ее маленьких ухоженных рук, он лишь картинно вздыхал, бросал виноватый взгляд на ухмыляющихся товарищей и пожимал плечами: что, мол, поделаешь с диктатурой? На самом же деле парнишка был несказанно рад – отвар неизвестной травы оказывал на него просто чудесное действие, позволяя спать крепко, спокойно и без страха. Постепенно Вилли стало казаться, что он совсем излечился от своего недуга (так он называл теперь свои странные отношения со сновидениями) и может забыть, как глупую детскую сказку, все, что с ним случилось, включая его магазинные приключения и полученные недавно травмы.
Поразмыслив надо всем, что с ним происходило, он пришел к выводу, что и в самом деле болен лунатизмом. Ноющий безымянный палец постоянно напоминал ему, что приключения он находил не только в сновидениях, выстроенных по его собственному сценарию, но и в реальном мире, вставая ночами и шатаясь невесть где. Одно было неясно маленькому последователю Кастанеды – почему он теперь так хорошо помнил свои «обычные» сновидения, но совершенно забывал те, во время которых бродил по округе? Как получалось, что вместо воспоминаний – хоть радостных, хоть тревожных – он ощущал лишь неприятный, тошнотворный привкус, портивший ему весь день? Вилли многое отдал бы за то, чтобы проследить свой ночной путь и узнать, где он умудрился так исцарапаться и сломать себе палец… Впрочем, кажется, с отваром сестры Эдит ночные его неприятности окончательно ушли в прошлое.
Однажды после обеда к Вилли неожиданно подошел Карл-Бродяга. Он напустил на себя смущенный вид и долго мялся и откашливался, прежде чем заговорить. Такое поведение Бродяги совершенно ему не шло и казалось наигранным, так что Вилли не знал, что и думать. Наконец Карл заговорил:
– Ты это… Знаешь, что мы с тобой теперь почти тезки?
Удивленный его собеседник быстро сравнил в уме имена Карл и Вильгельм и усомнился в словах недалекого бездельника:
– С чего бы это?
– Ну а как же? Разве ты еще не слышал, какую кличку для тебя придумал Франци? – изобразил изумление Карл. – Ты теперь – Ночной Бродяга! Так что…
Вилли помотал головой:
– Забудь! Не приживется.
– Почему это? До сих пор все прозвища, которые придумывал Франци, приживались.
– А это не приживется. Прозвище должно быть емким и метким. Вот взять, к примеру, тебя…
– А что я? – нахмурился растерявшийся Карл, который явно не ожидал возражений от новичка.
– Да очень просто! На тебя посмотришь, и другого слова, кроме как «Бродяга» на ум не приходит. А я?
– Ну… Это ты ведь бродишь ночами где попало! – стерпел выпад Карл, и было заметно, что он не хочет начинать скандал, так как преследует другую цель. – Да я ведь не про то хотел с тобой поговорить…
– А про что?
– Да вот… Мне, как бы это сказать… Неловко, в общем, за тот случай в первый день. Хотел, наверное, порисоваться перед парнями, да не рассчитал силы. Хорошо, что Шорши меня тогда осадил! Он у нас такой – наперед знает, как будет правильно…
Вилли пожал плечами. Он не знал, как реагировать на неуклюжую попытку Бродяги извиниться за свои обезьяньи повадки, к тому же у него снова заныло в животе при воспоминании об острой боли и о том, как он катался по полу, не в силах сделать вдох.
До сих пор у него не было друзей, но ему казалось, что после того приема, который оказал ему Карл, никакой дружбы между ними завязаться не может. Хотя, похоже, ничего такого Бродяга ему и не предлагает. Что же, в таком случае, ему нужно?
– Ладно, Карл, чего там… – сказал он после долгой паузы. – Мне не впервой быть новеньким в группе, и я знаю, как это обычно бывает. Так что не парься.
К Вилли еще никто никогда не обращался с извинениями, и сложившаяся ситуация показалась ему столь неудобной, что у него загорелись уши. Он нагнулся и принялся неистово расчесывать ногу у щиколотки, словно в нее впился самый чесучий комар на свете.
– Ну что, мир? – подвел черту Бродяга и протянул в знак примирения руку.
– Мир! – ответил Вилли на рукопожатие и подумал, что Карл, в сущности, неплохой малый, но больно уж несуразный и глупый, вот и злится на весь свет.
– Кстати, у меня к тебе предложение! – совсем расслабился прощенный агрессор и принялся тараторить, как обычно. – Даже не предложение, а… как бы это сказать… Подарок, что ли.
– Подарок? Ты о чем?
Меньше всего на свете Вилли ожидал от Бродяги подарка, а потому сразу насторожился.
«Сейчас он заржет, как конь, и влепит мне затрещину со словами: “А вот какой!”» – мелькнула мысль, и он непроизвольно напрягся, готовясь обороняться или бежать.
Но Бродяга и не думал делать ничего подобного. Он приблизил губы к самому уху своего боязливого собеседника и пробубнил:
– Да ты не тушуйся! Есть тут у нас такая игра – шутка, в общем… Получишь настоящее удовольствие, обещаю!
– Что за игра?
Карл едко ухмыльнулся.
– До поры рассказывать не положено, иначе неинтересно будет. Мы с ребятами уже все подготовили, тебе осталось только прийти и посмеяться вдоволь. Ну так как?
Вилли все еще мялся в нерешительности. А вдруг это подвох, и предметом насмешек предстоит стать именно ему?
– Ну, так дело не пойдет! – всплеснул руками парламентер интернатских воспитанников. – Ему подарок предлагают в честь вступления в наши ряды, а он через губу плюет! Извиняй уж, злата-серебра или красоток заморских не припасено, вот и отделываемся, так сказать, увеселительными мероприятиями.
Вилли показалось, что Карл насупился, и он поспешил ответить:
– Да нет, это я так, с непривычки. Ты не обижайся. Конечно, я пойду с вами!
Бродяга вновь заулыбался.
– Ну, вот и ладушки! В общем, так – после ужина, минут за сорок до отбоя, встречаемся в общей спальне. Там все и узнаешь. Идет?
– Хорошо. Я сегодня все равно никуда не собирался.
За ужином, состоящим из нескольких ложек сваренной на воде ячневой крупы, куска серого хлеба с маргарином и стакана мутного сладкого компота, Вилли почему-то чувствовал себя в центре внимания. Никто на него не смотрел – под пристальным взором сестры Ойдоксии все молча пережевывали незамысловатую пищу и стучали оловянными ложками о дно своих мисок, стремясь побыстрее закончить трапезу, – но ему казалось, что все знают о намеченном «подарочном» мероприятии и лишь делают вид, будто ничего не происходит.
Вилли нравилась такая игра. Нравилось чувствовать себя частью коллектива и быть посвященным в общие шалости. Сегодня они увидят, что и у него есть чувство юмора и он тоже не прочь поразвлечься! Интересно, что они там такое задумали?
Кроме сестры Ойдоксии, за воспитанниками сейчас никто не приглядывал. Как и всегда в этот час, петровиргинки ужинали в рефектории – смежном со столовой зале, и до слуха детворы долетал монотонный речитатив одной из монашек, читающей своим степенно принимающим пищу товаркам что-то из жития святых. «…Ибо и дух требует пищи», – значилось в монастырском уставе.
Ойдоксия очень сожалела, что не может присутствовать за ужином и внимать чтице, а потому злилась еще больше обычного. Страшное, бескровное лицо ее напоминало злобную карнавальную маску, и Вилли, взглянув на ее чопорную фигуру, поежился и энергичнее заработал ложкой.
Зал, в котором трапезничали воспитанники, был сырым и мрачным, как, впрочем, и все остальные помещения в монастыре. Длинный стол из грубо отесанных досок, установленный точно посередине, такие же деревянные лавки вдоль него да жесткая проволочная дорожка для вытирания ног у входа составляли все убранство этой трапезной. Единственной ее достопримечательностью было изображение не то солнца с лучами в виде змей, не то клубка змей в форме солнца, украшавшее стену над огромным потухшим камином в дальнем конце зала. Человеку с разыгравшимся воображением могло показаться, что там, в полумраке, притаилось какое-то жуткое чудовище с разинутой черной пастью и шапкой редких змеящихся волос. Кто и зачем изобразил здесь это странное создание, оставалось загадкой. Не подлежало сомнению лишь то, что нарисовано это жуткое «солнце» было не вчера: подобно фрескам в старых храмах, оно серьезно пострадало под действием безжалостного времени и требовало реставрации, которую, конечно, никто здесь проводить не станет.
Вилли вспомнил, как во время первого своего монастырского ужина снова и снова косился на черную пасть камина и змей, которые, казалось, извивались и шипели в неровном свете свечи (по какой-то старой традиции ордена вкушать пищу при электрическом свете не дозволялось, да и разводить в камине огонь после наступления весны, то есть с двадцать второго марта, было тоже не положено). Потом Вилли, как и все остальные, перестал обращать внимание и на камин, и на изображение, особенно в те дни, когда за порядком в трапезной надзирала сестра Ойдоксия, представляющая собой угрозу куда более реальную, чем нарисованные змеи.
Покончив с едой, мальчишка облизал ложку и положил ее, перевернув, справа от миски, как требовали правила. Чуть было не поставив локти на стол (что явилось бы преступлением), он спохватился, сложил руки на коленях и, держа спину прямой, стал молча ждать, когда доест и примет аналогичную позу последний из двадцати восьми «дармоедов». О том, чтобы уйти в одиночку, да еще и без соответствующей молитвы, нечего было и думать – при такой неслыханной вольности провинившемуся грозило бы как минимум увещевание, а то и что похуже… Покидать трапезную, как и входить в нее, воспитанники должны были только все вместе, дружным строем и молча. Исключение делалось лишь для дежурного, который оставался, чтобы собрать, отнести на кухню, вымыть и вытереть насухо двадцать восемь оловянных мисок и ложек, которые потом надлежало аккуратно составить в высоченный посудный шкаф. Сегодня дежурил маленький Андреас (тот самый, что воевал с мухой, проявляя чудеса настойчивости), имевший по этому поводу весьма удрученный вид.
Вот наконец завершил свою неторопливую трапезу и Толстый Руди, прозванный так за тяжеловесный зад, рвущее любую рубаху пузо и круглую розовую физиономию. Никто не мог решить загадку, как ему удавалось поддерживать такие телесные габариты при столь скромном, воистину монашеском пайке. Зная, что на добавку рассчитывать не приходится, Руди заставлял себя есть медленно, растягивая удовольствие и тщательно прожевывая каждую крупицу серой постной каши. По его собственному признанию, на каждую ложку пищи он неизменно отмерял ровно тридцать жевательных движений, чтобы лучше усвоить каждую калорию и обмануть чувство голода, которое бесновалось и пищало в нем, словно летучая мышь под потолком общей спальни. Потратив кучу усилий на то, чтобы образумить не в меру медлительного товарища и убедить его не заставлять всех остальных ждать его насыщения, мальчишки в конце концов махнули рукой на причуды Толстого Руди и научились терпеть его бесконечное жевание. Постепенно комментарии иссякли даже у известного шутника Франци, и Руди получил в трапезной полную свободу действий.
Повинуясь жесту сестры Ойдоксии, воспитанники «оторвали свои задницы» от скамьи и сложили ладошки лодочкой, вторя нестройным хором заунывному напеву монашки:
«За все Твои благодеяния
и за дары, которые мы вкушали,
благодарим Тебя, всемогущий Боже,
живущий и царствующий во веки веков.
Аминь».
– Ступайте же к себе и сыщите себе в свободные вечерние минуты свои некое богоугодное занятие или же предайтесь светлым думам о Творце нашем, дабы исцелить покалеченные безбожными деяниями души свои! – пафосно напутствовала сестра Ойдоксия шаркающих стоптанными ботинками потенциальных богомольцев и перекрестилась.
– Надо успеть убраться, пока старая ведьма не перешла к заклятиям! – шепнул на ухо Вилли весельчак Франци. – Ишь, как распинается!
Запуганный монашками еще в день своего появления в интернате, Вилли только скривил губы в подобии усмешки, да и то лишь для того, чтобы показать Франци, что оценил его юмор. Меньше всего на свете ему хотелось быть подвергнутым какому-нибудь увещеванию или – упаси бог! – вразумлению. Порой он сам себе удивлялся: казалось, с чего бы это ему – битому-перебитому, истерзанному, оплеванному, напичканному сковывающими уколами и безвинно презираемому – бояться каких-то там злых теток? Но, вспоминая уродливую физиономию Ойдоксии и «холодный жар», исходящий от пахнущей цветами и морем сестры Бландины, Вилли почему-то едва не впадал в панику. Он не сомневался, что каждая из них не моргнув глазом выполнит свои страшные обещания и подвергнет его несказанным мучениям, стоит ему допустить самую ничтожную оплошность или просто оказаться не там, где ему должно быть. История с лечебным отваром сестры Эдит лишь усугубила, как казалось Вилли, ненависть к нему со стороны других монашек, но он не решался просить ее не приносить ему больше чая, боясь ненароком обидеть единственного человека на свете, что отнесся к нему с добротой и участием. Доктор Шольц и комиссар полиции дядя Гарри тоже, конечно, были по-своему добры к осиротевшему сыну Кристофа Кая, но разве можно было сравнивать эту суровую, сдержанную мужскую доброту с нежным, заботливым вниманием грустноглазой, хрупкой сестры Эдит? А ее чудодейственный отвар?! Лишь благодаря ему Вилли мог теперь спать спокойно, не боясь проснуться изувеченным, с провалом в памяти, а то и вовсе не проснуться…
Обо всем этом парнишка размышлял, двигаясь в строю таких же, как он, оборванцев через «Центральную Америку» к их большой общей спальне. Обычно время, остававшееся до отбоя, заполнялось всякой скучной ерундой, пустыми спорами и препирательствами, но сегодня все будет иначе, ведь его ждет подарок!
От предвкушения развлечения Вилли заулыбался.
– В общем, так, – Бродяга перешел на шепот. – Сейчас мы впятером тихонько выскользнем отсюда и укроемся в нише, что возле двери в сушилку. Потом ты, Франци, проверишь, нет ли кого в «Центральной Америке», и подашь нам знак, если все будет чисто.
Карл повернулся к ничего не понимающему Вилли. Заметив «печать сомнения на его челе» (как сказала бы сестра Азария), он ободряюще похлопал новичка по плечу и озорно подмигнул ему:
– Да ты не паникуй, парень! Такой спектакль узришь сегодня! Правда, ребята?
Трое остальных участников заговора – всегда веселый Франци и близнецы Тим и Том – дружно закивали, боясь высказать свое одобрение в голос и привлечь тем самым внимание тех, кто не был посвящен в их планы. С Франци Вилли уже неоднократно болтал о том о сем и знал, что мальчишка он беззлобный, но взбалмошный, сначала наделает кучу глупостей, а потом задумается, нельзя ли было обойтись без них; с близнецами же он до сих пор знаком не был и даже не отличал их друг от друга. Кто-то, помнится, говорил ему, что мальчишки потеряли обоих родителей и долго жили под мостом где-то во Франкфурте, скрываясь от людских глаз и перекусав там всех собак, чтобы отвоевать себе место в теплой дыре, и что поодиночке они мало что значат, зато вместе – непобедимая сила. Поскольку к себе Вилли слово «непобедимый» ни с какого боку приладить не мог, он невольно стал уважать братьев за это их качество.
– Обычно в это время сестры не покидают Верхний замок, готовятся к повечерию, но все же никогда не знаешь, чего от них ждать! Сейчас Ойдоксия начищается перед молитвой, а через минуту, глядишь, она уже здесь, стоит перед тобой и вращает своими бельмами, как бешеная собака… Так что лучше перестраховаться.
Это объяснение Карл предназначал новичку, но отреагировал на него Франци:
– Э нет, любезный! Если бы все было так, как ты глаголишь, и все без исключения сестры сидели бы по своим кельям, то никакого сюрприза для Вилли не получилось бы!
Сказав это, Франци хотел заржать, но подзатыльник Карла пресек эту его попытку.
– Тише, дурень! Не то еще кто-нибудь привяжется! – прошипел он и обвел взглядом спальню, чтобы удостовериться, что остальные воспитанники заняты своими делами и привязываться к их маленькой компании не собираются.
– Ну, все, чего высиживать? Встаем!
«А неплохой он, в общем-то, парень, этот Бродяга, – подумал вдруг Вилли, направляясь к выходу из спальни вслед за Карлом, Франци и близнецами. – Ну, повыпендривался тогда перед ребятами, так ведь и извинился, можно сказать…»
Оказавшись в переходе, мальчишки прислушались и, не уловив посторонних звуков, один за другим скользнули в указанную их долговязым предводителем стенную нишу. Только лишь Франци, как было условлено, не нырнул следом, а отправился на разведку. Наивный Вилли и не подозревал тогда, что разведывать там было вовсе нечего, и задание лазутчик имел совсем другое…
Между тем сестра Магда, сняв измучившие ее за день монашеские одежды, обернула вокруг своего могучего торса огромный лоскут серой фланели, именуемый ею халатом, повесила на багровую бычью шею старое дырявое полотенце и, тяжело дыша после столь утомительных приготовлений, начала медленно спускаться по неосвещенной лестнице к холлу. До повечерия оставался еще целый час, а у Магды «по расписанию» выпал «банный день», как она по старой привычке называла свои нерегулярные походы в душ.
Сказать по правде, никакого расписания у страдающей ожирением и ленью престарелой монашки не было, и свои старые перси, морщинистую выю и запревшие чресла она намывала когда придется (лишь ее дряблых ланит колодезная вода касалась каждое утро, но исключительно по принуждению орденского устава). Однако же сегодня утром она твердо вознамерилась посетить душевую и даже поведала об этом двум-трем сестрам, дабы вновь не смалодушничать. Но, к несчастью Магды, копающийся в стороне со своей обувью Карл-Бродяга услышал ее речи, и в его голове возник великолепный план, обещающий дикую заваруху, а значит, и развлечение.
Привычно отсчитав двадцать три ступени, сестра Магда оказалась в небольшом холле, в котором раньше, должно быть, сидел привратник или дворецкий, а теперь не было ничего, кроме пыли да невыводимой паутины под потолком. Четыре двери холла – по одной на сторону – вели в другие части бывшей крепости: одна на лестницу, по которой только что спустилась сюда толстая монашка, вторая во двор, третья являлась выходом в «Центральную Америку», а последняя скрывала за собой небольшой коридорчик с подсобными помещениями и просторной душевой для датских ключниц. Стоит ли говорить, что воспитанникам вход сюда был заказан?
Сестра Магда потянула на себя эту самую, четвертую, дверь и мгновением позже скрылась в коридоре с подсобками, не заметив, что сквозь узкую щелку за ней из «Центральной Америки» наблюдает веселый карий глаз Франци, дожидающегося ее вот уже добрых десять минут. Подняв рычажок рубильника, Магда включила в душевой свет и протиснулась через небольшую дверцу в это царство воды и мыла. Помывочная монахинь, к слову сказать, имела вид гораздо более пристойный, чем у воспитанников: недавно отремонтированная, она блестела сталью труб и кранов, щетинилась мочалками, полнилась тазами и шайками и удивляла ровностью окрашенных в темно-зеленый цвет стен. Посередине душевой стояла добротная деревянная скамья – для шаек и гигиенических принадлежностей, а для одежды имелась настоящая гардеробная вешалка. Именно на ней сестра Магда и пристроила свой необъятный фланелевый халат, больше похожий на сари, да кое-что из исподнего. Вывернув кран, она подставила под разлетающийся из душевой лейки дождь тыльную сторону ладони и почти сразу переместила под горячие приятные струи всю свою немытую тушу (долго ждать Магде, в отличие от Вилли Кая, не пришлось, так как бойлерная находилась за стеной, всего в каком-то метре от душа).
В это время в маленький холл один за другим проскользнули пятеро воспитанников, один из которых до сих пор не понимал, что же интересного он может увидеть в одном из бесчисленных закоулков монастыря. Вилли был новичком в этой странной семье и понятия не имел, где именно моются петровиргинки и моются ли они вообще. Оглядевшись и не найдя в холле ничего, достойного внимания, он вопросительно посмотрел на Карла-Бродягу, напустившего на себя важный вид и раздававшего жестами приказы. Тот подмигнул новому подельнику – скоро, дескать, все поймешь – и осторожно открыл дверь в подсобный коридорчик. Пропустив вперед Тима и Тома, Карл махнул подбородком, и Вилли, который тут же шмыгнул вслед за близнецами, не увидел, как Бродяга сделал какой-то знак оставшемуся в холле Франци.
– Что мы тут делаем? – шепотом спросил ожидающий подарка новичок, после того как Карл вновь присоединился к нему и братьям. – И где Франци?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?