Текст книги "Первые слова. О предисловиях Ф. М. Достоевского"
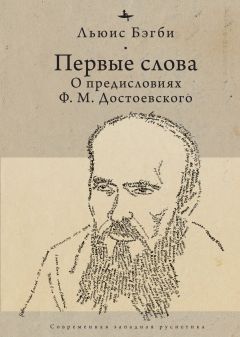
Автор книги: Льюис Бэгби
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Как мы видим, данное им первоначальное сравнение коренных сибиряков и успешных переселенцев из европейской России перешло в противопоставление двух видов чиновников – тех, что разрешили загадку жизни, и тех, что этого не сумели. Поскольку рассказчик понимает эту загадку в сугубо буржуазном духе, он считает тех, кто уезжает из Сибири, легкомысленными людьми, которые впали в меланхолию. Русское существительное, обозначающее меланхолию – «тоска», – обозначает также особое эмоциональное состояние, знакомое читателю как экзистенциальная форма одиночества и отчаяния, страстное желание оказаться в лучшем месте или в другом, высшем мире. Однако если развернуть эту логику в обратном направлении, суждения рассказчика об этих чиновниках-«неудачниках» сами по себе легкомысленны, поскольку он не замечает пагубности их приземленной системы ценностей, не говоря уже о незаконности их мотивов. Ирония Достоевского, и в этом случае построенная на игре корней слов, дает позиции рассказчика другую оценку. В особенности это заметно в структуре словаря, указывающей на насмешку. В данном рассказчиком отрицательном отзыве о недовольных Сибирью (тех, кто, если говорить напрямую, либо не желает брать взятки, либо не преуспевает в этом) содержится саркастический оттенок, направленный против позы превосходства, характерной для рассказчика. В русском языке предлог, неизменно сопутствующий глаголу «смеяться» или «издеваться», – «над». Предлог «над» указывает на более высокое положение субъекта осмеяния относительно его объекта в переносном пространственном значении. Таким образом, горизонтальная сфера (финансовая выгода), о которой с восторгом отзывается рассказчик, претерпевает переориентацию в вертикальном направлении. Те, кто живет в отдаленных сибирских городах, несмотря на свое материальное благополучие, находятся ниже тех, кто оттуда уезжает. Покидая Сибирь и «подсмеиваясь над нею», не укоренившиеся в ней чиновники оказываются с точки зрения морали в более высоком положении, чем те успешные бюрократы, которые в ней остаются.
Также предполагается, что те, кто уезжает из Сибири, спасаются, хотя и временно. Дело в том, что в корне выражения «возвратиться восвояси» заключается коннотация движения вверх через порог, переступив который, человек вновь становится самим собой. И наоборот. Русский глагол «возвратиться» состоит из церковнославянской по происхождению приставки «воз-», указывающей на движение вверх, и корня «-вращ-», указывающего на вращательное движение. Кроме того, этот корень тематически связан с идеей краев или границ, заключающейся в первом предложении предисловия. Достоевский, безусловно, имеет самое непосредственное отношение ко всем этим понятиям, как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова: темы цикличности жизни, перехода через пределы и переориентации или поворота, связанные с идеей трансцендентности, пронизывают значительную часть прозы Достоевского. Поэтому в словах о возвращении скрыта идея цикличности жизни, развивающейся по вертикальной и горизонтальной оси. Впрочем, те, что поднимаются, могут и пасть. Те, что возвращаются «восвояси», обновляются, они совершают восхождение вверх (приставка «воз-»), связанное с вращением, изменением и входом, но с точки зрения лингвистики их место назначения покрыто тайной. Дело в том, что наречие «восвояси» имеет пейоративный оттенок и употребляется тогда, когда кому-то настойчиво предлагают «возвращаться туда, откуда пришел». Рассказчик оценивает тех, кто возвращается из Сибири в европейскую Россию, отрицательно, однако в глаголе содержится намек на возможность чего-то вполне положительного. Здесь также низший порядок служит для того, чтобы являть языковые знаки и экзистенциальные символы возрождения и Духовного.
Для Достоевского проникновение в духовный мир через посредство земного существования является возвращением к позитивной человеческой сущности, которая, по его мнению, столь же присуща человеку, как и греховность. Возврат к своей более высокой с моральной точки зрения сути – это не что иное, как возврат к самому себе. Указание на это видение Достоевского содержится во втором значении выражения «вернуться восвояси». Несмотря на просторечное звучание и отрицательный смысл, наречие «восвояси», которое рассказчик по воле Достоевского употребляет в пренебрежительном смысле, предполагает возвращение к себе домой, поскольку приставка «во-» указывает на движение вовнутрь, а корень «-своя-» – на свою собственность, свое место или свою истинную сущность. Возврат к истокам определяет присущую человечеству возможность морального совершенствования. Этот возврат диаметрально противоположен библейскому грехопадению. Но это также неотъемлемая часть нашей жизни (которая априорно включает в себя и грех, и искупление). Опять в данном рассказчиком описании встречаются горизонтальная и вертикальная плоскости, и в их пересечении формируется наиболее серьезный и аутентичный образ человечества – образ, в котором слиты воедино наши противоречивые потенциалы. Вследствие этих противоречий, связанных с имманентно присущей роду человеческому изменчивостью, ни одно состояние нельзя считать вечным, если оно не включает в себя свою противоположность. Поэтому недовольные Сибирью чиновники спасаются благодаря возврату к своей истинной сущности. Но это лишь временное состояние, краткий миг в непрерывном цикле отпадения от истины, возврата к некоей своей истинной сущности и нового падения.
Циклу возврата и падения неотъемлемо присуще понятие покаяния. Упоминаемый рассказчиком обязательный срок службы недовольных чиновников в Сибири дает отсылку к сроку каторжных работ, который отбыл Горянчиков. Аналогичным образом, перед тем как удостоиться просветления, нужно некоторое время побыть в одиночестве, пережить отчаяние, скитаться в пустыне (или сибирской тайге), чтобы изжить мелкие желания и поверхностные соблазны материального существования. Достоевский выстраивает траекторию покаяния по горизонтальной оси. Отглагольное существительное «перевод» подразумевает движение через порог. Поэтому, когда срок заключения Горянчикова истекает, он переходит в город, где ведет образ жизни, на первый взгляд кажущийся нормальным. Однако он не возвращается в европейскую Россию, поскольку этого не позволяют условия приговора. И тем не менее он, очевидно, разрешил загадку жизни – не в том смысле, который вкладывает в это понятие рассказчик, а в понимании Достоевского. Таким образом, в случае Горянчикова движение в горизонтальной плоскости одновременно содержит в себе движение по вертикальной оси. Начав жить в добровольном одиночестве, Горянчиков перемещается из общества каторжников в общество нормальных людей (движение по горизонтали); при этом одновременно пробуждаясь и освобождаясь (движение по вертикали). При освобождении Горянчиков восклицает: «Экая славная минута!» [Достоевский 1972в: 232]. Это последние слова романа.
Однако с точки зрения издателя своих записок, он выглядит нелюдимом, который избегает общества себе подобных. Само собой разумеется, исходя из идеи слияния двух осей там, где издатель видит в Горянчикове отрицательную черту, мы должны ощущать «переход» на другой уровень существования. Ибо можно утверждать, что, несмотря на то, что Горянчиков избегает людей, ему не удается избежать возвышающего труда. Он учит детей, и значительная часть бумаг, обнаруженных издателем его записок, связана с этим занятием. Таким образом, на примере Горянчикова мы видим, что у нас есть другой путь, который можно пройти для возвращения к своей истинной сути. Если недовольные Сибирью чиновники уезжают оттуда ради временной передышки от прегрешений, Горянчиков остается здесь и обретает себя. Иными словами, переход от безблагодатности к благодати происходит внутри личности. Аналогичным образом, движение по горизонтали в повседневной жизни заключает в себе возможность для личности выразить себя в виде образа, как указано в тексте, и подняться вверх.
Хотя язык Достоевского указывает на дурную суть жизни в остроге и городе по соседству, этот же язык служит ее обновлению. Жизнь в сибирском городке может внезапно открыть путь как вверх, так и вниз. Именно об этом говорит рассказчик в своей заключительной фразе о чиновниках, которым тоска не позволяет прижиться в Сибири: «Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать» [Достоевский 1972в: 5].
Это слово отлично вписывается в приземленное описание рассказчика. Но его корневая структура соответствует и замыслам Достоевского, поскольку факт грехопадения человека заключает в себе возможность его спасения, возвращения тем или иным путем в состояние благодати (однокоренное с «блаженствовать» слово). Возрождение Горянчикова к новой жизни в сибирском остроге доказывает возможность нравственного обновления тех, кто живет в падших сибирских городах.
Ирония Достоевского, заключенная в глаголе «блаженствовать» (духовно и / или материально), далее усиливается в каждом последующем предложении введения к его роману. Но заключительные высказывания рассказчика, где Сибирь представляется с мирской точки зрения как утопическая земля изобилия, текущая молоком и медом, опровергаются тем, что этим изобилием последовательно злоупотребляют. Потакание своим чувственным желаниям ради них самих является одной из форм такого злоупотребления. Рассказчик пишет: «Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности» [Достоевский 1972в: 5–6].
Это описание нравственных барышень содержит отсылку к первой фразе рассказчика: здесь слово «край», обозначающее предел или границу, снова возвращается в текст в виде указания на крайнюю целомудренность или чистоту («до последней крайности»). С точки зрения морали в этом замечании о девичьем целомудрии содержится не меньше иронии, чем в рассказе о чиновниках, которые приезжают в Сибирь, будучи «прельщены» финансовыми льготами, а также в словах о «разрешении загадки жизни». Для Достоевского чрезмерное благополучие толкает неосторожных на самый край пропасти. Богатство ослепляет. Безопасность, являющаяся следствием любого материального благополучия, притупляет способность видеть альтернативу грубому материализму. Кажется, что Достоевский полагает, будто люди, оказавшись в раю, не в состоянии не злоупотреблять этим. Поэтому сибирские барышни у него «нравственны до последней крайности»[49]49
Горянчиков высказывает аналогичную мысль о краях и крайностях в отношении каторжников: «Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить» [Достоевский 1972в: 14]. Протагонисты Достоевского испытывают все пределы, края и крайности на прочность. Например, Н. И. Бердяев пишет о «Преступлении и наказании»: «Раскольников испытывает границы собственной природы, человеческой природы вообще» [Бердяев 1923: 96]. Сам Достоевский сравнивал Раскольникова с каторжниками из «Мертвого дома» [Туниманов 1980: 7].
[Закрыть]. Иными словами, они стоят на краю пропасти и готовы в любой момент перешагнуть через этот край и впасть в распущенность и блуд, на что Достоевский намекает в заключительных гиперболах первого абзаца введения:
Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать… Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться [Достоевский 1972в: 5–6].
Велеречивые похвалы рассказчика, в которых упор делается на обладание и полезность, а не на осторожность и умеренность, свидетельствуют о том самом состоянии, которое ведет к бесчестью. Если эта земля и ее жители благословенны, они в то же время прокляты, поскольку имеют те иллюзии, которые сопутствуют материальному благополучию. Недаром в самых корнях русского слова «благословенный» – «благ-», который, как мы видим, балансирует на грани священного и профанного, и «слов-», два главных предмета забот моралиста Достоевского. В написанных от лица рассказчика последних фразах первого абзаца Достоевский подводит итог инверсиям текста: библейское «и слово стало плотью» в устах рассказчика превращается в «и плоть стала словами». Потерянный рай мещанского мира, его недостижимая земля обетованная не может быть обретена в пространстве и времени рассказчика, хотя он и настаивает на обратном. Ее удается обрести лишь тогда, когда люди впадают в заблуждение (на взгляд рассказчика), отпадают от трансцендентального состояния и ошибочно полагают, будто блистающий мир – это лишь мир благосостояния.
Следует заметить, что подрывающий устои голос Достоевского не слышен, когда рассказчик описывает свой рай. Более того, было бы неправильно недооценивать его голос, отдавая предпочтение скрытой переоценке ценностей, которую производит Достоевский. Достоевский желает, чтобы лежащее на поверхности высказывание и его скрытые смыслы читались как сосуществующие вариации на одну и ту же тему, состоящую из голосов рассказчика и автора. Если один из них понизить в статусе, то объединенный образ человечества, синтезированный ими обоими, исчезнет. Поэтому отчетливо понимать горизонтально организованный мир рассказчика так же важно, как и видеть имеющиеся в нем возможности движения по вертикали. Мы просто не сможем получить достоверный образ человечества, если упустим из виду свои материальные или духовные сущности. В данном Достоевским описании подразумевается непрерывное движение из одной плоскости существования в другую (и обратно). Каждая ось представляет собой зеркальное отражение возможностей другой. Впасть в грех и заблуждение – необходимое предварительное условие для любого возможного дальнейшего духовного возрождения. С другой стороны, если мы находимся в состоянии благодати, в нашей человеческой слабости кроется опасность нового грехопадения. По этой причине для рассказчика открыт путь к спасению. А нравственные до последней крайности барышни могут преступить эту крайность чистоты и пасть, как дичь, которая сама натыкается на охотника.
Будучи центральным образом введения, Горянчиков находится где-то между этими двумя полюсами; он некогда пал, был затем освобожден и теперь как его ближние, так и его собственный опыт постоянно напоминают ему о зыбкости человеческого существования; он понимает, что в любую минуту своей жизни он может и пасть, и спастись. Существовать – значит пережить ряд изменений, и тот образ человечества, который Достоевский пытается описать в основном тексте «Записок из Мертвого дома», включает в себя это движение, как свое лингвистическое основание и наиболее важное открытие.
Если существует необходимость предостеречь от замены либо скрытого, либо открытого голоса своей противоположностью в первом абзаце введения к «Запискам», не менее важно оценить то, что буквализация корневых смыслов, содержащихся в речи рассказчика, ни в коей мере не соответствует той «реальности», запечатленной прозаическим и банальным языком, который он использует. Хотя эти две идеи невозможно приравнять друг к другу на уровне повседневной речи с ассоциирующимся с ней феноменологическим порядком, следует понимать, что Достоевский, как и любой великий писатель, склонен переходить барьеры повседневного языка, чтобы постигнуть его скрытый потенциал. Как показывают первые высказывания рассказчика, способность языка Достоевского разбивать собственную скорлупу и преодолевать свои ограничения отражена в остальной части текста. В конечном счете, Достоевский желает одновременного прочтения лежащего на поверхности высказывания и его глубинных смыслов как равных половин единого, нераздельного образа человечества, представленного в первородной двойственности. Возможно, этот образ не выдержит испытания временем, но он принадлежит Достоевскому. В поисках средства выражения этой двойственности в качестве источника просветления берутся корневые сущности языка, предполагающие обновленный, деавтоматизированный комплекс референтов. В связи с этой двойственностью важно вспомнить, что пишет Горянчиков о том, как он читал первые книги, которые ему было позволено иметь, когда срок его заключения подходил к концу. Он обращал внимание и на «зерно», и на «мякину», ставя во главу угла чувство, а не одну лишь мысль; пластичность обостренно восприимчивого разума, а не хрупкую поверхность дискурсивной логики; и способность языка выходить за пределы обычной речи и быть источником подлинного озарения.
Введение к «Запискам из Мертвого дома» указывает на совершенно новое понимание Достоевским того, насколько содержательным может быть введение, какой значительный вклад оно может сделать в содержание основного произведения. Через посредство этого вступления он учит нас, как нужно читать его беспокойный роман. Но главное – в языке заурядного рассказчика возникает философия человечества, которая бросает вызов двум аудиториям: поколению 1840-х годов, идеализм которого мешал понять, кем мы являемся как биологический вид; и молодежи 1850-1860-х годов, которая настаивала на том, что существует исключительно материальный, феноменальный мир. Достоевский счел это мнение не только ошибочным, но и страдающим опасной нехваткой реализма. Для Достоевского жизнь является бесконечным путем паломника в поисках самого себя и некоей незыблемой, окончательной истины, истины, в которой чередующиеся падения и возрождения человечества являются составными частями.
Можно сказать, что Достоевскому больше ни разу не удалось подняться во введениях на уровень, достигнутый в «Записках из Мертвого дома». С другой стороны, можно утверждать, что он никогда больше не вернулся к скованной условностями пресности, характерной для вступления к «Селу Степанчикову». Если его написанные в дальнейшем вступления не имеют такой же философской глубины, они тем не менее имеют отношение к основным проблемам творчества Достоевского. Помня об этом, мы теперь обращаемся к введениям к произведениям Достоевского 1860-х годов, времени, когда он полемизировал с молодым поколением радикальных мыслителей и писателей, чьи философские концепции он считал так же преисполненными заблуждений, как и мещанские взгляды рассказчика введения к «Запискам из Мертвого дома».
Глава 3
Игра с авторскими идентичностями
Для Достоевского это были захватывающие годы. Его «Записки из Мертвого дома» имели некоторый успех, чего ему так не хватало. Его снова заметили критики и непрерывно расширяющаяся аудитория читателей из различных слоев общества. Однако для того, чтобы вернуть себе популярность, Достоевскому было недостаточно только создавать художественные тексты. В письмах, написанных в 1840-х годах и из ссылки, Достоевский обсуждал со своим братом Михаилом возможность заняться издательской деятельностью. Еще до того, как Достоевский вернулся из Сибири, Михаил подал в инстанции прошение о разрешении издавать литературный журнал. Это разрешение было дано в 1858 году. На следующий год Федор и Михаил вместе осуществили свою мечту и открыли «толстый» журнал «Время» (1861–1863). Он был закрыт цензурой, но следом вышел журнал «Эпоха» (1864–1865). На страницах этих журналов Достоевский публиковал свои произведения. Именно здесь впервые увидели свет «Записки из Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», рассказы и публицистический очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях», к анализу которого мы вскоре приступим.
Помимо публикации художественной прозы и мемуаров, «Время» дало Достоевскому возможность вступить в актуальную литературную полемику, издавать новых авторов (например, Н. С. Лескова) и взглянуть на свое творчество с совершенно новой точки зрения – с точки зрения редактора. Для братьев Достоевских журнал был в первую очередь не столько способом, как сказал бы Рудый Панько, «высунуть нос из своего захолустья в большой свет», сколько коммерческим предприятием, с помощью которого они пытались поправить свои финансовые дела, причем в более стесненных обстоятельствах находился Федор[50]50
Во время ссылки Федора Михаил, к немалому смятению брата, купил табачную фабрику. О политической и общественной ориентации журнала «Время» см. [Гроссман 1962: 212–248] и [Frank 1986: 133–348].
[Закрыть]. Он получал как гонорар за свои публикации, так и долю дохода от продажи журнала.
Зимой 1863 года Достоевский опубликовал наблюдения о своей недавней (первой) поездке в Европу во «Времени» (которое вскоре было закрыто). Он начал писать свои заметки в конце 1862 года и завершил их в январе 1863-го [Достоевский 1972в: 357]. На первый взгляд, с точки зрения публики, они не содержали почти ничего нового. Например, Толстой опубликовал свои путевые заметки «Люцерн» еще в 1857 году, и на фоне их анти-европейской направленности отрицательная оценка Достоевским послереволюционной эпохи в Европе едва ли выглядела достойной внимания.
Жанр путевых заметок ведет свою родословную от XVIII столетия. Не только современники Достоевского, но и многие из его предшественников в первой половине XIX века считали необходимым рассказывать в печати о своих путешествиях – не только в Европу, но и в южную Азию, на Кавказ и в другие чужедальние края. Будучи публицистическим произведением, «Зимние заметки» Достоевского не укладываются в узкую тематику настоящего исследования, но дискурс их предисловия представляет интерес с точки зрения его сравнения с художественной прозой. Поэтому мы вкратце остановимся на нем. Это исследование будет нам полезно впоследствии, когда мы будем рассматривать «Дневник писателя» Достоевского и причины, по которым он пользовался (и не пользовался) предисловиями в своем творчестве.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































