Текст книги "Первые слова. О предисловиях Ф. М. Достоевского"
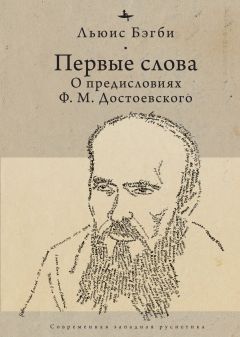
Автор книги: Льюис Бэгби
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 2
Первые произведения Достоевского, написанные после ссылки
Достоевскому было позволено вернуться в европейскую часть России в 1859 году, через десять лет после его ареста. К этому времени он отбыл четыре года на каторге в Западной Сибири (Омск), затем четыре года на военной службе в Семипалатинске и еще чуть больше года он хлопотал о возвращении в Петербург после выхода в отставку. По возвращении Достоевский вошел в литературный мир, который очень сильно изменился по сравнению с известным ему в 1840-х годах. Но Достоевскому не терпелось занять то место на авансцене литературного мира, которое принадлежало ему после издания его первых двух прозаических произведений – «Бедные люди» (1846) и «Двойник» (1846). Несколько последующих публикаций озадачили и разочаровали читателей, первоначально принявших его с восторгом. Белинский, который приветствовал литературный дебют Достоевского еще до того, как его произведения вышли в свет, впоследствии к нему охладел. Достоевский разошелся с Белинским во мнениях незадолго до того, как он был арестован за крамолу, – прежде всего относительно назначения искусства, но, кроме того, он был не согласен с данной Белинским оценкой своих произведений, опубликованных сразу же после «Бедных людей» и «Двойника»: «Господина Прохарчина» (1846), «Романа в девяти письмах» (1847), «Хозяйки» (1847), «Ползункова» (1848), «Слабого сердца» (1848), «Чужой жены и мужа под кроватью» (1848), «Честного вора» (1848), «Елки и свадьбы» (1848) и «Белых ночей» (1848). Ни одно из этих произведений не было встречено критикой благосклонно. По правде говоря, даже «Двойник» многих озадачил. Возврат на литературную сцену в 1859 году представлялся для Достоевского вдвойне сложным. Во-первых, он не был знаком с литературной ситуацией лично – только через посредство журналистов и тех, с кем он переписывался. Он находился в роли догоняющего. Кроме того, у критиков сложилось мнение, что, возможно, он исписался еще в 1846 году.
Если в 1840-х годах Достоевский избегал вступлений, то теперь он обратился к этому приему. Это не значит, что он увидел в них волшебное средство для завоевания симпатий целевой аудитории. Такое предположение было бы сильным преувеличением как ограниченных функций, так и эстетического потенциала этого художественного средства. Более вероятно, что Достоевский стал писать предисловия в силу понимания о себе как о художнике, пришедшего за годы размышлений как над своими неудачами, так и над своими возможностями. Он предавался этим интроспекциям как наедине с собой, лежа на нарах в каторжном бараке, так и в переписке со своим братом Михаилом. Его писательским достижением явился тот угол зрения, который он смог представить в своих рассказах и романах; в том, что повествование в них велось от лица персонажей, а не какого-то (якобы) всеведущего автора. Говоря голосами своих протагонистов – записанными иногда напрямую, в виде писем Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой в «Бедных людях», а иногда опосредованно, как в «Двойнике», где происходящее воспринимается глазами Якова Голядкина, – Достоевский швыряет нас в водоворот их тщетных надежд и разбитых мечтаний. Одно из его выдающихся художественных достоинств заключалось в создании нарративных форм, которые изображают внутреннее сознание не благодаря всеведению, а средствами иногда скудных интеллектуальных способностей его персонажей, их явной субъективности, эмоциональной нестабильности, внутренней борьбы и страстного стремления познать себя и мир.
Достоевский подчеркивает это достоинство, используя его в своих предисловиях. В первых же фразах он формализует процесс повествования «изнутри», демонстрируя читателям с самого начала, что они имеют дело с Другим, который и ведет повествование. В двух из трех первых романов, опубликованных Достоевским после ссылки – «Селе Степанчикове и его обитателях» (1859) и «Записках из Мертвого дома» (1860–1862), – он эффективно использует предисловия1. Эти два вступления сразу уведомляют читателя о том, что с ним говорит не альтер эго Достоевского, а некто иной. Кроме того, этот голос возникает из фикционального дискурса, а не из источника, окопавшегося на абстрактной «ничейной земле» между личностью автора и протагонистом. Поскольку Достоевский в большой мере избегает обычно принятого у авторов всеведения, повествователь/рассказчик его вступлений не обладает тайным знанием, необходимым для того, чтобы составить более или менее полное и всеобъемлющее представление о действии романа. Его рассказчикам присуща ненадежность. В «Селе Степанчикове» и «Записках из Мертвого дома» Достоевский экспериментирует с двумя из них.
I. «Село Степанчиково и его обитатели»
В «Селе Степанчикове» рассказчиком является действующее лицо основного повествования, хотя и второстепенное. Его «Вступление» составляет всю первую главу романа. С точки зрения времени действия на нем поставлена та же временная метка, как и на «Заключении» романа, которое, как и вступление, занимает целую главу (Часть вторая, глава VI). Между этими двумя рамочными точками происходит формирование характеров персонажей и развитие сюжета романа. Все действие романа (остальные шестнадцать глав) происходит за два дня. В тече– [28]28
За исключением «Униженных и оскорбленных» (1861).
[Закрыть] ние этого срока сюжет разворачивается, достигает кульминации, за которой следует комическая развязка, в ходе которой восстанавливается (смешной) статус-кво. Иными словами, как предисловие, так и заключение совершенно условны. Возможность вкладывать в рамочные нарративы скрытое содержание не реализована ни в коей мере[29]29
«Третья идея» является основной темой исследования [Isenberg 1993]. Скрытое повествование представляет собой синтез тем, представленных в рамочном и вставном повествовании. Мы обратимся к тезисам Айзенберга при разборе «Бесов».
[Закрыть]. Впрочем, поскольку большинство персонажей романа являются мишенью насмешек Достоевского, нет смысла раскрывать какое-то скрытое содержание, кроме того, что уже было подвергнуто осмеянию в основном повествовании.
Эти особенности «Вступления» свидетельствуют о том, насколько Достоевский полагался на испытанные повествовательные приемы при своем возвращении к литературному творчеству. Ни рассказчик, ведущий повествование от первого лица, ни рамочная структура не являлись открытиями в литературе. Хотя в эпоху Достоевского (и задолго до нее) эти элементы хорошо себя зарекомендовали, они никоим образом не могли гарантировать того, чего он желал для своего романа более всего: одобрения критиков. По всей вероятности, заурядность этого сочинения обрекала его на судьбу хуже провала – оно не было замечено. Перед публикацией «Села Степанчикова» Достоевский писал брату Михаилу со смешанным чувством тревоги и волнения:
Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, может быть, растянутость; но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства и что это лучшее мое произведение. Я писал его два года (с перерывом в средине «Дядюшкина сна»). Начало и средина обделаны, конец писан наскоро. Но тут положил я мою душу, мою плоть и кровь… если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нем основаны все лучшие надежды мои и, главное, упрочение моего литературного имени [Достоевский 1985: 326].
Даже после того, как несколько издателей отвергли его роман с порога, Достоевский не терял надежды. В августе того же года он писал:
…я уверен, что в моем романе есть очень много гадкого и слабого. Но я уверен – хоть зарежь меня! – что есть и прекрасные вещи. Они из души вылились. Есть сцены высокого комизма, сцены, под которыми сейчас же подписался бы Гоголь [Достоевский 1985: 334].
«Степанчиково» является фарсом. Кроме того, это сатира, высмеивающая «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя (1846), которые сами по себе крайне неудачны[30]30
См. [Sobel 1981]; [Zholkovsky 1992: 172–184]. Ср. очень подробное, даже трогательное прочтение того же текста в [Fanger 1979: 209–222].
[Закрыть]. В «Степанчикове» очень мало «высокого» комизма, хотя сам Достоевский был уверен в обратном. Перед нами скорее предстает нечто еще более фарсовое, даже примитивное. Сомнительно, чтобы Гоголь мог подписаться под какой-либо частью этого романа – и не только потому, что в нем он выставлен к позорному столбу. Дело в отсутствии важного элемента гоголевского юмора – того, что возвышает нас и зачастую уравновешивает более низкие элементы в его юморе[31]31
См. [Slonimsky 1974: 323–374].
[Закрыть]. Тем не менее «Вступление» действительно позволяет Достоевскому в полной мере использовать обозначенную выше сильную сторону его стиля повествования: зыбкое повествование от первого лица, которое включает два временных измерения – время, когда происходят описанные в повествовании события, и время, когда рассказчик впоследствии записывает свое повествование, глядя на описываемые им события со стороны[32]32
Такую же композицию имеют «Бесы» с их «Я-рассказчик» и «Я-свидетель».
[Закрыть].
Предисловие Достоевского надлежащим образом уведомляет нас об этой сложности и сразу же дает нам представление о способностях рассказчика, оно никоим образом не подготавливает нас к однообразной, затянутой и утомительной мыльной опере, которой фактически является «Степанчиково». Несмотря на героические попытки критиков найти в этом творении какую-то эстетическую ценность, «Степанчиково» – не тот повествовательный корабль, на борту которого хочется надолго задерживаться[33]33
См. например, [Frank 1983: 297–304]; [Avsey 2005: 153–172]. Как полагают эти авторы, ценность этого текста в большой мере заключается в том, что он является предвестником главных тем последующего творчества Достоевского. Ср. [Vitalich 2009: 203–218].
[Закрыть]. По сути, это не повествование, а серия сцен, в которой одни и те же приемы (например, обмен ролями) повторяются ad nauseam. Говоря словами Гэри Сола Морсона, в «Степанчикове» отсутствует черта, которую мы связываем с творчеством Достоевского, а именно «повествовательность»[34]34
[Morson 2013: 33–53]. Как считает Морсон, чтобы обладать «повествовательностью», текст должен сочетать в себе ощущение случайности, процесс, эффект присутствия и открытое время. «Степанчиково» не обладает ни одной из этих черт.
[Закрыть].
Как мы увидели, Достоевский называет предисловие к «Степанчикову» «вступлением» – не самое обычное обозначение среди разнообразных приблизительных синонимов, за использованием которых у Достоевского в течение последующих двадцати лет мы будем наблюдать, но вполне применимое в России. Важно заметить, что это обозначение принадлежит не рассказчику, который называет вступление «моим предисловием», а имплицитному автору [Достоевский, 1972: 18]. Используя два разных названия для вступления, Достоевский желает отделить имплицитного автора от рассказчика и провести грань между романом, написанным автором, и текстом, написанным от лица рассказчика. Еще одним признаком желания Достоевского разделить эти два уровня является то, что он заставляет своего рассказчика определить жанр повествования:
В заключение этой главы (Вступления. – Л. Б.) позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде (протагонисту, полковнику Ростаневу. – Л. Б.) и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом (Опискиным, комическим злодеем и тираном, живущим в усадьбе Ростанева. – Л. Б.) и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу [Достоевский 19726: 18].
Заметьте разнообразие обозначений, которые Достоевский использует, называя свой текст. Повесть Достоевского, которую он в письмах называет «комическим романом», для его повествователя «рассказ»[35]35
Цит. по [Тынянов 2002: 320].
[Закрыть]. Различия между этими жанрами имеют значение. Они указывают на то, что Достоевскому было необходимо отделить себя от рассказчика, поскольку его замысел заключался в том, чтобы одновременно высмеять персонажей своей повести и принизить ее рассказчика. Однако, как давно доказал Тынянов [Тынянов 2002: 320–339], реальной мишенью сатиры Достоевского является Гоголь и его злосчастные «Выбранные места…».
Во «Вступлении» Сергей, рассказчик Достоевского, излагает свою историю с некоторым смущением, будучи одновременно свидетелем множества водевильных перипетий сюжета и второстепенным участником этих событий. Он зачастую описывает свою эмоциональную реакцию на происходящее. И рассказывает, как вступается за своего дядю полковника Ростанева, чтобы защитить его от нападок матери и то заискивающего перед ним, то грубящего ему «серого кардинала» Опискина. Например, в своем вступлении рассказчик замечает:
Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя – объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю [Достоевский 19726: 7].
Таким образом, рассказчик повествует о происходящем со своей точки зрения (как будто при таком сумасшедшем темпе развития событий в этом есть необходимость) и дает пояснения по вопросам, которые даже клюющие носом читатели могут решить самостоятельно. Мы, разумеется, вынуждены становиться на точку зрения рассказчика, но, если мы во всем будем следовать ему, это будет весьма нелестно свидетельствовать о наших способностях.
В некоторых случаях мы должны дистанцироваться от рассказчика – например, тогда, когда он объясняет нам то, что мы уже поняли самостоятельно. Читатели могут согласиться с рассказчиком в том, что касается этики, труднее согласиться с его логикой. Чтобы исправить этот недостаток – а это явно слабое место в замысле произведения, – Достоевский заставляет своего рассказчика объяснить неадекватное поведение его юностью. Например, когда Сергей Александрович принимает предложение своего дядюшки жениться на живущей в его семье гувернантке, он с восторгом хватается за эту возможность, хотя даже ни разу не видел эту девушку.
Я решился… осчастливить несчастную <…> девушку предложением руки моей и проч, и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов [Достоевский 19726: 19].
Рассказчик явно ведет повествование о прошедших событиях, хотя сколько времени прошло – узнать из текста невозможно. Но дело не только и не столько в этом. Раздражает неубедительность мотивировки Достоевского, построенной на якобы легковерии рассказчика. Достоверность никого не интересует, особенно в фарсе. Но в 1859 году Достоевский требует слишком большого терпения от читателей. По ходу повествования Достоевский неоднократно совершает эти и подобные концептуальные ошибки. Они становятся причиной провала его повести.
Предполагается, что мы должны видеть недостатки или ограниченность рассказчика Сергея Александровича глазами Достоевского[36]36
О фамилии рассказчика ничего не говорится. Таким образом, автору удается сохранить в тайне целую сеть семейных и родственных отношений. Полковник Ростанев приходится ему дядей. Это все, что нам точно известно. Трудно определить, в какой степени родства рассказчик состоит с семейством Ростанева, обитающим в Степанчикове. Однако Сергей не приходится внуком матери Ростанева; следовательно, тот приходится молодому человеку дядей через покойную жену полковника. Это также делает отношения двоюродных родственников в тексте двусмысленными. Все это – тонкости, которые, по зрелом размышлении, ничего не объясняют; полагаю, Достоевский считал, что это смешно само по себе.
[Закрыть]. Кроме того, во вступлении Сергея нас просят видеть литературную ситуацию, какой она сложилась к концу 1850-х годов, глазами Достоевского. К сожалению, его рассуждение построено на переставшем действовать литературном механизме 1840-х, когда Достоевский был в курсе событий. То, что он пытается скрыть этот дефект, перенеся время действия своей повести на десятилетие назад, не идет ему на пользу. Однако, как мы видели в нашем анализе предисловий до выхода Достоевского на литературную сцену, отчасти он устами своего рассказчика высказывает собственное беспокойство, связанное с возвращением на нее.
…я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича – разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч, и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса[37]37
Брамбеус – псевдоним Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858), редактора, издателя, критика и писателя. Его литературную биографию см. [Pedrotti 1965], а анализ его вклада в русскую журналистику см. [Frazier 2007].
[Закрыть]. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений [Достоевский 19726: 12].
С экстралитературной точки зрения дело выглядит так, что последняя фраза Достоевского бьет по нему же самому Мы помним, что в юности Достоевский после публикации восторженно встреченных «Бедных людей» впал в аналогичную хвастливость [Frank 1986: 159–171]. Высказывание рассказчика о Фоме Фомиче выглядит как скрытая критика Достоевским самого себя[38]38
Достоевский зачастую вступал в своих произведениях в металитературные дискуссии, начиная с «Бедных людей».
[Закрыть]. Прямые отсылки к Гоголю, возможно, даже демонстрируют обеспокоенность Достоевского в открытую:
Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества. Все это, разумеется, обольстило дядю [Достоевский 19726: 13].
В «Селе Степанчикове» рассказчик несколько раз напрямую цитирует гоголевские «Выбранные места…». В первый раз это происходит во вступлении. Его устами говорит сам Достоевский, который указывает на мишень своего фарсового нарратива, чтобы провести черту между собой и одним из наиболее значительных образцов, на которые он ориентировался в ранний период своего творчества[39]39
О том, насколько часто такие скрытые цитаты встречаются в тексте «Села Степанчикова», см. часть II вышеупомянутой работы Тынянова [Тынянов 2002: 320–339]. Ср. [Pervushin 1972: 87–91].
[Закрыть].
Однако в том, что касается эстетики текста, желторотый рассказчик Достоевского застревает на нейтральной полосе риторической двусмысленности. Мы, читатели, полагаемся на него как на источник надежной информации, и в принципе он исправно выполняет эту функцию. Однако иногда юность ему мешает. Например, не лезет ни в какие ворота то, что он без колебаний бросается жениться на гувернантке детей его дяди – причем, как ни печально, это ошибочное решение является завязкой всего повествования. Если бы он сразу счел дядино предложение неимоверно глупым, он бы не поехал к нему в поместье и не увидел своими глазами весь этот бедлам запутанных отношений. Ему было бы не о чем рассказывать. А так завязка повести зависит от совершенно невероятной ситуации. Достоевский старается, чтобы в реакции рассказчика на абсурдное предложение дяди читатели увидели больше, чем юный энтузиазм, – безрассудную импульсивность. То, что Сергей позднее осознает свою глупость, не влияет на мотивирующий фактор повести. Не оказывает это положительного влияния и на отношение читателя к рассказчику.
В повести Достоевского много ошибочных авторских решений, но нам вряд ли необходимо анализировать их все. Важно лишь заметить, что они очевидны уже во вступлении. Риторические приемы неправильно используются. Неправдоподобность мотивации ослабляет завязку фарса. А сатире наносят вред примитивные фарсовые приемы с упоминанием телесного низа. В связи с этим последним следует заметить в качестве примера, что фамилия Фомы Фомича Опискина содержит отсылку к принципу телесного низа в карнавализации, который Бахтин так тщательно исследовал в творчестве Достоевского[40]40
[Bakhtin 1984: 101–180]. Об общепринятом значении фамилии Опискина (от «описка») см. Zholkovsky [1992, 173].
[Закрыть].
Мы наталкиваемся на (дис-)функции интимных частей организма сначала в связи с фамилией слуги полковника Ростанева – Видоплясов (нелепая фамилия, выдуманная Достоевским). Видоплясов желает поменять фамилию, чтобы избежать дальнейших насмешек над собой. Но он выбирает взамен не менее странные фамилии. Люди насмехаются над любым его выбором, рифмуя эту новую фамилию шутливым, глупым или принижающим образом. Когда Видоплясов делает последнюю попытку и выбирает себе фамилию Танцев, смешная ситуация усугубляется, поскольку существенного изменения смысла фамилии не происходит. Но и на эту фамилию находят такую рифму, про которую он говорит Ростаневу и рассказчику, что ее «и сказать нельзя» [Достоевский 19726: 105]. Ни рассказчик, ни Достоевский не высказывают эту рифму вслух. Но ее легко предположить – «Засранцев», форма родительного падежа множественного числа от «засранец», отглагольного существительного, производного от «засраться», т. е. «непроизвольно испражниться» или «испражниться в штаны». Отсюда остается лишь один маленький шажок до фамилии Опискин и смысла грубой шутки Достоевского. На самом деле для того, чтобы обнажить эту смысловую связь, достаточно сдвинуть ударение на один слог. Производя фамилию Фомы Фомича от слова «описаться», Достоевский высмеивает его литературные претензии. Но если сдвинуть ударение со второго слога на первый, получается «описаться», т. е. «обмочиться». Это самый низкий уровень юмора в «Селе Степанчикове». Как же Достоевский так низко пал?
Отчасти проблема этого текста, кроме его чрезмерной фарсовости, заключается в том, что его автор недооценил свою аудиторию. Джозеф Франк, помимо прочего, замечает, что написание повести из провинциальной жизни в водевильном духе в то время, когда в России назревали перемены, чреватые грандиозными последствиями для народа, едва ли можно считать своевременным[41]41
До освобождения крепостных крестьян оставалось лишь два года. Интеллигенция едва ли могла терпимо отнестись к произведению, тематика которого была настолько далека от подготовки к этому событию. Кроме того,
[Закрыть]. Однако я полагаю, что Достоевский избегал современных проблем не только от недостатка исторического чутья. Достоевский просто плохо представлял себе свою аудиторию.
Замысел «Села Степанчикова» сложился у Достоевского на каторге, и он продолжал обдумывать его в течение всего времени своей военной службы и хлопот о возвращении в Петербург. Он работал над этой повестью в 1856–1858 годах. Только в последний период ссылки он мог получить представление о новых лицах на литературной сцене, их произведениях, актуальных вопросах современности и повороте к постромантическим течениям в западной философии – позитивизму, материализму и утилитаризму, – а также научной революции, в частности теории эволюции Дарвина, которую тогда, как и теперь, зачастую неверно применяли к общественным, экономическим и политическим явлениям. То, как все это повлияло на искусство, Достоевскому еще предстояло понять.
Он судил о читательской аудитории либо по воспоминаниям 1840-х годов, либо по более свежим впечатлениям, вынесенным с каторги. В «Записках из Мертвого дома» целая глава посвящена театральному представлению, поставленному и разыгранному каторжниками. В этой главе под названием «Представление» рассказчик Горянчиков повествует, какая близкая взаимосвязь существовала там между текстом и аудиторией. Сначала он описывает напряженное ожидание аудитории:
…актеры взяли все на себя, так что все мы, остальные, и не знали: в каком положении дело? что именно делается? даже хорошенько не знали, что будет представляться [Достоевский 1972в: 116].
Таким образом, увиденное на сцене стало для аудитории полным сюрпризом. Благодаря этому каторжники оказались идеальной аудиторией, которую представление радовало само в своей повести Достоевский, по-видимому, настаивал на сохранении старых норм взаимоотношений между хозяевами и слугами, что в то время едва ли было популярной позицией. по себе. Когда дело доходит до спектакля, они реагируют на каждую сцену, жест, поворот сюжета, танец, пантомиму, скетч и фарсовую шутку в полном соответствии с намерениями актеров. Аудитория жадно поглощает все это, сдабривая восторженным хохотом. Горянчиков замечает: «Одним словом, пьеса кончилась к самому полному и всеобщему удовольствию. Критики не было, да и быть не могло» [Достоевский 1972в: 125]. Затем исполняется следующий номер – отрывок из альковной комедии. И снова реакция зрителей полностью соответствует ожиданиям актеров: «Восторг зрителей беспредельный!., все хохочут, все в восторге…» [Достоевский 1972в: 127].
Последний акт состоит из нескольких пантомим, исполненных под зажигательную народную музыку: «Это камаринская во всем своем размахе, и, право, было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас в остроге» [Достоевский 1972в: 128].
Даже рассказчик, образованный человек, получает от фарсов некоторое удовольствие. Эта аудитория настолько чужда скептицизма, что она более чем готова смотреть сквозь пальцы на вопиющие недостатки:
Замечу, что наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, чем видите глазами. Дело в том, что…зрители невзыскательны и соглашаются дополнять воображением действительность, тем более что арестанты к тому очень способны [Достоевский 1972в: 128].
«Село Степанчиково» – это, по сути, длинный ряд фарсов вроде тех, что смотрели в своем театре каторжники. Возможно, первоначально Достоевский предполагал написать на этот сюжет не повесть, а пьесу. Реакция петербургской печати на его произведение, аналогичная реакции каторжников на любительское театральное представление, его бы необыкновенно обрадовала. Однако на самом деле и публика и – что самое обидное – критики встретили «Село Степанчиково» молчанием. Достоевский совершенно неправильно оценил свою аудиторию. Предположив, что читатели отреагируют на фиглярство «Степанчикова» с той же радостной «детской» непосредственностью, что и его соседи по нарам, Достоевский лишь показал, насколько он отстал от литературной жизни[42]42
Эпитеты, которыми Горянчиков чаще всего описывает реакцию каторжников на спектакль, – «детская», «ребяческая»; он также использует однокоренные сравнения и метонимы [Достоевский 1972в: 81, 118, 120, 122, 123, 125, 130]. Еще об использовании Достоевским водевильных приемов в произведениях, написанных до ссылки, см. [Fusso 2015: 61–92].
[Закрыть].
Провал «Села Степанчикова» не обескуражил Достоевского. Он решительно двигался вперед. И сделав новый шаг, он расстался со стандартным предисловием, написанным от первого лица автора основного текста. Он никогда больше не вернется к этому виду предисловий (или к заголовку «Вступление»). Уязвленный неуспехом своей повести, он попытался воспользоваться интересом общества к своему возвращению из ссылки и неустанно трудился над «Записками из Мертвого дома» – третьим изданным после ссылки романом, замысел которого у него созрел еще в 1854 году [Достоевский 1972в: 275]. В нем он обратился к освященной традицией форме предисловия, которую мы встречаем в пушкинских «Повестях Белкина» и «Герое нашего времени» Лермонтова, – форме аллографического предисловия, которую ранее, еще в эпоху романтизма, прославил, среди прочих, Вальтер Скотт. Напомним: аллографическое предисловие – это предисловие, написанное от лица вымышленного автором персонажа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































