Текст книги "Три дня"
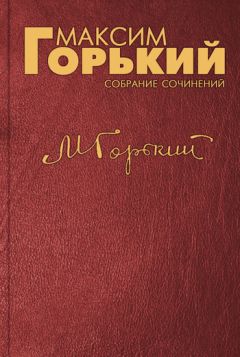
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Сквозь завесы зелени были видны прочные стены и красные, крытые железом крыши хозяйственных построек, на всём вокруг лежала печать умной человеческой работы, и человек говорил:
– Здесь нет аршина земли, которой не коснулась бы моя рука!
Назаров уважительно посмотрел на эту руку, тёмную от загара, с длинными пальцами и узкой ладонью, потом искоса и мельком взглянул на тяжёлую кисть своей правой руки и сжал её в кулак.
– Да. И я горжусь тем, что в то время, когда кругом всё разрушается, я умел восстановить часть разрушенной жизни, – он положил руку на плечо Николая, заглядывая в глаза ему. – Вот и вы так же: возьмите кусок земли по силе вашей и обработайте её, в пример другим. Это вызовет в людях уважение к вам, а вас наградит сознанием вашей особенности. Подумайте, какова может быть земля лет через сто, если каждый из людей сумеет украсить за жизнь свою хотя бы десятину, а? Прекрасным садом будет земля, и в этом именно и скрыт смысл жизни, – понимаете?
Это были именно те речи, ради которых Назаров уже второй год почти каждое воскресенье являлся сюда, к человеку, вызывавшему у него сложное чувство зависти, уважения и с трудом подавляемой обиды. В манере барина говорить, в его странных, не смешных шутках, в назойливом повторении одного и того же – Николай чувствовал, что епархиальный архитектор считает его парнем глуповатым, это всегда бередило самолюбие Назарова, и он замечал, что действительно при барине становится глупее. Но речи Будилова о смысле жизни, о необходимости умного, упорного труда на своей земле были дороги Николаю, они укрепляли в нём его мечты, перерождая их в ясные, твёрдо очерченные планы будущего.
– А вы, Яков Ильич, подождёте продавать ту землю? – спросил он тихонько.
– Чего – подождать?
– Да вот, когда отец…
Будилов искоса взглянул на него и сказал, сморщив жёлтое лицо:
– Мельники живут до ста лет. Я, батенька, не могу ждать, увы! Мне нужны деньги. Саяновские мужики дают уже две тысячи семьсот. Ещё немножко поспорим и – сойдёмся! Да! А вы – не горюйте. Земли – много!
– Ах ты, господи, – вздохнул Николай, угрюмо опустив голову. – Не в силу мне отказаться-то от вашей земли, прямо – не могу… Так всё обдумано, так это просто выходит у меня…
– Мельники долговечны, как слоны, – говорил барин, шаря в карманах, – за это, главным образом, они и считаются колдунами, да-с, милейший мой…
Остановился, вынул сигару, тщательно и долго обрезывал маленькими ножницами конец её, закурил и, гоня перед собою синюю струйку дыма, пошёл вперёд по аллее. Николай поглядел в спину ему и вдруг начал прощаться.
– А – улей? – спросил барин, подняв брови.
– Уж в другой раз позвольте, сегодня надо скорее домой, отец там жалуется, грудь завалило…
Он бормотал, опустив голову, не глядя в лицо Будилова, переминаясь с ноги на ногу, – что-то беспокойное слагалось в уме и торопило уйти отсюда.
– Как хотите! – недовольно и сухо сказал Будилов.
Николай быстро спустился с горы, сел в лодку и, широко взмахивая веслами, погнал её против течения, словно убегая от чего-то, что неотступно гналось за ним.
Весло задевало опустившийся в воду ивняк, путалось в стеблях кувшинок, срывая их золотые головки; под лодкой вздыхала и журчала вода. Почему-то вспомнилась мать – маленькая старушка с мышиными глазками: вот она стоит перед отцом и, размахивая тонкой, бессильной рукой, захлёбываясь словами, хрипит:
– Злодей ты, злодей, дай хоть умереть-то мне, не му-учь…
А он, большой и тяжёлый, развалясь на лавке под окном, отвечает лениво и без злобы:
– Али я тебе мешаю? Издыхай…
Мать трясётся вся, растирает руками больное горло, смотрит в угол на иконы, и снова шелестят сухие жуткие слова:
– Пресвятая богородица – накажи его! Порази его в сердце, матушка! Без покаяния бы ему…
Отец вскочил на ноги.
– Вон, ведьма!..
Она выбегает согнувшись, точно маленькая собачка, а вечером, лёжа в телеге на дворе, шепчет Николаю:
– Измаял он меня, боров распутный, ославил, душеньку мне истерзал, Николушка, милый, – тошнёхонько мне, ой…
Это было шесть лет тому назад.
Цветным камнем мелькнул над водою зимородок, по реке скользнула голубая стрела; с берега, из кустов, негромко крикнули:
– Эй – куда? Здесь я…
Не взглянув на берег, не отвечая, он глубоко вогнал лодку в заросль камыша, выпрыгнул на берег и, попав ногами в грязь, сердито заворчал:
– Нашла место, нет лучше-то?..
Перед ним стояла дородная, высокая девица в зелёной юбке с жёлтыми разводами, в жёлтой кофте и белом платке на голове.
– Не всё равно? – сказала она густым голосом.
– Вон, гляди, как сапоги замарал!
– Эка важность!
Отошли в кусты, и на маленькой полянке, среди молодых сосен, Николай устало бросился в тень, под деревья, а она, бережно разостлав по траве верхнюю юбку, села рядом с ним, нахмурив густые тёмные брови и пытливо глядя в лицо его небольшими карими глазами.
– Опять не в духах?
Николай отвернулся от неё и, сплюнув сквозь зубы, пробормотал:
– Чёртов китаец этот не хочет ждать, продаёт землю-то саяновским!
Она вздохнула, не торопясь достала из-за пояса платок, заботливо вытерла потное лицо Николая, потом, перекинув на грудь себе толстую косу, молча стала играть розовой лентой, вплетённой в конец её. Брови её сошлись в одну линию, она плотно поджала красные губы и пытливо уставилась глазами в сердитое, хмурое лицо Назарова.
– Что теперь делать? – сказал он, щурясь от солнца, и положил голову на колени ей.
– Не скоро, видно, поживёшь, как хорошие-то люди, – медленно проговорила она.
Николай чмокнул, закрыл глаза и сморщил лицо.
– Ну вот! Чем бы ласковое что сказать…
– Лаской дела не подвинешь, милый…
– Эх ты! – тихонько и уныло воскликнул Назаров.
– Что я?
– Так. Мало ты меня, Христина, любишь, вот что.
Она подвела руку под шею ему и, легко приподняв голову парня, прижала её ко груди.
– А ты полно-ка! Не любила бы, так гуляла бы со Степаном.
– С нищим-то?
– И ты не богат…
– Я – буду!
– Улита-то едет…
– Погоди, отец помрёт…
– Кабы это от тебя было зависимо…
Николай открыл глаза, быстро приподнялся, сел рядом с нею и строго, глухо спросил:
– Ты что говоришь?
– Я?
Христина удивлённо отшатнулась от него, приподняв плечи и словно желая спрятать голову.
– Что я говорю?
– То-то! – сказал Николай. Сорвал горсть травы и резким движением отбросил её прочь от себя.
– Ты мне этих мыслей не внушай!
– Каких?
Они посмотрели в глаза друг другу, и первый отвернулся Николай, а Христина, улыбаясь широкой улыбкой, обняла его за шею и, раскачивая, шептала в ухо:
– А ты – полно-ка! Милёнок! Ты – не думай…
– О чём? – подозрительно спросил он.
– Ни о чём не думай, кроме дела, как его лучше исделать…
– А вот – как? Вон он, паяц этот…
– Будилов-то?
– Ну да.
– И впрямь – паяц!
– Вон он говорит: «Мельники, говорит, до ста лет живут»… да!
Христина подумала немножко и, вздохнув, сказала:
– Да-а, долголетни они…
И тотчас торопливо заговорила, усмехаясь:
– Намедни Будилов-то, как пололи мы гряды у него, сел под окно и в подзорную трубу смотрит, всё смотрит на нас… Выглядел Анюту Сорокиных, ну, а известно, какова она, ей только мигни…
– Брось, – сказал Николай, – что тебе?
А в памяти звучало двойное слово:
«Долго-летни… долго-вечны…»
Он снова лёг на колени ей, а Христина, грустно прикрыв глаза выцветшими ресницами, замолчала, перебирая его волосы. Молчали долго.
Было тихо, только из травы поднимался чуть слышный шорох, гудели осы, да порою, перепархивая из куста в куст, мелькали серенькие корольки, оставляя в воздухе едва слышный звук трепета маленьких крыльев. Вздрагивая, тянулись к солнцу изумрудные иглы сосняка, а высоко над ними кружил коршун, бесконечно углубляя синеву небес.
Назаров следил за полётом птицы, и ему казалось, что в нём тоже медленно плавает чёрный шарик, – никаких мыслей нет, не хочется думать, и жутко следить за этой чёрной точкой в небе, отражённой где-то глубоко в душе.
Вдруг вспомнились слова Христины:
«Ни о чем не думай – делай…»
«Намекает она али нет? Пожалуй, намекает! Ей – что? Будет удача – её выигрыш, не будет, пропаду я – с другим начнет гулять…»
А Христина, лаская его, тихонько, жалобно говорила:
– Пожить бы поскорее хорошо-то, миленький ты мой, одним бы, на полной свободе, хозяевами себе…
Он беспокойно повернулся на бок, не желая более смотреть в небо, и, глядя снизу вверх в лицо ей, сердито сказал:
– Что ты, уговариваешь?
– Коленька, – так уж хочется мне с тобой…
– Лучше бы поцеловала!
– Поцеловать-то и хочется, – шепнула она, наклоняясь. Николай закинул руки за шею ей, притянул к себе и закрыл глаза, прильнув к её губам.
– Ой – пусти! – шептала она, отталкивая его, вырвалась и, легко столкнув парня с колен своих, встала на ноги, томно потягиваясь.
– Задохнулась даже…
Он откатился под сосны и, лёжа вниз лицом, бормотал:
– Идёт время, идёт, а ты – мучайся! Эх! Господи!
Христина молчала, отряхая с юбки хвою и траву, потом, взглянув на солнце, сказала:
– Надобно домой…
– Погоди!
– Нет, надо…
И, помолчав, прибавила:
– Надо идти…
Николай сел на земле, поправил волосы, надел картуз.
– Ну, едем…
Но Христина, отступив в сторону, сказала виноватым голосом:
– Я, Коля, пеше пойду сегодня…
– Отчего?
– Та-ак.
Он поднялся на ноги, оглядываясь, прислушался – где-то неподалёку бил коростель, а Христина тихонько говорила:
– Мне к Мишиным надо зайти…
Глаза у неё разбегались, по лицу расплылась слащавая улыбочка.
– Врёшь ты, – тихо сказал Николай.
– Ей-богу – правда! – воскликнула она, прижимая руки к высокой груди.
– Врёшь, – повторил парень раздумчиво и, тряхнув головою, подошёл вплоть к ней. – Погляди-ка в глаза мне – ну?
Она испуганно выкатила карие зрачки, улыбка сошла с лица её, и губы вздрогнули.
– Что ты, Коленька!
– Знаю я, о чём ты думаешь! – сказал он сердито. – И почему не едешь сегодня со мной – понимаю!
– Да что ты! – повторила она обиженно. – Что тебе кажется? Господь с тобой, право!
Он подвинулся к ней, тихо говоря:
– Ты на что мне в то воскресенье про Федосью Шилову рассказала?
– И не помню я даже…
– Не помнишь?
Но вдруг покраснев, она взмахнула рукой и, широко крестясь, заговорила торопливо:
– Вот – на! – святой крест – правда это! Все говорят про неё, только доказать нельзя, ведь уж семь месяцев прошло, как он помер…
Она смотрела прямо в глаза ему, речь её становилась всё многословнее, оживлённее – он подумал:
«Может, ошибаюсь я, свои мысли вижу у неё…»
И вслух сказал примирительно:
– Да я не про это! Нужно ли мне в чужое дело соваться?..
– Так про что же? – спросила она удивлённо.
– Да вот… всё вместе со мной в лодке отсюда ездила, а сегодня вдруг будто испугалась чего – иду одна, пешком!
В глазах её вспыхнули и тотчас погасли зелёные искорки, она обняла его за шею и, поцеловав, шепнула на ухо:
– Не бойся!
– Чего? – спросил Назаров, тоже обняв её, а она, крепко прижимаясь к нему грудью, томно прикрыв глаза, маня и обещая, сказала:
– Ничего не бойся! Ой, люблю я тебя до смерти!
И, вдруг обессилев, тяжело повисла в его руках.
У него сладко кружилась голова, сердце буйно затрепетало, он обнимал её всё крепче, целуя открытые горячие губы, сжимая податливое мягкое тело, и опрокидывал его на землю, но она неожиданно, ловким движением выскользнула из его рук и, оттолкнув, задыхаясь, крикнула подавленно:
– Иди, уходи!
Он, шатаясь, пошёл к ней.
– Уходи, Николай! – снова крикнула она. – Не могу я… ну тебя…
Глядя на неё пьяными глазами, обессиленный возбуждением, он пробормотал:
– Доведёшь ты меня… додразнишь до греха, гляди, Христина…
И, круто отвернувшись, пошёл сквозь кусты к лодке.
Когда он оттолкнулся от берега, то увидал над зеленью кустарника её лицо: возбуждённое, глазастое, с полуоткрытыми улыбкой губами, оно было как большой розовый цветок. Простоволосая, с толстой косою на груди, она махала ему платком, рука её двигалась утомлённо, неверно, и можно было думать, что девушка зовёт его назад.
Крепко стиснув вёсла, он погрузил их в реку и рванул к себе, громко, озлобленно крякнув.
– Вечером-то увидимся ли? – негромко сказала Христина.
Он не ответил, яростно взрывая воду вёслами.
III
Доплыв до села, он вышел на берег и, подавленный смутным, тревожным желанием, которое и запрещало ему идти домой и влекло туда, – пошёл повидаться с учителем Покровским.
Павел Иванович, щуплый, сухонький человечек с длинным черепом и козлиной бородкой на маленьком лице, наскоро склеенном из мелких, разрозненных костей, обтянутых сильно изношенной кожей, пил чай со Степаном Рогачёвым, парнем неуклюжим, скуластым, как татарин, с редкими, точно у кота, усами и гладко остриженною после тифа головою.
Назаров, вяло улыбаясь, поздравил учителя с приездом, на заботливый вопрос Покровского – почему он такой невесёлый? – сообщил о болезни отца и замолчал, а учитель снова стал оживлённо и торопливо, мягким баском, рассказывать Степану что-то о кометах, звёздах. Николай не слушал, он был уверен, что все речи учителя знакомы ему, как «господи помилуй», они интересны, но лишние для жизни, – никому не нужны звёзды, и всё равно, как вертится земля, это никому не мешает. Нужно – простое, ясное: кусок земли, просторный, светлый дом, хорошая, неглупая жена и – чтобы люди уважали, не трогали, – вот что крепко ставит человека на ноги и даёт душе покой. Сначала – это, а потом уже всё другое, что кому нравится. Притеснять людей не надо, пусть каждый живёт как хочет. Люди ежедневно доказывают друг другу, что жить сообща – не могут они, нет у них для этого уменья, и задачи разные у всех.
«Дешёвый человек, – лениво думал он про учителя, – так себе живёт, без назначения…»
А Степан вызывал у него неприязненное и завистливое чувство развязностью, с которой он держался перед учителем, смелостью вопросов и речей: следя за ним исподлобья, он видел, как Рогачёв долго укреплял окурок стоймя на указательном пальце Левон руки, уставил, сбил сильным щелчком пальцев правой, последил за полётом, и когда, кувыркаясь в воздухе, окурок вылетел за окно и упал далеко на песок, Рогачёв сказал, густо и непочтительно:
– А по-моему, – никто не верит в способность народа к разуму!
«Это верно», – подумал Назаров.
– Ну-у, – недовольно протянул учитель. – Откуда ты взял?
– Да так уж! Все книжники в народе – как в лесу. Как на охоту выходят – не попадёт ли что приятное? Главное – приятное найти…
– Неосновательно говоришь ты, Степан!
– Ну?
– Нехорошо.
Облака, поглотив огненный шар солнца, раскалились и таяли, в небе запада пролились оранжевые, золотые, багровые реки, а из глубин их веером поднялись к зениту огромные светлые мечи, рассекая синеющее небо.
Назаров думал:
«Продаст Будилов землю…»
Гудя, влетел жук, ткнулся в самовар, упал и, лёжа на спине, начал беспомощно перебирать чёрными, короткими ножками, – Рогачёв взял его, положил на ладонь себе, оглядел и выкинул в окно, задумчиво слушая речь учителя.
Его басок лился густою струёй, точно конопляное масло; по лицу разбегались круглые улыбочки, он помахивал в воздухе сухонькой рукой, сжимая и разжимал пальцы.
– Понемногу, в сотне тысяч деревень, – захлёбываясь словами, говорил он, – каждогодно входят в жизнь молодые, доброжелательные умы, и скоро Русь увидит себя умной, честной.
«И Будилов то же говорит», – думалось Николаю.
– Конечно, – сказал Степан, пощипывая усы, – жизнь обязательно должна идти к лучшему – как же иначе?
Николай встал, протягивая учителю руку.
– Мне пора домой, я ведь только повидаться зашёл, а то – нехорошо, отец там…
– И я тоже иду, – сказал Рогачёв, – у меня за мельницей рыбьи делишки налажены.
– Погодите, – всё ещё мечтательно улыбаясь, заявил учитель, – я с вами, мне к отцу Афанасию! Сейчас переоденусь.
Степан потянулся, почти достав потолок руками, и сказал:
– Не люблю батьку!
– За что его любить? – отозвался учитель, суетясь в углу. – Мне по службе необходимо показывать видимость уважения к нему и всё подобное эдакое. Ну, идёмте!
Половина тёмно-синего неба была густо засеяна звёздами, а другая, над полями, прикрыта сизой тучей. Вздрагивали зарницы, туча на секунду обливалась красноватым огнём. В трёх местах села лежали жёлтые полосы света – у попа, в чайной и у лавочника Седова; все эти три светлые пятна выдвигали из тьмы тяжёлое здание церкви, лишённое ясных форм. В реке блестело отражение Венеры и ещё каких-то крупных звёзд – только по этому и можно было узнать, где спряталась река.
Лес в темноте стал похож на горы, всё знакомое казалось новым, влажное дыхание земли было душисто и ласково.
«Продаст Будилов землю, – угрюмо думал Николай, – продаст! Эх, отец…»
Рогачёв и учитель, беседуя, тихонько шли вперёд, он остановился, поглядел в спины им и свернул в сторону, к мосту, подавляемый тревогой, а перейдя мост, почувствовал, что домой ему идти не хочется. Остановился под вётлами на берегу и, обернувшись спиною к неприятным огням мельницы, посмотрел на село, уже засыпавшее, полусонно вздыхая. Редкие огни в окнах изб казались глубокими ранами на тёмном неуклюжем теле села, а звуки напоминали стоны. Вид села вечером и ночью всегда вызывал у Назарова неприятные мысли и уподобления: вскрывая стены изб, он видел в тесных вонючих логовищах больных старух и стариков, ожидающих смерти, баб на сносях, с высоко вздёрнутыми подолами спереди, квёлых, осыпанных язвами золотухи детей, видел пьянство, распутство, драки и всюду грязь, от которой тошнило. Люди в этой грязи – точно черви…
Он знал, что всё село ненавидит и боится мельника Назарова и что часть этой ненависти отражённо падает и на него. Фаддея Назарова не любили за богатство, за то, что он давал деньги в рост, за удачу во всех делах и распутство.
«Я при чём тут? – мысленно возражал людям Николай, проникаясь враждебным чувством к ним. – Али я виноват?»
И, считая себя несправедливо обиженным, он втайне обвинял отца за это наследство. Бывали дни, когда хотелось мира и дружбы с людьми, а отовсюду на него смотрели косо, недоверчиво или же заискивающе, подхалимисто. Однажды, стеснённый этой злобой и фальшью, Николай угрюмо сказал Рогачёву:
– Зря мужики на меня волками-то глядят…
– Н-да, – протянул Степан, опуская глаза. – Торопятся…
Николай не понял его.
– Куда – торопятся?
– Это они – в счёт будущего, – подумав и усмехаясь, сказал Рогачёв.
– А может, я добра хочу им? – сердито воскликнул Назаров. – Как знать, чем я для них буду?
– Стало быть – не ждут они добра, – снова задумчиво молвил Степан и, вздохнув, добавил: – Гляжу я на всё и думаю: легко быть худым человеком, а хорошим – трудно! Ей-богу, так!
– Обидно это мне! – сказал Николай.
Рогачёв не ответил, не взглянул на него, и Николаю подумалось:
«И ты такой же, как все…»
На том берегу, в доме Копылова, зажгли огонь, светлая полоса легла по дороге к мосту, и в свете чётко встали три тёмные фигуры, в одной из них Николай сразу узнал Степана, а другая показалась похожею на Христину. Он посунулся вперёд, схватившись рукою за дерево, а люди окунулись в темноту и исчезли, потом стал слышен шум шагов и девичий смех. Назаров не торопясь пошёл к мельнице, но тотчас повернул назад, сбежал под мост и присел там, в сырости и запахе гнилого дерева. Чуть слышно журчала вода, шаркая о песок берега, на гладкой полосе реки дрожали отражения звёзд, бухали по мосту тяжёлые шаги, стучали каблуки женских башмаков и ясно звучал голос Рогачёва:
– Вот теперь вы и то и сё, капризитесь с парнями, дурите и будто бы считаете их ровней себе, а как повыскочите замуж, и – кончено! Всё равно как нет вас на земле, только промеж себя лаетесь, а перед мужьями – без слов, как овцы…
– Скажи-ка мужу слово-то! – весело воскликнула одна из девиц, и Назаров по голосу узнал бойкую подругу Христины, Наталью Копылову. – Чать он – власть, сейчас за волосья сгребёт…
– Не допускай!
– Рада бы, да силы не дано…
Они остановились как раз над головою Назарова, – сквозь щели моста на картуз и плечи его сыпался сор.
– Дальше не пойдёте? – спросил Степан.
– Я – нету, а вот Кристя, чать, пошла бы, до мельницы, до милёнковой…
– Видала я его нынче, – тихо и медленно выговорила Христина, и Назарову показалось, что слова её небрежны, неуважительны.
– Ну, я иду…
Рогачёв сошёл с моста, а девицы пошли назад, и Наталья тихонько запела:
Встретишь милого мово,
Скажи – я люблю его…
– Так ли, Кристюшка?
– Невесёлый он у меня, милый-то…
– Невесел, да – богат.
– Ну-у…
– Ничего, раскачаешь! Ох, девонька…
Шаги заглушили слова Натальи.
Напряжённо вслушиваясь, Назаров смотрел, как вдоль берега у самой воды двигается высокая фигура Степана, а рядом с нею по воде скользило чёрное пятно. Ему было обидно и неловко сидеть, скрючившись под гнилыми досками; когда Рогачёв пропал во тьме, он вылез, брезгливо отряхнулся и сердито подумал о Степане:
«Пустобрёх…»
А Христину – обругал:
– Дура! Туда же, невесел я для неё… Нищета козья…
И пошёл на мельницу, опустив голову, заложив руки за спину, чувствуя себя жутко одиноким в этой тёплой, расслабляющей тьме ночной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































