Текст книги "Три дня"
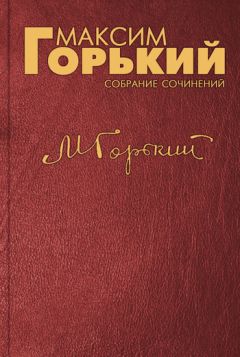
Автор книги: Максим Горький
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
IV
Он тихонько вошёл в сени, остановился перед открытой дверью в горницу, где лежал больной и откуда несло тёплым, кислым запахом.
На столе горела лампа, окна были открыты, жёлтый язык огня вздрагивал, вытягиваясь вверх и опускаясь; пред образами чуть теплился в медной лампадке другой, синеватый огонёк, в комнате плавал сумрак. Николаю было неприятно смотреть на эти огни и не хотелось войти к отцу, встречу шёпоту старухи Рогачёвой, стонам больного, чёрным окнам и умирающему огню лампады.
– И вот, сударыня ты моя, – певуче шептала знахарка Рогачёва, – как родилось у них дитё…
А больной бормотал густым, всхрапывающим голосом:
– Хо-осподи! Да-а, да-да-ай…
– Будто просит чего? – заметила тётка Татьяна.
– Бредит! И как уведомила она…
Николай, шагнув через порог, угрюмо сказал тётке, сидевшей в ногах кровати:
– Поправила бы лампадку-то…
И спросил Рогачёву:
– Хуже стало?
Маленькая, круглая старушка, с румяным личиком и мышиными глазками, помахивая полотенцем над головою больного, приторно ласково ответила, положив руку на красный лоб старика:
– Не заметно лучше-то, вот уж что буде о́полночь…
Перекатывая голову по подушке, старый мельник хмурил брови и торопливо говорил:
– Хосподи, хосподи…
Лицо у него было багровое, борода свалялась в комья, увеличив и расширив лицо, а волосы на голове, спутавшись, сделали череп неровным, угловатым. От большого тела несло жаром и тяжёлыми запахами.
– Ничего не понимает? – осведомился Николай, отходя прочь.
Знахарка отрицательно покачала головой и угнетённо вздохнула.
– Будто нет, родимый…
– Меня не спрашивал?
– Спрашивал, как же…
– Когда?
– Да уж давненько…
Николай сел на лавку, глядя, как тётка возится с лампадой и, обжигая пальцы, дует на них, посмотрел на стены, гладко выскобленные и пустые, днём жёлтые, как масло, а теперь – неприятно свинцовые, и подумал:
«Это неверно, что от обоев клопы заводятся, – клопы от нечистоты. Здесь мне придётся прожить года два ещё – пока строишься, да пока продашь… Перед свадьбой оклею обоями».
И снова привстал на ноги, заглядывая через спинку кровати на большое, вздувшееся тело отца.
Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок, а с воли доносилось кваканье лягушек. Покачиваясь на стуле, Рогачёва всё махала полотенцем, и стул под нею тихонько скрипел.
– Кто тут? – вдруг строго спросил больной и тотчас закашлялся.
– Я, батюшка, – отозвался Николай, обходя знахарку и становясь перед глазами старика.
– За доктором послали? – хрипел мельник, высвобождая изо рта дрожащими пальцами усы и бороду.
– Да, – тихо ответил Николай.
– Не слышу!
– Послали.
– Кого?
– Ванюшку Скорнякова.
– А Левон?
– Пьяный.
– У-у! – застонал старик, жадно хватая воздух широко открытым ртом. – Вот – пьяный, издохнуть не дали, началось…
– Праздник сегодня, – напомнил Николай.
– Какой праздник – отец умирает! Хозяин умирает! – плаксиво и зло хрипел отец, хлопая ладонями по постели и всё перекатывая голову со стороны на сторону. Уши у него были примятые, красные, точно кожа с них сошла. Он глядел в лицо сына мутными, налитыми кровью глазами и всё бормотал непрерывно, жалобно, а сзади себя Николай слышал предостерегающий голос тётки:
– Ванька-то, гляди, поехал ли? Недавно ещё, незадолго до стада, видела я его около моста, выпивши он, с девками стоял…
– Молчи, тётка! – сказал Николай.
– Чего? – спросил отец, испуганно вытаращив глаза, – чего шепчешь?
– Я ничего, батюшка…
А старик, точно не веря ему, допрашивал, едва двигая сухим языком:
– На чьей лошади?
– Ванюшка-то?
– На чьей?
– На своей…
– О-ох, – застонал мельник, прикрыв глаза, – на нашей надо было, на нашей…
– Хромает…
– Торопить надо, что вы-и…
Он снова начал бредить и стонать.
Николай отошёл к окну и сел там, задумавшись; он не помнил, чтобы отец когда-нибудь хворал, и ещё в обед сегодня не верил, что старик заболел серьёзно, но теперь – думал, без страха и без сожаления, только с неприятным холодком в груди:
«Пожалуй, не встанет. Узнают, что не посылал я за доктором – осуждать будут, нарочно, скажут, сделано это…»
За рекой над лесом медленно выплывал в синее небо золотой полукруг луны, звёзды уступали дорогу ему, уходя в высоту, стало видно острые вершины елей, кроны сосен. Испуганно, гулко крикнула ночная птица, серебристо звучала вода на плотине и ахали лягушки, неторопливо беседуя друг с другом. Ночь дышала в окна пахучей сыростью, наполняла комнату тихим пением тёмных своих голосов.
У постели шептались женщины:
– Умный мужик был Хомутов-то…
– Живи, как все, небойсь, никто не тронет…
Николай вспомнил бородатого рослого мужика с худым, красивым лицом и серьёзными добрыми глазами, вспомнил свою крёстную сестру, бойкую, весёлую Дашутку, и брата её Ефима, высокого парня, пропавшего без вести. Слова тётки напомнили ему рассказы Рогачёва, обвинявшего отца в том, что он разорил и довёл до тюрьмы кума своего Хомутова, и теперь, слушая шёпот Татьяны, Николай испытывал двойственное чувство: её слова как бы несколько оправдывали его холодное отношение к отцу, но, в то же время, были неприятны, напоминая о Степане, – не хотелось, чтобы Степан был прав в чём-либо.
– Будет, тётка! – сказал он. – Лучше вот – как насчёт доктора-то? Не посылал ещё я за ним, думал, обойдётся без него. Послать, что ли?
Женщины замолчали, слышнее стал зовущий на волю звон воды – потом старуха Рогачёва тихонько и как бы с некоторой обидой сказала:
– Что ж – иной раз и доктора помогают…
– Уж лучше позвать бы, коли просит он, – подтвердила Татьяна.
– Тогда придётся самому мне ехать – кого пошлёшь?
– Дашку можно, – предложила тётка. – Я схожу, найду её, она на селе шлёндает где-нибудь с парнями…
– Нет, – сказал Николай, подумав, – я сам съезжу верхом…
Татьяна удивилась:
– Почто верхом? А доктор как?
– У него лошадь есть. Да, может, ещё не застану…
Последние слова вырвались как-то сами собой, Николай тотчас понял, что они – лишние, и добавил:
– Он ведь тоже гоняет день и ночь…
– Теперь, летом-то, не так, – заметила Рогачёва.
Николай подозрительно взглянул на неё и вышел из комнаты, а вслед ему, точно подгоняя, текло густое храпенье задыхавшегося старика.
Он вывел коня, бросил на хребет его вчетверо сложенное рядно и шагом съехал со двора в открытые тёмные ворота.
– С богом, – сказала Татьяна.
– Спаси бог, – ответил он машинально.
Ему не хотелось ехать через мост и селом, он направил лошадь вдоль реки – там, версты на четыре ниже плотины, был брод, а ещё дальше – другой, новый мост. Ехал шагом по узкой тропе, среди кустарника, ветки щекотали бока лошади, она пугливо прядала ушами, качала головой и косилась, фыркая. Справа по растрёпанным кустам, освещённым луною, ползла тень, шевеля ветки, а слева за чёрной грядою блестела вода, вся в светлых пятнах и тёмной узорчатой ткани. На той стороне у самого берега тесно стоял лес, иногда мелькала, уходя глубоко в него, узкая просека, густо покрытая мелкою порослью, и часто там, в чёрных ветвях, что-то вздыхало, вздрагивало.
Он дёргал повод, тихонько чмокал и думал об отце, доискиваясь чего-то прочного, решительного.
За всё время, как Николай помнит себя, он не слыхал ни одного искренно доброго слова об отце. Если отец помрёт – после него останется много долгов, надо будет собирать их, и Николай знал, что это ещё больше восстановит против него людей, хотя – долги платить надо.
«Отказаться разве, – пусть пойдёт в поминок ему?» – спросил он себя, но вспомнив, что долги восходят до двух тысяч, тяжело вздохнул.
«Со многих, всё равно, ничего не получишь», – думал он и вдруг почувствовал, что думает об этом нарочно, чтобы заглушить другие мысли, более серьёзные, – и вот они быстро побежали одна за другой.
«Не жалко мне его, а даже – хочется, чтоб он помер. Христина, давеча, догадалась об этом, она прямо намекала, чтоб не боялся, – уж, наверно, она об этом. Бедная, а бедные – все жадные; винить их в этом и нельзя, пожалуй…»
Из кустов выпорхнула, перелетев тропу, какая-то птица, лошадь, вздрогнув, остановилась, Николай качнулся вперёд и, рассердясь, ударил её по бокам каблуками сапог, но когда она пошла рысью, он приостановил её, продолжая думать всё открытее.
«Павел Иваныч и Степан ждут всё, что между людьми образуется связь и все друг другу близки будут, – нельзя в это верить, нет! Если у сына с отцом – у людей одной крови – связи нет и живут они без жалости друг ко другу – чего ждать между чужими? Дети не считаются за людей и сами отцов нисколько не уважают – это везде! Значит – положено это навсегда, если даже между отцами-детьми нет связи».
Впереди река развернулась в небольшое, почти круглое озерко, и в середине его стояла, колыхаясь, чёрная длинная точка, похожая на рыбу. Николай, потянув повод, остановил лошадь.
«Степан!»
Ему хотелось поворотить назад, и он стал дёргать направо, а лошадь топталась на месте и не шла в кусты.
«Услышит», – сердито подумал Назаров, и в то же время челнок вздрогнул, поплыл к берегу, скользя по светлой, гладкой воде быстро, бесшумно и оставляя за собою чешуйчатый след.
Николай видел, что ему не миновать встречи с Рогачёвым; это рассердило его, он зло ударил лошадь; подбрасывая его, она поскакала, споткнулась, и он перелетел через голову её в кусты, а когда поднялся на ноги, Степан, разведя руки, стоял на тропе, чмокая и ласково оговаривая испуганную, топтавшуюся на месте лошадь.
– Не ушибся? – участливо спросил он.
– Нет, – сердито ответил Назаров и тотчас прибавил: – Это ты её испугал!
– Ну вот, – усмехнулся Степан, звучно похлопывая лошадь по шее, – я вон откуда услыхал топот и вдруг – что такое? И побежал.
Говорил он ласково и весело, видимо, чем-то довольный.
– За доктором, что ли?.
– Да.
– Хуже отцу-то?
– Хуже.
– Ну, садись, поезжай…
Назаров не торопясь оправлял одежду и молчал, не вылезая из кустов.
– Да ты, может, ушибся? – беспокойно спросил Степан, присматриваясь к нему. – Ты – вот что, иди-ка домой, а я – поеду, слышь?
– Не надо. Я – сейчас…
Подошёл к лошади, взялся за чолку и, усмехнувшись, с неожиданным для себя приливом добродушия сказал:
– Вот так полетел я!
И Рогачёв усмехнулся.
– Бывает! А мне, брат, повезло, да так – прямо на диво! Леща зацапал фунтов на пять, едва выволок, завтра к Будилову снесу – целковый! Да пару щук – добрые щуки! – попу – полтина! Да ещё не всё – в вентерях, поди, есть что-нибудь, и опять перемёт поставил. До утра провожусь тут…
Николай вздохнул и неохотно взвалился на хребет лошади.
– Ночь хороша! – задумчиво сказал Рогачёв, отступая в сторону. – Просто – не ночь, а милая подруга. Валяй, поезжай, ну!
– Да, ночь хорошая…
И вдруг он пробормотал почти с завистью:
– Простая у тебя жизнь, Степан…
– Скачи, брат!
До брода Назаров ехал тряскою рысью, а когда перебрался через реку и перед ним в ночи жутко встала высокая стена молчаливого хвойного леса, лошадь снова пошла ленивым шагом.
Тихо думалось о Степане – конечно, он стал как будто зазнаваться, слишком явно кичился прямотой своих суждений, а всё-таки он самый хороший парень в селе и желает всем добра. Ведь и давеча, на мосту, говоря с девицами, он не сказал ничего обидного…
«Он девок добру учил – жене овцой не приходится быть. Да и кто знает, что Христина любит, – меня самого али то, что со мной сытно и не в каторжной работе жить можно? А со Степаном мне надо быть дружелюбней».
Дорога накрыта чёрным пологом сосновых ветвей, неподвижный, он казался вырезанным из ночной тьмы. Сквозь узорные прорезы на тёмные стволы мачтовых сосен мягко падал лунный свет, рыжая кора древних деревьев отсвечивала тусклой медью, поблескивали янтарём и топазом бугорки смолы. Шум копыт был почти не слышен на песке, смешанном с хвоей, увлаженном ночною лесною сыростью, лишь изредка хрустел сухой сучок да всхрапывала лошадь, вдыхая густой, смолистый воздух. В немой, чуткой тишине, в темноте, скудно украшенной полосами лунного света, дорога, прикрытая тенями, текла в даль, между деревьев, точно ручей, спрятанный в траве, невидимый и безмолвный. Иногда она упиралась в толстые стволы и вдруг круто поворачивала снова в лесную тьму, не имевшую, казалось, границ.
Он дремотно покачивался, думал и смотрел вверх на синие лоскутья неба, где иногда блестели едва различимые, бледные и маленькие звёзды.
Вспоминалось, как отец говорил о Степане, – раньше, когда Рогачёв хаживал на мельницу, он говорил о нём часто, но особенно веско легли в память такие слова отца:
– Пчеле муха – не компания, так и тебе не следует водить компанию с парнями вроде Стёпки. Ты – работой деда и отца – поставлен хозяином у дела, – стой твёрдо!
Короткая летняя ночь быстро таяла, чёрный сумрак лесной редел, становясь сизоватым. Впереди что-то звучно щёлкнуло, точно надломилась упругая ветвь, по лапам сосны, чуть покачнув их, переметнулась через дорогу белка, взмахнув пушистым хвостом, и тотчас же над вершинами деревьев, тяжело шумя крыльями, пролетела большая птица – должно быть, пугач или сова.
Назаров вздрогнул, поднял голову и натянул повод – лошадь покорно остановилась, а он перекрестился, оглядываясь сонными глазами. Но в лесу снова было тихо, как в церкви; протянув друг другу ветви, молча и тесно, словно мужики за обедней, стояли сосны, и думалось, что где-то в сумраке некто невидимый спрятался, как поп в алтаре, и безмолвно творит предрассветные таинства.
«Бог даст – всё будет хорошо», – медленно зрела усыплявшая мысль.
На траве у корней тускло светились капли росы, ночная тьма всё торопливее уходила с дороги в лес, обнажая рыжий песок, прошитый чёрными корнями.
Лошадь, зябко встряхивая кожей, потопталась на месте и тихонько пошла, верховой покачнулся, сквозь дрёму ему показалось, что он поворотил назад, но не хотелось открыть глаза, было жалко нарушить сладкое ощущение покоя, ласково обнявшее тело, сжатое утренней свежестью. Он ещё плотнее прикрыл глаза. Он слышал насмешливый свист дрозда, щёлканье клестов, тревожный крик иволги, густое карканье ворон, и, всё поглощая, звучал в ушах масляный голос Христины:
«Миленький, миленький – думаю я, как мы жить будем с тобой, – хорошо будем жить…»
Он чувствовал на своём лице её тёплое дыхание, щекотавшее глаза, потянулся обнять девушку и – едва удержался на хребте лошади, быстро откинувшись всем корпусом назад.
– Что ты, чёрт, – пробормотал он, щурясь от солнца.
Щупая ногой воду, лошадь, опустив голову, стояла над рекой.
Николай прикрыл глаза ладонью, оглянулся и, смущённый, рассерженный, стал бить ногами по бокам животное, дёргая повод.
– Куда ты, куда, дьявол!
Лошадь тяжко вздохнула и пошла вброд, он бессильно опустил руку, предоставив ей волю, а когда она перешла на тот берег, угрюмо подумал:
«Стало быть, так надо, не зря это…»
И, ласково потрепав животное по шее, погнал его быстрей. Вот снова на розоватом серебре воды виден челнок Степана, большая голова рыбака торчит над ним, слышен негромкий вопрос:
– Съездил?
– Бог на помочь! – виновато сказал Назаров.
– Спасибо! Скоро ты оборотился…
Не останавливая коня, Николай спросил:
– Как дела?
– Шибко идут.
Назаров погнал лошадь быстрее. В кустах хлопотливо щебетали птицы, по ту сторону реки ярко горел лес, облитый щедрым утренним солнцем, звенели жаворонки, голова Николая тяжело покачивалась, и он лениво думал:
«Ну, что ж? Кабы совсем без помощи – другое дело, а ведь там лекариха есть. Она старушка знающая».
Но в груди неприятно покалывало.
Дома, войдя в комнату отца, он сразу успокоился и даже едва мог сдержать довольную улыбку: старик, растрёпанный, в спутанных седых вихрах, жалкий и страшный, сидел на постели, прислонясь спиною к стене и открыв рот.
«Вот оно! – воскликнул про себя Николай. – Животное-то почувствовало!»
– Ну что? – спросил отец, громко икнув.
– Не застал, – ответил Николай.
– О, господи…
– Надо будет ещё сгонять, послать ещё кого-нибудь, – бормотал Николай, не глядя на больного.
– Пошли-и, пошли-ка, – жалобно просил отец, снова икая.
Николай вышел в сени; у него слипались глаза, и лицо словно паутиной было покрыто, он крепко тёр ладонями щёки и слышал, как тётка Татьяна на дворе будит Дарью:
– Вставай, слышь! Дашка, лошадь убери…
– А лошадь-то нисколько не устала, – тихо звучал слащавый голосок старухи Рогачёвой, – гляди-ко ты, а?
– И впрямь ведь…
– Взад-вперёд двадцать вёрст! Скоро обернул!
Николай, нахмурясь, слушал, думая:
«Надо Дашку послать, сейчас пошлю…»
И вдруг очнулся от дремоты, вздрогнув испуганно:
«Эдак пойдёт про меня слух, что я нарочно – ах, ведьмы!»
Он тотчас вышел на крыльцо, хозяйственно говоря:
– Тётка Татьяна, пускай Дарья запряжёт гнедого, да сейчас же едет по доктора – живее!
Сел на ступени крыльца и схватился руками за голову, крепко сцепив зубы.
– Икать начал – это нехорошо! – шептала старуха Рогачёва, подойдя ко крыльцу. – Это уж всегда перед концом бывает…
– Плохо, значит?
– Бог боле нас знает, а по моему разуму – попа надо бы! Дарья-то пускай бы заехала?
– Скажи ей…
– А ты не убивайся, ведь не маленький остаёшься, а – как надо быть – хозяин…
Николай встал и ушёл в комнату. «Надо мне ласково с ними, а то они меня ославят», – думал он угрюмо и вяло.
– Что вы все – где? – встретил его отец.
– Я – вот, батюшка!
– Погодите, успеете меня бросить, успеете…
Николай прижался спиною к косяку двери, исподлобья глядя на больного: за ночь болезнь так обсосала и обгрызла старое тело, что сын почти не узнавал отца – суровое его лицо, ещё недавно полное, налитое густой кровью, исчерченное красными жилками, стало землисто-дряблым, кожа обвисла, как тряпка, курчавые волосы бороды развились и стали похожи на паутину, красные губы, масленые и жадные, потемнели, пересохли, строгие глаза выкатились, взгляд блуждал по комнате растерянно, с недоумением и тупым страхом. Больной непрерывно икал, вздрагивая, голова его тряслась, переваливаясь с плеча на плечо, то стуча затылком о стену, то падая на грудь, руки ползали по одеялу, щипали его дрожащими пальцами и поочередно, то одна, то другая, хватались за расстёгнутый ворот рубахи, бились о волосатую грудь. Из открытого рта со свистом и хрипом изливался тяжёлый, острый запах, и всё это отравленное болезнью, рыхлое тело, казалось, готово развалиться по постели, как перекисшее тесто.
– Умираю! – хрипел старик, отделяя каждое слово паузой, едва шевеля пересмякшими губами и облизывая их сухим языком. – Умираю, Николай! Вот, живи теперь своим умом, один. Татьяне – сто рублей дай, корову чёрную, материно там осталось – ей же! Для жены твоей не годится это. Меня хорони – скромно, береги деньги-то! Людям – не верь, гляди, обманут, никому не верь, жене – не верь! Кроме бога – никому! Господь-батюшка да ты. Жену держи в руках, гляди, – кто всего ближе, он всех опасней! Хомутову Василью пошли полста рублей. В Сибири он, Василий Петрович, в Бурнаул-городе. Степана Рогачёва – Степку – берегись, гляди! Он тоже – справедливости ищет, а чуть что – за горло тебя! Знаю я это. Вот и Василий тоже – добра хотел людям мужик, травил меня, как пса чужого. Деньги береги! Бог – всё знает. Ему цена копейки известна, он видел, сколько в неё вложено. Жениться будешь – выбирай девку здоровую. Это прежде всего надо – здоровье! Василью деньги пошлёшь, напиши, что помер я; не согласен был я с ним, обижал он меня, а я – его. Три года рычали друг на друга, лаяли, а – вот оно! Не было дружков крепче меня да его! За тёткой гляди – воровка она…
Николай сидел на скамье, держась за неё руками, слова отца толкали и покачивали его, он слушал их и, чувствуя за ними великое смятение души, сжатой предсмертной тоскою, сам ощущал тоску и смятение.
За окном весело разыгралось летнее утро – сквозь окроплённые росою листья бузины живой ртутью блестела река, трава, примятая ночной сыростью, расправляла стебли, потягиваясь к солнцу; щёлкали жёлтые овсянки, торопливо разбираясь в дорожной пыли, обильной просыпанным зерном; самодовольно гоготали гуси, удивлённо мычал телёнок, и вдоль реки гулко плыл от села какой-то странный шлёпающий звук, точно по воде кто-то шутя хлопал огромной ладонью.
Мимо окна, повизгивая и смеясь, прошли девки работать на огороде – Христина, Наталья, Анютка Сорокина и подросток Устинка.
– Тише, дылды! – закричала на них Татьяна.
Николай встряхнулся, подумав:
«Всё – как следует, как всегда было, а отец – помирает…»
– Иди, поспи, ляг, – хрипел отец. – Не спал ты, иди!
Николай покорно встал и пошёл к двери, но вдруг отец странно и страшно завыл, захрипел:
– Су-укин ты сы-ин! Али не успеешь выдрыхнуться, когда помру я? А-а, ах ты, пёс, бесстыжая рожа…
Николай остановился, мотнув головою, и уставился на отца испуганными глазами.
– Ты же сам велел, – пробормотал он.
– Сам, са-ам, э-х ты! Сам я… пёс, у-у…
Парню показалось, что этот хрип и вой ударил его в грудь, встряхнул и опустошил, – он оглянулся, заметил, что фитиль в лампадке выплыл из жестяного крестика-держальца и синий огонёк чуть виден.
«Надо поправить…»
Качаясь, пошёл в передний угол, но остановился – отец, привскакивая на постели, грозил ему дрожащей рукою и всё хрипел:
– И мать твоя тоже – тоже всё ждала, когда сдохну, – дождалась, а? Нет ещё, нет – погодите! Татьяна знает всё…
Какое-то новое, острое и трезвое чувство вливалось в грудь Николая; стоя среди комнаты, он смотрел на отца, а кожа на лице у него дрожала, точно от холода, и сердце билось торопливо.
– Перестань, батюшка! – глухо сказал он.
Разбирая неверными пальцами бороду и усы, мешавшие ему говорить, точно играя пальцами на губах, старик, вздрагивая от икоты, сучил голыми ногами и бормотал, захлебываясь:
– Ведьмин сын, не криви рожу! Она, мать-то твоя, травила меня, оттого вот – ране времени помираю, – а ты рад!
– А я – рад, – неожиданно для себя повторил Николай и сначала испугался, но тут же вдруг весь вскипел злою обидой.
– Рад? – повторил он вполголоса, подвигаясь к отцу. – Чему рад? Что денег много оставишь? А сколько ты мне ненависти оставишь? Ты – считал это? Деньги ты считал, а как много злобы на меня упадёт за твои дела – это сосчитал? Мне – в монастырь идти надо из-за тебя, вот что! Да. Продать всё да бежать надо…
– Не смешь продать! – дико захрипел отец, выкатив красные глаза, бессильно взмахивая руками и хлопая ими по коленям, как недорезанный петух крыльями. Икота, участившись, мешала ему говорить, язык выскальзывал изо рта, лицо перекосилось, а седые пряди волос прыгали по щекам, путаясь с бородою. Николай снова двинулся в передний угол, говоря жёстко и угрюмо:
– Кто мне запретит? Это не шутка – без вины виноватому жить!
– Прокляну-у, – сказал Фаддей Назаров ясно и громко, но тут же вздрогнул и покатился на подушки, дёргая ногами.
Сын остановился, заглядывая через спинку кровати на тело отца, судорожно извивавшееся и хрипевшее.
«Неужто – отходит?» – мельком подумал он, видя, как шевелятся серые волосы вокруг рта и дрожит, всползая вверх, правая бровь. Осторожно, на цыпочках, вышел в сени и крикнул громким шёпотом во двор:
– Тётка Татьяна!
С огорода доносились девичьи голоса и тихий смех, солнце слепило глаза, кружилась голова.
– Идём-ка, – сказал он тётке, – нехорошо с ним!
Потом, точно сквозь сон, он видел, как тётка со знахаркой усадили отца в постели, прислонив его к стене, – он сидел, свесив голову набок и на грудь, как бы разглядывая что-то в ногах у себя одним вытаращенным глазом, досадливо прищурив другой и тихонько мыча.
Это серое тряпичное лицо, искажённое хитрой, насмешливой улыбкой, словно дразнившее кого-то, показалось Николаю чужим и испугало его.
«Пожалуй – зря говорил я», – думал он, покачиваясь на ногах.
– Ты бы пошёл, поспал немного, – сказала Рогачиха, дотрагиваясь до его локтя. – Лица нет на тебе!
– А он как?
– Что ж – он? Его дело – не в наших руках… В случае – разбудим…
Николай вышел во двор, прошёл под поветь[3]3
Помещение под навесом на крестьянском дворе – Ред.
[Закрыть], лёг там в телегу, полную сеном, и тотчас заснул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































