Текст книги "Танго втроем"
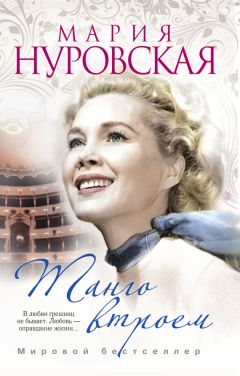
Автор книги: Мария Нуровская
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Переплюнуть Мастера отец может только в качестве чиновника. Слыхала, что он метит на место ректора…
Постепенно до меня начало доходить, зачем она все это говорит. Она просто забалтывала меня, чтобы я не сумела вклиниться со своим вопросом о ее матери. В нашем разговоре до этого вопроса дело так и не дошло.
Исчезновение Эльжбеты, невозможность с ней увидеться усугубляли во мне внутренний хаос и чувство неуверенности. Как я могла понять своих персонажей, если переставала понимать сама себя? «Кабалу святош» мы репетировали дважды в день, как и пригрозил нам режиссер в тот фатальный вечер несостоявшейся премьеры. Каждый раз, когда я входила в театр, во мне вновь рождалась надежда, что, быть может, сегодня Арманда захочет проявить себя, но она по-прежнему на меня дулась. Упорно стояла за кулисами, не желая выходить на сцену.
«Может, на генеральной репетиции что-нибудь изменится… или на премьерном показе», – утешала я себя. Надежды на это, правда, было мало. И как оказалось, правильно: ни во время последней репетиции, ни на премьерном показе Арманда не соизволила выйти из кулис. Бросила меня одну, а я мямлила ее слова с нараставшим страхом в душе… Ни разу не ошиблась, не упала, даже не споткнулась, довела эту подмену до конца…
Режиссер, предложивший мне роль Маргариты в «Мастере и Маргарите», настаивал, чтобы я наконец приняла решение. А как я могла что-либо решать, если не понимала, что со мной происходит? И откуда взялась эта внутренняя растерянность?
– Дорогая Оля, – говорил он уже слегка раздраженным тоном, – хотелось бы вам напомнить, что Александра Полкувна – не единственная актриса в нашей стране.
– Ну что ж поделать, я с головой ушла в работу над ролью Арманды, – отвечала я извиняющимся тоном – никакого другого оправдания мне в голову не приходило, но, если бы бедолага знал, насколько я погружена в свою старую роль, он с воплем бросился бы бежать от меня.
Я честно пыталась поговорить о своих проблемах с Зигмундом. Пыталась объяснить ему свои страхи. Я говорила, что боюсь растеряться на сцене, начать заикаться. Но он только отмахивался, утверждая, что актеры частенько бывают не в форме, особенно из-за переутомления. В общем, резюмировал он, не бери в голову, дорогуша. Все пройдет без следа. Может, это и вправду переутомление, размышляла я про себя, и действительно скоро пройдет? Но в глубине души засел страх, и мне казалось, что он с каждым днем будет только нарастать. Об этом пока еще никто не догадывается, но вскоре это всем станет видно. Что я просто не в состоянии ничего сделать на сцене, что моя новая роль рассыпается у всех на глазах. То же самое произойдет со второй, а потом с третьей. Фанфары возвестили о моем дебюте, под фанфары я и провалюсь, с позором покинув сцену. Тысячу раз был прав Яловецкий, предупреждая меня о том, насколько легко в театре упасть с неба в ад. И я уже в преддверии этого ада.
Все говорило о том, что Эльжбеты нет в Варшаве. Я, якобы случайно, оказывалась в районе Эльжбетиного дома – теперь это происходило довольно часто. Зигмунд подарил мне на день рождения итальянский автомобиль «фиат-чинкваченто», и теперь я могла обойтись без такси. До этого я велела шоферам, проезжая мимо ее дома, притормаживать – смотрела во все глаза, нет ли света в каком-нибудь из окошек, а потом ехала обратно в центр. Таксистам, должно быть, это казалось странным – на обратном пути они то и дело поглядывали на меня в зеркало заднего вида. Однажды я даже решилась позвонить в калитку дома по соседству. Мне открыл пожилой, поджарый мужчина. Когда я попросила его передать записку его соседке справа, он ответил, что, кажется, она уехала надолго, потому что за домом теперь присматривает ее дочь. Даже выразил готовность дать мне номер телефона «пани Эвуни»: «Ведь вы знакомы с пани Эвуней?» – «У нас скорее мимолетное знакомство», – ответила я уклончиво.
Так значит, она уехала. Куда и на какое время? Эти вопросы оставались без ответа. Обиняками я пыталась выведать что-нибудь у Зигмунда, спросить напрямик боялась – он явно избегал разговоров на тему бывшей жены.
– Где она, один Бог знает, – неохотно ронял он.
– А ваша дочь?
– Не «ваша» дочь, а ее дочь!
И больше ни слова.
Я не раз размышляла, кем же на самом деле была для меня Эльжбета? Определенно, отправляясь к ней с первым визитом, я и не думала о том, чтобы подружиться с ней. Это было бы смешно – молодая жена идет к старой и протягивает руку для примирения. Скорее всего, я шла протянуть руку помощи… Терзаемая странным чувством вины, я не справлялась со своим положением второй жены, ощущая своего рода растерянность, и, быть может, бросилась к ней в поисках одобрения или даже прощения… Конечно же это было наивно с моей стороны, но я вообще склонна смешивать рождающиеся в моей голове фантазии с реальностью. Причем до такой степени, что действительность становится чем-то менее реальным, чем мои вымыслы. Ведь как получилось: я на сцене начала примерять на себя роль, которую играла Эльжбета, знала наизусть весь ее текст и вместе с ней мысленно проговаривала его. И в своем отождествлении себя с ней зашла так далеко, что и вне сцены мне казалось, что мы с ней становились одним организмом, не только в творческом, но и в физическом смысле. В моих ощущениях мы как бы срослись, будто на одном теле сидело две головы, совсем как у сиамских сестер, которые вполне могут иметь одного мужа на двоих. В своей голове я сотворила какого-то мутанта, а подобные существа долго не живут. Погибают. И сейчас я погибала вместе с этим уродливым существом… Возможно, я оказалась на грани безумия, и то, что сказал Дарек о моей оценке актерской игры Эльжбеты, стало подтверждением моего пограничного состояния. Вполне возможно, зрители воспринимали бы ее на сцене иначе. Но какое теперь это имело значение? Сейчас дело было не в ней, а во мне. Что станет с моей дальнейшей карьерой? Кем буду я, если не смогу больше играть?
В один из дней после нашей второй, как я ее называла «подменной», премьеры в нашем театральном буфете ко мне за столик подсел Яловецкий.
– Пан Адам, вы ведь тогда присутствовали на генеральной репетиции, я видела, вы сидели во втором ряду…
– Охо-хо, мне не на одном генеральном прогоне приходилось бывать, к сожалению, – вздохнул он, давая понять, что от современного репертуара, как и от уровня его исполнения, он не в восторге.
– Я имею в виду генеральную репетицию перед премьерой, которая не состоялась.
– А-а…
– Какое впечатление произвела на вас игра Эльжбеты Гурняк? – спросила я. О себе мне было неудобно спрашивать.
– Если уж говорить совсем откровенно, то большим потрясением для меня была игра вашего партнера. Его интерпретация роли показалась мне очень интересной…
– И все-таки что вы скажете о ней…
– У нее жуткая дикция, это очень мешает восприятию, но в визуальном смысле упрекнуть ее не в чем. Но звездой всего спектакля, как обычно, были вы. Когда вы произносите: «Нет, нет… она моя сестра!», в этом восклицании есть все, что должно быть в театре: талант, глубина, правда! Я до сих пор хожу под впечатлением, вы были ослепительны. После Ирины в «Трех сестрах» это ваша лучшая роль…
– А когда мы играли в измененном составе, было хуже, да?
– Опять-таки, если откровенно, то да. Видимо, вы немного перегорели. Такое трудно повторить.
«В том-то и дело, что не перегорела, – подумала я, – не вытянула роль, вот в чем трагедия». И как с этим быть, просто не знаю. Мое присутствие сводится теперь только к визуальному, как точно сформулировал критик похожую ситуацию в отношении Эльжбеты. А внутри я словно закрыта на ключ. И где мне искать его, этот ключ? Если я к тому же не знаю, кто повернул его в замке? Не сама ли я сделала это? И как мне себе помочь? В конце концов я решила больше не морочить себе голову ненужным самокопанием и выбила у врача больничный, изобразив приступ ишиаса, – актриса я или нет, в конце концов! Однако оказалось, что сидение в четырех стенах не слишком помогает – меня хватило лишь на три дня. Я даже пыталась примериваться к роли Маргариты. Но на деле выходила Арманда…
Измучив себя до крайности, я села в свой «фиат» и рванула к Дареку. Похоже, это входило у меня в привычку – прятаться от сложных жизненных обстоятельств на Урсынове. Как будто я хотела одним махом перепрыгнуть через трудную преграду и вернуться к началу. Через минуту вспыхнет свет рампы – и я выйду на сцену в роли Ирины… Ирины, а не Арманды…
Дарек принял меня прохладно, но на другой прием я и не рассчитывала. Без лишних слов прошла в спальню и начала раздеваться.
– Ты что вытворяешь? – воскликнул он.
– Хочу с тобой переспать.
Он как-то неприятно, гортанно расхохотался:
– А что будет, если явится твой муженек? И спросит, спим ли мы с тобой? Что тогда?
– Дарек, – покорно сказала я, – ты мне нужен…
– Я или мой член, позвольте узнать?
– Не будь пошляком.
Он снова расхохотался:
– Это ты ведешь себя как вульгарная девка. Появляешься здесь, когда тебе захочется, и потом, когда захочется, уходишь. Одна или в обнимку с провожатым.
Я присела на кровать и натянула до подбородка одеяло – меня всю трясло, зубы стучали.
– Что с тобой? – спросил он уже другим тоном.
– Хочу, чтобы ты меня обнял, – сказала я голосом капризного ребенка.
Он разделся и залез ко мне под одеяло. Совсем близко от себя я ощущала его тело, и это было тело не того прежнего, нескладного мальчика, который путался в своих длинных ногах и руках, а прекрасное мускулистое тело широкоплечего мужчины. И я подумала: единственное, что меня сейчас на свете интересует, это его молодое тело. И то, что я его хочу. Хочу быть для него желанной. Мы вцепились друг в друга как безумные, в каком-то полузабытьи, опьяненные любовной близостью. За многие ночи и дни я впервые почувствовала себя самой собой. Словно я отыскала свою собственную личность, могла свободно дышать, как раньше, чувствовать наслаждение, смеяться и плакать. Я так и делала – то смеялась, то плакала. Дарек смотрел на меня с беспокойством.
– Что ты так смотришь? – спросила я, вытирая слезы. – Я плачу, потому что чувствую себя свободной! Наконец-то свободной! И смеюсь от этого. От счастья!
Дарек, к сожалению, воспринял это буквально:
– Ты ушла от него?
Его вопрос ошарашил меня, сбил с толку.
– Н… нет.
– А уйдешь? Теперь уйдешь? – выделил он голосом слово «теперь».
– Не хочу сейчас думать об этом, – ответила я. – У меня был трудный период… не клеилась работа над ролью…
– И ты подумала, что хорошим лекарством от этого будет секс?
«О боже, до чего же мужчины всё извращенно понимают», – подумала я.
После этого поднялась с постели и начала натягивать на себя одежду. Он молча смотрел, как я одеваюсь. Выйдя в прихожую проводить меня, сказал:
– Если сейчас ты вот так уйдешь, я больше никогда не впущу тебя.
Я усмехнулась:
– И зачем ты это говоришь? Мы оба знаем, что ты не переставал меня любить… и будешь впускать всякий раз, как только я постучусь к тебе…
Он ударил меня по лицу. Несмотря на это, прежде чем уйти, я закончила:
– И я не переставала любить тебя… до конца…
Я бегом сбежала вниз по лестнице – очень спешила. Можно сказать, неслась навстречу своей новой роли, которую, я была в этом уверена, смогу теперь сыграть. Эта роль уже поджидала меня. Сценарий лежал в моей однокомнатной квартирке на прикроватном столике, рядом с незаправленной постелью – в такой спешке я отсюда недавно бежала. В этот момент я снова убегала, только на этот раз, чтобы вернуться. Две мои жизни шли параллельными путями, были как два электрода, обозначенных «плюсом» и «минусом». Только вот на котором из них был «минус»? Пока я ехала домой, во мне крепла уверенность, что отрицательный знак находился на стороне Дарека. Когда же взяла в руки текст и не смогла прочесть ни одного предложения голосом Маргариты, подумала, что день, в который я познакомилась с Зигмундом, и день встречи с его женой – это черные дни моей жизни. Но с другой стороны, моя встреча с Зигмундом произошла в тот день, когда я впервые переступила порог театральной школы. Так может, я просто выбрала не ту профессию? Или Дарек все-таки прав: слишком рано я вышла на театральные подмостки и теперь была как тот новичок, которому велели спроектировать мост, а он этого еще не проходил. Ничего удивительного, что мост начал рушиться…
Пронзительно зазвонил телефон, который появился у нас всего несколько дней назад: по настоянию Зигмунда хозяева квартиры, которую мы снимали, наконец добились его установки. Я не была к этому готова, просто не хотела вести телефонные разговоры, независимо от того, кто был на другом конце провода. Звонивший конечно же был последним человеком, с которым мне хотелось бы поговорить: режиссер «Мастера и Маргариты».
– Пани Оля, – услышала я в трубке, – надеюсь, вы уже выздоровели? С понедельника мы начинаем репетиции.
«А разве я уже дала согласие? – судорожно соображала я. – Скорее всего, да, раз он так говорит».
– В общем-то, еще не совсем, – ответила я осторожно.
– Понимаю, но до понедельника ведь есть еще несколько дней.
– И это радует, – сказала я.
Хорошо бы за эти несколько дней удалось наконец выйти из замкнутого круга предыдущей роли – Арманды. А что, если озадачить этим Зигмунда? Он же мой преподаватель и должен был подготовить меня к тому, что такие вещи случаются в театре, научить, как выходить из такого положения. Кстати, сам-то он умеет это делать? Вовремя ли переключает рычаг скорости на «нейтралку»? А тут еще эта идея снять фильм о Лонцком… Садится ко мне на постель и начинает читать отрывки из сценария, который только что закончил писать. Слушаю я или не слушаю, ему, кажется, неважно, он читает вслух страницу за страницей, больше для себя, чем для меня…
Ночь. Ночь в театре. На сцене Актер повторяет текст, сам себя поправляет, оживленно жестикулируя, будто ведет диалог с тенью. Вспыхивает яркий свет рампы. Актер щурится, вид у него явно испуганный… Одет он небрежно, в черный свитер под горло, на который неряшливо, сосульками, свисают пряди давно немытых, сильно поредевших волос; на щеках – трехдневная щетина.
Голос из мегафона. Кто вы? Кем вы себя ощущаете? Будучи членом Центрального комитета партии, вы чувствовали себя коммунистом или это была игра? А если игра, с кем вы играли и у кого хотели выиграть?
Кто-то невидимый громко смеется, Актер начинает нервно озираться в поисках источника смеха, на его лице отражается паника…
«И как ты сыграешь панику? – думаю я. – Только ему это было под силу. Лонцкий мог бы сыграть Лонцкого, но он уже не сделает этого никогда. Так зачем все эти усилия, телодвижения? Сценарий хорош, но нет актера, который сыграл бы главную роль. Артист, на которого рассчитывает сценарист, не годится для этой роли! Эти длинные, неряшливо падающие на плечи волосы должны быть накладными, париком, так ведь? Допустим, щетина могла бы быть своей. А черный свитер? Это будет та самая водолазка?»
Как мне сказать об этом Зигмунду? Что я не могу избавиться от Арманды, что она оседлала меня и не желает слезать? Ведь это будет выглядеть психическим заболеванием. А может, так и есть?.. Я пришла в такой ужас от этой мысли, что на лбу у меня выступил холодный пот. Только не это… Да нет, не может быть, психи не отдают себе отчета в том, что больны, а я готова была описать в подробностях все симптомы болезни, которая была скорее каким-то театральным поветрием. Вполне возможно, что многие в театре проходили через нее, только не хотели в этом сознаться. И то правда, хвалиться было нечем. Героиня, сотворенная пером драматурга на бумаге, подмяла под себя живого человека и теперь навязывала мне свои условия и ждала моей капитуляции. Однако она была не целиком вымышленным персонажем, Арманда существовала на самом деле, но даже в произведениях одного и того же писателя жизнь ее протекала по-разному. В пьесе она покидает Мольера, а в романе остается с ним до конца. А как было в действительности, никому неизвестно. Какие чувства она испытывала, о чем думала и мечтала, связав свою судьбу со старым человеком? Она была такой юной… А что такое вообще союз пожилого мужчины с молоденькой девушкой? Эльжбета как-то презрительно бросила: «Просто старики нуждаются в молодых гормонах. Им кажется, что, женившись на молодухе, они тем самым сумеют отсрочить старость и смерть». И рассказала мне о том, как однажды попала в гости к известному и модному во времена ее молодости драматургу. Сейчас его пьесы почти забыты, но на протяжении долгого времени они не сходили со сцен разных театров. Она поехала к нему вместе с Зигмундом, оба были молоды и еще учились в театральной школе. Кажется, он пригласил их на свой день рождения. Жил драматург под Варшавой, в бревенчатом доме, доставшемся ему в наследство от родителей. Когда умерла его спутница жизни, с которой он прожил многие годы, он познакомился с женщиной, моложе себя на двадцать лет. Женился на ней, и она превратила их совместную жизнь в ад.
– Потому что была моложе его? – наивно спросила я.
– Нет, оказалась сумасшедшей.
«Неужели она так же думает обо мне?» – пронеслось у меня в голове, а Эльжбета, будто угадав мои мысли, усмехнувшись, сказала:
– Нет, о тебе я так не думаю. О тебе я думаю, что ты помешанная, но совсем немного, к тому же твое легкое помешательство из другой оперы.
А тогда они с Зигмундом из темных сеней попали прямо в большое мрачноватое и почти пустое помещение. У стены на лавке сидел драматург. Он выглядел тяжелобольным человеком, и кажется, на самом деле тяжело хворал. Его нынешняя супруга с виду производила впечатление особы весьма странной, одетой к тому же чрезвычайно вызывающе. На ней была кофточка, тесно облегавшая грудь, а узкая юбка – настолько короткой, что казалось, будто она наскоро подпоясалась полотенцем. В ее облике было что-то непристойное, вульгарное. Она суетилась, быстро что-то лопотала, нервно размахивая руками.
Она совсем не подходила этому человеку.
– Зато молодая, – не удержавшись, встряла я.
– Не так уж она была молода – когда они поженились, ей было пятьдесят пять, то есть на год старше, чем я сейчас.
– Да ты что! Правда?! – удивилась я. – Сколько же тогда было ему?
– Семьдесят пять.
– И зачем ему это понадобилось?
Эльжбета пожала плечами:
– Зигмунд задал тот же самый вопрос, когда мы покинули их дом…
На этот вопрос могла бы ему ответить я, вернее, сам писатель – через какое-то время после нашего с Эльжбетой разговора варшавская «Вечерка» поместила на своих страницах воспоминания о нем. Были напечатаны и некоторые фрагменты его писем, в числе прочего – к его последней жене, которая, впрочем, и ускорила его уход, когда отказалась давать ему лекарства, а затем стала причиной гибели его фамильного гнезда – она подожгла их бревенчатую избу. Сама же женщина закончила свои дни в сумасшедшем доме. Вот вам история, достойная пера…
Ведь это мой стиль, я тебя создал, и поэтому ты должна меня любить…
Наверное, я бы не приняла этих слов на свой счет, если бы Эльжбета не рассказала мне о той супружеской паре. И о том, что побывала с Зигмундом в этом уже несуществующем доме, у давно умершего писателя и его жены… Актеры ушли со сцены, декорации сгорели. Конец фильма. Само время закрыло их дело. Но мое еще было открыто, точнее, наше с Зигмундом. У нас была такая же разница в возрасте, как у них. И похожие мысли Зигмунда обо мне – ты должна меня любить, потому что это я создал тебя. «Ведь это мой стиль…» – он никогда такого не писал, но, скорее всего, так думал. А подумал ли он о цене, которую нам придется заплатить? Быть может, я уже плачу…
* * *
Я требовала от нее слишком многого. Старалась убедить, что необходимо преодолевать собственную слабость. А сама что? Моя жизнь распадается на кусочки, и не из-за тяжелых травм, полученных в автомобильной аварии, а скорее потому, что я не в состоянии внутренне собраться, прийти к гармонии с самой собой. Уцепилась за одну-единственную мысль: вот придет она ко мне, и все мои проблемы сами собой решатся. И что мое «Быть или не быть?», как стрелка компаса, отклонится в сторону «быть»…
* * *
Каким же потрясением был для меня тот момент, когда я заметила свет в ее окне… По накалу эмоций это было сродни выигрышу в лотерею. Я так резко затормозила, что моя машина чуть ли не встала на дыбы, и вот уже несусь в сторону калитки. Но в ответ на мой звонок никто не открыл калитку, а свет в окне на первом этаже потух, но так и не зажегся ни в одном из окон второго этажа. Спрятавшись за угол, я ждала. Из дома никто не выходил. А ведь внутри кто-то был.
Наутро, ни свет ни заря, я опять приехала к ее дому, но вела себя более осмотрительно. Машину припарковала в соседнем переулке и затаилась за углом, под защитой фонарного столба. Примерно через час я увидела, как она выходит из дома. Эльжбета была одета во все черное, платок, туго завязанный под подбородком, тоже был черным, на лице были такие же очки. Эти очки мне были уже знакомы. Сохраняя дистанцию, я ринулась за ней и с удивлением проследила, как она вошла в костел. Переждав немного, я тоже зашла в костел. Спустя какое-то время, поискав ее глазами, заметила, что она стоит возле исповедальни. Неужели пришла на исповедь? В голове сами собой всплыли слова: «Всю жизнь грешила, мой отец. Была великой блудницей, лгала, много лет была актрисой и всех прельщала…» Я была чуть ли не в полной уверенности, что в тот момент она произносила именно эти слова. Ну конечно, не явилась на премьеру, потому что ей это стало не нужно. У нее был свой театр, а со Зрителем в этом театре не шла ни в какое сравнение вся публика целого мира… Я смотрела, как она причащается, молится, потом встает с колен и идет к выходу. Из костела я выскочила первой и стояла на площади чуть в отдалении. Площадь была пустынна, она не могла меня не заметить. Эльжбета чуть помедлила на верхней ступеньке.
– Ты все никак не оставишь меня в покое? – враждебно спросила она.
Я молча покрутила головой. Эльжбета спустилась и зашагала по тротуару. Я засеменила рядом с ней.
– Тебе обязательно надо знать, почему я не пришла на премьеру?
– Уже нет, – коротко бросила я.
Она повернула ко мне голову, но ее глаз мне не было видно – их скрывали очки.
– Чего же ты хочешь от меня?
– Произошло что-то такое… Я утратила способность играть… Мне трудно выстраивать новую роль, потому что я не сыграла Арманду с тобой… Она не дает мне покоя…
– Да ведь премьера состоялась.
– Только я в ней не участвовала.
– Как это?
– Прочитала свой текст, и все. Но роль не сыграла. И… боюсь соглашаться на новую. Играю в повторных спектаклях и умираю от страха перед новой ролью… Об этом пока еще никто не знает… кроме меня и – теперь – тебя…
Она снова посмотрела на меня, и я опять не увидела ее глаз.
– Кто копает яму другому, сам в нее попадет, – сурово сказала она.
– Никому я не собиралась копать яму.
– Неужели? Ты в этом уверена? Ну да, заявилась ко мне по доброте душевной, а я по доброте душевной тебя приняла?
Она ускорила шаг, а я, стараясь не отстать, чуть ли не бежала за ней.
– Я только за себя могу говорить.
– Ага, и сердечко у тебя доброе?
– Думаю, да.
Она резко остановилась посреди тротуара, обернулась ко мне и сняла черные очки. У нее было злое, напряженное лицо, которое я почти не узнавала.
– Ты так ничего и не поняла?! Что нельзя являться к брошенной жене, с мужем которой ты спишь в одной постели?! Я впустила тебя, потому что мне было интересно посмотреть на ту, которую он каждую ночь обнимает. Даже согласилась выйти на сцену, и все ради того, чтоб полюбоваться на вас обоих… но ничего нового не увидела. Честное слово, ничего нового! Я все это проходила! Все повторяется, только тебе сейчас двадцать с чем-то, а мне тогда было поменьше… Мне противно до тошноты, когда думаю о вас, о себе, о себе с ним… Я теперь другая…
«Да, другая, – подумала я, – теперь ты Мадлена, которая ходит в костел, потому что „видит дьявола и боится его“».
– Ты что на меня так смотришь? – спросила она подозрительно.
– Ты ведь хотела, чтобы репетиции не кончались… чтобы они продолжались… Ты присвоила себе роль Мадлены, отождествила себя с ней… В чьих грехах ты признавалась сегодня исповеднику?
– Но-но, полегче, – зашипела она. – Не забывай, что один раз ты уже схлопотала от меня по лицу.
– Можешь снова меня ударить, – сказала я с равнодушным видом.
Она пристально взглянула на меня, потом надела очки и пошла вперед, но уже не таким быстрым шагом. Мы шагали рядом, на сей раз в полном молчании, пока не добрались до ее дома. У калитки она приостановилась, как будто в сомнениях.
– Ну, входи уже, – наконец сказала она со вздохом. Все повторилось, как в последний раз: Эльжбета внесла поднос, на котором стояли две чашки и сахарница. Мы с ней снова пили чай, но после всего случившегося уже не были прежними. Не знаю, что она думала обо мне. А я размышляла о том, что, придя к ней в тот, первый раз, я совершила страшную ошибку. Поманила ее миражом, который мог оказаться опасным для человека, увязшего в жизненной пустоте. Теперь у нас с ней возникла одна и та же проблема: я всячески старалась избавиться от этого призрака, а она – остаться с ним как можно дольше, но и в моем, и в ее случае в этом было что-то противоестественное, болезненное.
Я беспомощно оглянулась на девочку с белой голубкой, изображенную на картине, будто искала у нее поддержки. Потом собралась с силами, чтобы задать Эльжбете давно мучивший меня вопрос:
– Ты не пришла на премьеру, потому что прочитала в журнале то интервью?
– Какое интервью? – Ее удивление было неподдельным, скорее всего, она не притворялась.
– Разве ты не читала нашего с Зигмундом интервью в одном журнальчике? Номер вышел за день до премьеры… ну, той, что отменили…
Она смотрела на меня широко открытыми глазами:
– В каком еще журнале?
– Забыла название. – Название действительно вылетело у меня из головы. Я была так взволнована, что, наверно, с трудом вспомнила бы сейчас свои имя и фамилию. – В одном из этих глянцевых…
– Ну, не читала, и что? – спросила она. – Что в нем было такого, чтобы мне из-за этого не прийти на премьеру?
– Скажу, если ты ответишь, почему не пришла, – сказала я с полуулыбкой.
Она тоже загадочно улыбнулась:
– Я тебе уже все объяснила. А не явилась на премьеру, потому что пришла к выводу, что член Зигмунда меня больше не интересует.
Голова у меня вдруг пошла кругом, руки затряслись так, что я едва могла удержать чашку в ладони. Пришлось поставить ее на блюдечко.
– Чего ты так разволновалась? Я пыталась тебе объяснить, но, как видно, ты мне не поверила. Ну и получи, раз хотела…
– Я не хотела, не хотела! – вскинулась я.
Проигнорировав мой приступ возмущения, она продолжила:
– После его ухода у меня крыша поехала… я все время сокрушалась, что нет мужских штанов в доме, что нет его бритвы в ванной… Чуть не спятила по-на сто ящему. Прямо как наша такса, которая, до того как сдохнуть от старости, каждый раз открывала дверь в ванную и, вытащив из корзины с грязным бельем штаны Зигмунда, измусоливала их и выгрызала ширинку – все дело было в его запахе… Я тоже тосковала по запаху самца… Хотя бы еще разочек приблизиться к нему… Вот и приблизилась, не имея другой возможности, на сцене… И что из этого вышло?..
Щеки у меня горели, я боялась, что еще минута – и из них брызнет кровь.
– Почему ты так вульгарно выражаешься?
– Я?! Вульгарно?! Это пьеса под названием «Трое на качелях» вульгарная, а не я…
«Она тоже придумывает названия», – промелькнуло у меня в голове.
– Ты думаешь, я нехорошо поступила, когда пришла к тебе тогда?
В ее взгляде я заметила смятение. Быть может, она чувствовала то же, что и я: не знала, как расценивать наше с ней знакомство.
– Какое это теперь имеет значение? – помолчав, сказала она.
– Для меня имеет.
– Потому что не знаешь, сыграла ты в какой-то пьесе или нет? Прекрати ломать голову над этим и приступай к следующей роли.
– Не могу! – воскликнула я. – Пока ты играешь Мадлену, я должна быть Армандой!
– Деточка! Да ты с ума сошла?!!
Мы в упор смотрели друг на друга.
– Почему ты ходишь исповедоваться в будний день? Потому что так делала она?
– А откуда ты знаешь, когда она ходила? Этого нет в пьесе!
– Зато есть в книжке.
И мы снова уставились друг на друга.
– Всем известно, что Мадлена под конец своей жизни стала слишком религиозной, ежедневно ходила на исповедь и, простертая ниц на полу, молилась в костеле.
– И кому это «всем»? – прошипела она.
– Ну… всем в театре.
– Мы – не в театре. И я могу делать все, что мне заблагорассудится, хоть по два раза на дню ходить в костел и исповедоваться… даже три, пять, да сколько угодно раз…
По моим щекам потекли слезы.
– Ты чего разревелась, что я такого сказала?
– Боюсь, я не понимаю, что за роль у тебя сейчас.
– Какая роль? Я ничего не играю. Молюсь, и все.
– Она тоже говорила, что молится! Архиепископ Шаррон ее спрашивает: «Чем спасаешься от дьявола?» А она отвечает: «Молюсь». И тогда он говорит: «Господь за это вознесет тебя и полюбит».
– Надеюсь, что так и будет, – тихо сказала Эльжбета.
Я не могла больше этого слушать, вскочила и выбежала из дома с плачем. Проревела в своей машине всю дорогу домой.
Почему я не сделала никаких выводов из этого разговора? Неужели я не в состоянии была понять, что переходить дорогу Эльжбете небезопасно для меня? Если бы перестала бегать за ней, быть может, все потихоньку бы пришло в норму. Ведь я уже начала работать над ролью Маргариты, и это доставляло мне большую радость. Появилась надежда, что я снова смогу стать собой, что место Арманды наконец освободилось и теперь его может занять другая героиня… Но правда заключалась в том, что Арманда возвращалась, когда ей вздумается. Для меня это означало простой, невозможность работать над новой ролью. Тогда я садилась в машину и ехала к Эльжбете. Но вместо Эльжбеты меня встречала Мадлена. Я уже знала, что если не застану ее дома – значит, найду в костеле. Я была не в силах переносить все это, включая и ее облик. Она была с ног до головы одета в черное… А ее лицо! Впечатление было такое, будто она пребывала в ином мире и неустанно твердила: «Хочу слушать вечную службу…» Опять текст из пьесы. Она, по крайней мере, выглядела счастливой, зато я – нет.
Однажды я решилась поговорить с ее духовником. Подождала, пока Эльжбета удалится на безопасное расстояние, и вошла в исповедальню:
– Святой отец, вы только что исповедовали одну женщину… актрису…
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, – услышала я в ответ.
– Извините, я не на исповедь. Хочу вас, ксёндз, предупредить, что эта женщина… признается не в своих грехах, она разговаривает с вами репликами из пьесы «Каб…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































