Текст книги "Россия и ислам. Том 1"
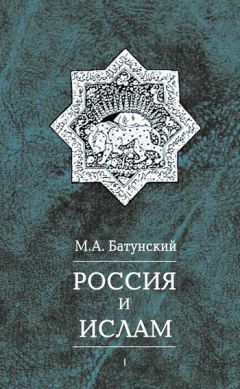
Автор книги: Марк Батунский
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
156 Хотя на самом деле выбор уже сделан – и не только вследствие только что названных стратегических соображений, но и под давлением имплицитно существовавшей у Владимира категориальной установки, организовавшей именно христианобежную направленность его мышления, структуру предметно-логического «пласта» его сознания.
157 См.: Понимание как логико-гносеологическая проблема.
158 Легенды о том, что к языческим народам приходили миссионеры, представлявшие разные религии, бытовали и среди соседей Руси – скандинавов, болгар, хазар и др. (см.: Будовниц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси. М., 1960. С. 75). А.А. Шахматов, например, не раз привлекал внимание к связям летописного сказания о крещении Владимира с болгарской письменностью и даже утверждал, что «русское сказание перелицевало болгарское» (Шахматов А.А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира // Сборник статей по славяноведению, посвященный М.С. Дринову. Харьков, 1908. С. 74). Против этого тезиса возражает Р.В. Жданов (Крещение Руси и Начальная летопись // Исторические записки. T. V. С. 3–15). И если этот вывод кажется не вполне фундированным (Будовниц И.У. Указ соч. С. 75), то тем не менее остаются в силе соображения Шахматова о влиянии различных легенд относительно крещения болгарского царя Бориса на повесть о крещении Владимира (см.: Шахматов А.А. Один из источников. С. 63–74; Его же. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 152–153). Особенно близок, резонно замечает И.У.Будовниц (Там же), летописный рассказ о внешних обстоятельствах принятия христианства Владимиром к легенде, связанной с принятием иудаизма хазарским каганом (Коковцев П.К. Еврейско-хазарская переписка. С. 78–80, 94–97). Летописный рассказ о посылке Владимиром послов в разные страны для «испытания вер» находит себе параллели и даже какой-то отзвук в мусульманской историографии (см.: Бартольд В.В. Новое мусульманское сказание о русских // Записки Восточного отделения Русского географического общества. T. IX, вып. I IV. СПб., 1896. С. 262–265; Его же. Арабские известия о русах // Советское востоковедение. Т. 1. М.—Л., 1940. С. 40; Заходер Б.Н. Еще одно раннее мусульманское известие о славянах и о русах IX–X вв. // Известия Всесоюзного географического общества. T. XXV, вып. 6. 1943. С. 37).
159 К тому времени Волжская Булгария была уже сравнительно развитой страной (см. подробно: Смирнов А.П. Волжские булгары. М., 1951). К моменту приезда сюда в 922 г. посольства багдадского халифа она имела своих интеллектуалов, в том числе историков, здесь функционировало медресе и вообще шло, после принятия ислама, интенсивное сближение с арабо-мусульманской цивилизцией (см.: Материалы по истории Татарии. Вып. 1. Казань, 1948. С. 178; Каримуллин А.Г. У истоков татарской книги. Казань, 1971. С. 13–14, 16).
160 Ауэрбах Э. Мимесис. Пер. с нем. М., 1976. С. 251.
161 Это такой пропагандистский прием, который Эрих Ауэрбах назвал техникой прожектора. Суть его в том, что «из целого выхватывается маленький участок и освещается необычайно ярким лучом; все же остальное, благодаря чему взятую часть можно было бы объяснить и поставить на надлежащее место, вообще все то, что способно служить противовесом отдельно взятой части, остается в полнейшем мраке; кажется, что высказывается нечто истинное, и сказанное невозможно даже оспорить, тем не менее все в целом – фальсификация, поскольку истина существует только в целом, в правильном соотношении всех частей» (Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 404).
162 Митрополит Илларион (первая половина XI в.) требовал признания Владимира блаженным, ибо тот сам «не видевши (Христа) – веровавша», «не виде апостола пришедша на землю твою», не видел чудес, а уверовал «токмо от благааго помысла и остроумия» и т. д. (см.: Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913. С. 107).
163 Повесть временных лет. Ч. 1. С. 257–258.
164 В оригинале – Бохъмит.
165 Психоаналитики вправе назвать это «провоцирование сексуальных рефлексов».
166 Поэтому-то вполне правомочной кажется и такая реинтерпретация истории «испытания вер», где так ярко поданы многие черты характера Владимира. Он (впрочем, ничего большего и не требовала отведенная ему «Повестью временных лет» роль) стремился разные, претендующие на тотальную истинность и столь же непререкаемую эстетическую респектабельность культурно-конфессиональные системы воспринять в их одновременности, под разными углами их сопоставить и противопоставить, дабы остановиться на одной, и только одной, из них. Все это – очевидно. Можно предположить, что каждая из конкурирующих религий в какой-то мере символизирует «противоречия» внутри одного человека – все того же «выборщика», «темные» и «светлые» (так сказать, потенциально христианобежные) стороны его духовного облика. Автор «Повести временных лет» переводит эти коллизии на особый, полифонически звучащий, пространственный полигон. Там и развертывается психологический и интеллектуальный поединок «расщепленного» героя с его «двойниками» (в каком бы жалком виде потом такие, как «иудаизм и ислам», ни представали перед взыскательной аудиторией).
167 Имеется в виду один из создателей славянской письменности (живший на самом деле в IX в.) (о нем – ниже). Первая версия об этом помещена в Древнейшем своде 1039 г. Источником ее был письменный памятник – о крещении болгарского князя Бориса – Михаила. (Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 24–25).
168 Повесть временных лет. Ч. 1. С. 259.
169 Там же.
170 Не забудем еще и о том, что (во всяком случае, на первых порах) все появлявшиеся в древнерусской культуре версии об исламе можно назвать «подражанием», затемняющим эмоциональное содержание формы и соответственно мешающим логическому выражению чувства.
171 Если вообще любая такого рода пропаганда обращается к относительно гомогенной, четко отграниченной, с точки зрения моральной, культурной, религиозной и т. д., аудитории, то она создает такой стиль, такой словарь, каждый элемент которых точно оценивается. Эта пропаганда с успехом способна применять свой язык к предметам и сюжетам, интерпретация которых ясна и безоговорочна с ее же собственной точки зрения; какое-либо латентное содержание исключается.
172 Можно было бы сказать – «псевдопонятий». Этим термином крупнейший советский психолог 20-30-х годов Л.С. Выготский обозначил слитность в едином комплексе представления с неотрефлектированным обобщением на основании действительных, но несущественных признаков. Псевдопонятия характерны для бытового, житейского обобщения, на котором задерживается мысль, не достигшая научного уровня (см.: Выготский Л.C. Избранные педагогические исследования. М., 1956. С. 197). И все же тогдашнее исламоведение (во всяком случае, те фрагменты его, которые мы только что процитировали) – это пропаганда, а следовательно, и (или – в первую очередь) искусство. В качестве же такового оно обладает (наряду, конечно, и с другими символическими системами) конструктивной способностью творить свой собственный феноменальный мир. И именно как плоды преимущественно искусства первые русские исламоведческие пассажи так щедро насыщены метафорами. Последние – недискурсивны и поэтому не утверждают идею, но формулируют новые понятия для нашего непосредственного имажинативного схватывания (см.: Langer S.К. Problems of Art. N.Y., 1957. P. 23).
173 К этой, столь интересующей нас гносеологической ситуации вполне подходят бергсоновские слова: «…Мы не видим самих предметов; чаще всего мы ограничиваемся тем, что читаем приклеенные к ним ярлыки… Мы движемся среди обобщений и символов» (Bergson H. Ouvres. Р., 1969. Р. 1342, 1343).
174 А она уже – проза, т. е. язык, очищенныи от его примитивнои экспрессивности (см. подробно: Cral В. La Poesia. Bari, 1937. P. 16) и более релевантный, нежели язык поэзии (а тем более фольклорный) для дискурсивного мышления.
175 Набор их мог быть – в потенции, во всяком случае, – довольно широким. Ведь в Византии «ни занятия теологией, ни образование… никогда не были… монополией духовного сословия. Наряду с образованными клириками здесь всегда имелись светские образованные люди, поставлявшие кадры для административного аппарата Империи… из этого слоя выходили неоднократно люди, занимавшие самые верховные церковные должности» (Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 35).
176 Само собой разумеется, что одновременно эти тексты должны были дать русскому духовенству образцы того, как следует раскрывать и толковать верующим важнейшие моменты христианской догматики, обрядности, морали.
177 Разумеется, эта литература не была одним лишь гигантским скопищем «лжи и басен». И все же в целом ранневизантийская идеология характеризуется (по сравнению с библейским мистическим историзмом, продолженным и дополненным в Новом Завете) «известной убылью историзма, известной нейтрализацией динамического видения мира, частичным возвращением к статическим мыслительным схемам метафизики и мифа…» (Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья // Античность и Византия М., 1975. С. 271). Ее – вообще присущий всему средневековью фидеистический рационализм (см.: Там же, С. 276) – не только не исключал, но, напротив, прямо требовал стандартизации мыслительно-оценочной деятельности. Этой же стандартизации в свою очередь способствовали другие особенности византийской культуры, сходные, кстати говоря, со средневеково-китайской. В каждой из них, пишет Б.А. Старостин (Старостин Б.А. Византийская наука в контексте средневековой культуры // Античность и Византия. С. 392), «специализация аппарата мышления в целях экзегезы древних текстов и управления привела в конечном счете к непригодности этого аппарата для эмпирических и технологических целей», в том числе (добавим мы с уверенностью) и для целей «социальной инженерии», подключая к этому понятию и чисто пропагандистские задачи. Что же касается «византийской рассудочности», то в основе ее «лежит не доказательство, а аналогия, подобие превращается в тождество, символы превращаются в реальности, осмысляются не как знаки, а как воплощение, а ассоциации занимают место внутренних связей» (Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968. С. 189).
178 См.: Флоря Б.Н. Сказание о начале славянской письменности. С. 16, 23.
179 Для нас этот памятник особенно интересен по следующей причине. Еще в 1937 г. С.В.Бахрушин (К вопросу о крещении Киевской Руси // Историк-марксист. 1937, кн. 2. С. 45–50) высказал мнение, (поддержанное вскоре Р.В. Ждановым (Крещение Руси и Начальная летопись // Исторические записки, Т. 5. 1939. С. 12–15), что введенный в «Повесть временных лет» мотив вероисповедного состязания мог быть навеян (наряду с еврейской легендой об иудаизации хазар) паннонским житием Константина-Кирилла. В целом, утверждает Жданов, материал для рассказа об «испытании вер», речи Философа мог быть взят из Хронографической Палеи. Но, с точки зрения Д.С. Лихачева, первое историческое произведение было составлено при Ярославе Мудром, и им стало так называемое «Сказание о распространении христианства на Руси», объединившее шесть рассказов, в том числе о крещении Руси и «испытании вер» (см.'.Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 62–76). Это, по утверждению Д.С. Лихачева, «единое произведение» и в идейном и в стилистическом отношениях имело антигреческое звучание и было направлено на защиту политической и религиозной самостоятельности Руси от Византии. Однако, утверждение это неубедительное и вызвано, скорее всего, желанием (типичным для времен написания книги «Русские летописи…») во что бы то ни стало доказать быстрый рост претензий Древней Руси на интеллектуальную и институциональную самодостаточность.
180 Рассказ о теологическом диспуте Константина с мусульманами (возможно, где-то между 851 и 852 г.) некоторые исследователи объявляют плодом вымысла агиографа, сочинившего этот «диспут» по образцу повествования о диспуте Константина с иудеями в период пребывания византийского миссионера в Хазарии. Другие историки считают возможным, что агиограф использовал написанный Константином (в форме диалога) антимусульманский опус (см. подробней: Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. С. 112–113). Нас, однако, интересуют лишь те сохранившиеся в «Житии Константина» мыслительные схемы, которые были вещью заурядной для его византийских коллег, но зато совершенно новыми для новообращенных славян. Ведь они должны были «детонировать» на вопросы, мысли, выводы, сомнения своих учителей по вере и защищать ее уже самим и от рафинированных нападок, и от грубой хулы представителей иных конфессий.
181 Впрочем, чуть ниже они же названы «людьми умными и начитанными, наученными геометрии и астрономии и другим учениям…» (Сказания о начале… С. 75).
182 Для нашей темы важно учитывать, что древнерусская культура восприняла византийскую, а не латинско-западную трактовку связи частного бытия человека с абсолютным бытием бога. Базой для теологических конструкций греческой патристики, как отмечает С.С. Аверинцев, была непосредственно воспринятая традиция платонизма и неоплатонизма с ее культурой объективно онтологической спекуляции и с ее опытом такой организации религиозного переживания, при которой мистика и экстаз теснейшим образом связаны с интуитивным продумыванием категориальных построений. «Западное богословие, – утверждает Аверинцев, – тоже дорожит идеей бытия как совершенства, и все же там онтологическая проблематика выступает несколько бледнее… дух греческой патристики более онтологичен, дух латинской патристики – более историчен; для первой Бог и человек суть прежде всего объекты бытийственных процессов, для второй – субъекты воли. Теология Востока ищет не только морально субъективного, но прежде всего бытийственно-объективного приобщения человеческой природы к божественной» (Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции. С. 47–48).
183 Такие трактаты были предназначены в первую очередь для «широкои публики», и потому их отличали простота и доступность языкового выражения, несложность синтаксических конструкций, широкое использование элементов сказочности, сюжетной занимательности, живой и непосредственный интерес к бытовым деталям и т. д.
184 Так складывалась ситуация в Византии, и во многом схожая судьба постигла и средневековую русскую культуру – «плотная, тяжелая прогрессирующая традиция», которая, как говорит Ортега-и-Гасет, возвышалась над «вдохновением дня». Иначе говоря, «между художником, который рождает, и миром каждый раз вставляется большое количество томов традиционных стилей, прерывая прямую и первоначальную связь между ними. Так что одно из двух: или уничтожающая традиция для удаления всякой оригинальной потенции – это было в Египте, Византии, вообще на Востоке, – или тяготение прошлого над настоящим одинаково влечет за собой то, что меняется знак и наступает эпоха, в которой новое искусство выздоравливает понемногу от старого, которое его душит» (Ortega у Gasset J. La deshumanizacion delar-te // Obras complétas. T. III. Reviste de Occidente. Madrid, 1947. P. 380).
185 Это сравнение восходит к проповедям Григория из Назианза (Сказания о начале… С. 113).
186 Исайя. 53.8.
187 Сказания о начале… С. 75.
188 Там же. С. 76, 84.
189 Там же. С. 84.
190 Кажется предпочтительней говорить о «стереотипе ислама» и об «имидже» Мухаммеда. Стереотип более абстрактен, поскольку его задача – дать представление о целой категории однородных явлений; он обобщает сходные явления, а имидж, наоборот, акцентирует их специфику. Второе отличие – в характере формирования образа: стереотип сводит явление к минимуму черт, упрощая или гипертрофируя некоторые из них; «имидж» же наделяет явление выгодными пропагандисту характеристиками, обычно выходящими за пределы функциональных возможностей самого явления. Но далее – одно немаловажное затруднение. Обычно «имидж» несравненно более гибок, подвижнее, оперативнее стереотипа (см. подробно: Boulding К. The Image Knowledge in Life and Society. Michigan Press, 1961; Boorstin D. The Image, or What Happened to the American Dream. L., 1961; Bamow E. A History of Broadcasting in the United States. The Image Empire. Vol. 3. Oxford, 1973; Wickoff G. The Image Candidates: American Politics in the Art of Television. N.Y., 1968). Но что касается «стереотипа ислама» и «имиджа Мухаммеда», то различий в темпах их динамики и пластичности – практически никаких: они веками сосуществовали рядом в сознании христианского средневековья, взаимно дополняя друг друга, благо оба – «имидж пророка» даже в большей мере – наделялись отрицательными характеристиками.
191 Как и на Западе (см. подробно: Toussaret J. Le sentiment religieux en Flandre, a la fin du Moyen Age. P. 1960; Delemeau P. Le catolicisme entre Luther et Voltaire. P. 1971; Thomas K. Religion and the Decline of Magic. N.Y., 1971), на Руси христианство долго оставалось для многих «смесью практики и верований, подчас весьма далеких от евангельского учения» (Delemeau P. Le catolicisme P. 330). Вот здесь-то и надо придать особое значение «народной религии средних веков» с ее преимущественно устным характером (см. подробно: Manselli К. La religion populaire au Moyen Age: problèmes de methode et histoire. Montréal, 1975). То немногое, что народ усваивал из христианства (некоторые факты «священной истории», поучения апостолов, десять заповедей и т. п.), он заучивал наизусть. Но вокруг этого небольшого ядра стабильных элементов группировался сплав из многих других, и все это передавалось из уст в уста, постоянно изменяясь сообразно времени и месту, с непрерывными вариациями, обусловленными данным способом трансляции. В мире, где слово играло столь значительную роль, особую важность обретала личность, которая воспроизводила текст (одно и то же сообщение могло быть воспринято совершенно по-разному, в зависимости от социального и культурного статуса информанта). В «народной религии» тот, кто говорил, должен был завоевать доверие тех, кто его слушал. Для них, неграмотных и невежественных, всего убедительней звучала информация, в которой аффективные и эмоциональные ценности преобладали над логическими, где бы идеи представали в конкретном, ощутимом облике, а не в абстрактных терминах. И далее. Как отчетливо видно из тех фольклорных произведений, где отражены взаимоотношения Руси с мусульманством (и не только им, но и с язычниками-кочевниками), предпочтение отдано качественным характеристикам времени; нет хронологии, что свидетельствует о неисторическом переживании времени; основное внимание обращено не на временные, а на пространственные характеристики событий (см. подробно: Deloria V.V.jr. The Metaphysics of Modern Existence. San Francisco etc., 1979). В русской (да и в любой иной, ей типологически близкой) «народной культуре» – тяготение к спиритуальной трактовке человеческого опыта, непосредственное, чувственное отношение к космосу, стремление моделировать общественную жизнь в основном по аналогии с естественными процессами универсума и т. д. И это обусловило в общем-то немаловажные расхождения между «народной» и «элитарной» (т. е. более восприимчивой к абстрактно-теоретиче-ской интерпретации реальности) трактовками ислама. Надо, однако, учесть, что в средневековой русской культуре была минимизирована роль схоластики. Это повлекло за собой отсутствие долгосрочного интереса к технологии мышления, к важности логической процедуры, к проблеме осознания самоценности мыслительной конструкции в ходе поисков истины (см. подробно: Nelson В. Sciences and Civilizations. «East» and «West» // Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. II. Dordruht-Boston, 1974. P. 445–493). На Западе этот, представленный в первую очередь схоластикой, «средневековный рационализм» активизировал поворот философского мышления от объекта к субъекту, к рефлексивному анализу самодеятельности сознания, подготавливал его готовность к любой форме полидиалогичности, к восприятию представления об известном ему мире (и о новых «возможных мирах») как универсальном поле различных форм жизнедеятельности, индивидуального и коллективного сознания, культуропотребления и культуротворчества.
192 Но это представление обретало не только «общехристианские параметры». Русские митрополиты-греки, пытаясь помешать опасным для Византии союзам Руси с Западной Европой, внедряли в массовое сознание и негативные установки по отношению к католичеству. Так, в одном из церковных источников фигурирует бес в образе «ляха».
И католики, и еретики, и иудеи – это тоже «поганые» (см.: Макарий. История русской церкви, T. II, СПб., 1858. С. 214), причем критике «Моисеева закона» и доказательству превосходства над ним христианства как универсальной религии уделяется особое внимание в «Слове» – ставшего затем митрополитом Киевским пресвитера Иллариона (см. подробно: Макарий. История русской церкви. T. I. СПб., 1858. С. 90–92). Уже с конца X в. нарастает поток бранных эпитетов против западных христиан (см.: Там же. С. 167, 188–189, 191). Интересно, что и здесь доминирует ориентация на то, чтобы вызвать чисто физиологическое отвращение к конфессиональному антагонисту, представить его как очередное воплощение антикультуры. Повторяя в основном измышления византийцев, «Поучение блаженного Феодосия, игумения печерского, о казнях Божьих» (начало XI в.) доводило до сведения русского общества, что западные христиане-де «употребляют в пишу диких коней, удавленину, медвежину, бобрину… женятся на сестрах» и т. п. (Макарий. История русской церкви. T. II. С. 103). Правда, все это, замечает советский историк, не отражалось на внешней политике вплоть до начала XIII в., когда резко испортились отношения Руси с папством, которое, как утверждает Пашуто, «возглавило крестовый поход против Руси и подвластных ей народов» (Пашуто В.Т. Внешняя политика… С. 83).
193 Там же. С. 78.
194 См.: Там же. С. 86. И даже пруссов (Там же. С. 184). Таким образом, закладывалась идеологическая база для организации миссионерского движения – и, значит, оправдывалось существование обширной категории «модификаторов поведения», т. е. людей, имеющих право внутренне менять и контролировать других.
195 Так, тот же Феодосий утверждает, что обрести спасение можно лишь в православии, «а в вере латинской или сарацинской (магометанской) нельзя; не должно хвалить чужой веры, потому что кто хвалит чужую веру, тот хулит свою и есть двоеверец и близок к ереси… с последователями варяжской веры не должно иметь общения ни по делам брачным, ни в причастии Христовых Тайн, ни в пище. Впрочем, когда они попросят пищи, – накормить их, только в их собственных сосудах, а не в своих; в случае же крайности – и в своих, которые потом вымыть и освятить молитвою» (Макарий. История русской церкви. T. II. С. 104).
196 «Бог милостив, – говорит Феодосий, – не только к своим христианам, но и к чужим. Если увидишь кого-либо (из них) нагим, или голодным, или подвергшимся бедствию, будет ли то еретик или латинянин, – всякого помилуй и избавь от беды как можешь, и ты не погрешишь пред Богом, который питает и православных христиан, и не православных, и даже язычников, и о всех печется…» (Там же. С. 104). В другом списке «Поучения» круг тех, на кого надобно изливать истинно христианскую доброту, еще более расширен: включены и мусульмане и иудеи. «Аще ли видишь, – поучает Феодосий, – нага или голодна, или зимою или бедою одержима; аще ли то будет Жидовин или Срацин или Болгарин, или еретик, или Латинян, или ото всех поганых, – всякого помилуй и от беды избави, яже можеши…» (Там же. С. 298). Но все же: «милуй их, – наставляет Феодосий князя, – но разоблачай суеверие их (в т. ч. и булгар-мусульман)» (Цит. по: Еремин И.П. Литературное наследие Феодосия Печерского // Труды Отдела древнерусской литературы. T. V. М.—Л., 1947. С. 172). Осуждаются (митрополитом Иоанном II, 1080–1089) и армяне и все «нечистые люди», окружающие Русь или ей подвластные. «Повесть временных лет» (Ч. 1. С. 15) негодует против половцев, которые упрямо «закон держат отцов своих», не желая, следовательно, ассимилироваться. «Божьим промыслом» летописцы освящают все успехи в борьбе с восточными кочевниками (см.: Древнерусское государство и его международное значение. С. 110). Одновременно церковь – уже тогда начавшая (особенно устами Иллариона) проповедовать идею богоизбранности русских (Там же. С. 109–110) – вводила установления, ставящие целью не сближаться (и даже не торговать) с «погаными» (см. подробно: Сборник памятников по истории церковных прав / Сост. В.Н.Бенешевич. Пг., 1915). Так церковь утверждала дух «замкнутости, отчужденности Руси от всего иноземного, иноверного» (Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI–XV вв.). М., 1875. C.IV).
197 Цит. по: Попов А. Книга бытия небеси и земли (Палея историческая) с приложением сокращенной Палеи русской редакции. С. 5.
198 В XIII в. папские миссионеры считали булгар «самыми упорными из всех мухаммедан» (Фирсов Н. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. Казань, 1866. С. 9).
199 Макарий. История русской церкви. T.III. СПб., 1857. С. 78–79.
20 °Cм. подробно: Воронин Н.Н. Сказание о победе над болгарами 1164 г. и праздник Спаса // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. Сборник статей к 70-летию академика М.Н. Тихомирова. М., 1969. С. 88–92.
201 Макарий. История русской церкви. T. III. С. 79.
202 Там же. С. 22.
203 Это дает основание говорить о все более четком подразделении уровня социокультурной деятельности древнерусской элиты на два субуровня – формально-организационный и неформальный, с явным креном в сторону первого. Имеется в виду (см.: Сагатовский В.Н. Деятельность как философская категория // Философские науки. 1978. № 2. С. 53–54) деятельность, регулируемая сознательно сконструированными и отчетливо сформулированными социокультурными программами (образцами и нормами). Между тем программы, управляющие неформальной деятельностью, порождаются стихийными социокультурными взаимодействиями и фиксируются на эмоционально-чувственном уровне (то, что принято называть «культурой чувств»),
204 И.Будовниц обращает внимание на то, как «сильно среди русских князей XII в. развился рыцарский сословный дух, заставлявший их видеть в представителях половецкой знати братьев по классу, друзей по оружию» (Будовниц И. Общественно-политическая мысль Древней Руси. С. 219).
Впрочем, такого рода воззрения по отношению к половцам были скорее исключением: они чаще всего описывались («Слово о полку Игоревом») как «варвары», как «наказание Божье за грехи христиан» (Там же. С. 223, 296) и т. п.
205 Столкновение различных языков, используемых в реальной социальной и идеологической практике, делает необходимым установление не только наличия сходных элементов сопоставляемых систем, но и одновременно степень несовпадения этих элементов между собой (см. подробно: Гусев С.С. Метафора – средство связи различных компонентов языка науки // Философские науки. 1978, № 2. С. 73–74). Средство, позволяющее представить данное взаимодействие, – метафора, структура которой включает в себя как минимум два различных понятия, связанных сложным комплексом отношений сходства – различия. Подчеркивая условность, неполноту отождествления сопоставляемых объектов, метафора создает контекст «как если бы» совпадения, в котором главным становится не возможность переноса информации с уже освоенной предметной области на область неизвестного, а фиксация специфических особенностей взаимодействия различных способов отражения сходных объектов. Столкновение нетождественных смысловых спектров порождало качественно новую информацию, раскрывало ранее неизвестные стороны содержания понятий, включенных в структуру метафоры. Так, можно счесть, что высказывание «Русский воин – рыцарь» не только обнаруживало и сообщало некоторую новую информацию о русском воине как таковом, но в такой же мере включало и новые характеристики рыцаря. Построение подобного высказывания не только представляло собой отражение уже открытых сторон и свойств, присущих рассматриваемым объектам (см. подробно: Turbagne С.М. The Myth of Metaphor. New Haven, 1962. P. 17), но часто являлось и гипотетическим приписыванием объектам свойств и сторон, совпадающих с идеальной целью, стоящей перед апологетами древнерусского христианства. Восприятие из иных – но тем не менее одноконфессиональных с русской – культур метафор («воин Христов», «воинствующая церковь») можно представить как вхождение некоторого языка в состав метаязыка (в данном случае – старорусского) в качестве особой подсистемы, сохраняющей относительную целостность и в то же время определяемой законами функционирования системы в целом. В подобного рода случаях «мы имеем дело не с обычным отношением языка – объекта и метаязыка, а с особым случаем взаимодействия системы (роль которой играет один язык) и элемента (роль которого выполняет другая языковая система)» (Гусев С.С. Метафора… С. 74).
206 См. подробно: Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. С. 103–109.
207 Повесть временных лет Ч. 1.С. 149, 152, 153, 191, 192. См. также: Дашкевич П. Рыцарство на Руси в жизни и поэзии // ЧНЛ (Чтения в Обществе Нестора-летописца). Кн. 15. Отд. 1. Вып. IV. Киев, 1901. С. 95–150; Кн. 16. Отд. II. Вып. IV. Киев, 1902. С. 1–23). Подчас славянский святой изображался в виде рыцаря (см.: Воронин Н.Н. Археологические заметки // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 62. М., 1956. С. 31). Это было не просто введение нового символа, а создание – посредством тонического знака, изображающего лицо с высоким социокультурным престижем, – новых социальных стереотипов, в свою очередь ставших мощным орудием суггестивного воздействия. Заимствованное из Западной Европы слово «рыцарь» послужило, в силу своей экзотичности, прекрасным экспрессивным средством – качество, вообще необходимое для языка любых массовых социальных и культурных коммуникаций (а мы, как не раз уже отмечалось, можем говорить о наличии таковых даже в раннесредневековом обществе). Было бы поэтому чрезвычайно интересно обстоятельно проанализировать хотя бы на материалах разветвленной и систематически ведшейся (как устной, так и письменной и изобразительной) антимусульманской пропаганды специфику тогдашних контрастных чередований – языковых и внеязыковых, жанровых, содержательно-тематических, технических и т. д.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































