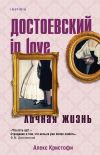Текст книги "Три любви Достоевского"
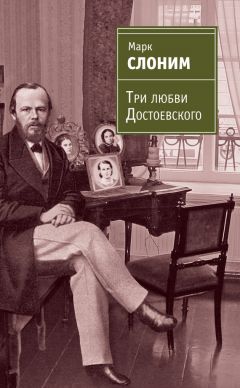
Автор книги: Марк Слоним
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава пятая
Хотя Достоевский и не походил на Макара Девушкина, у него тоже, кроме мечты о любви, ничего не было. В «Белых ночах», автобиографической повести, написанной вскоре после «Бедных людей» (напечатана в 1848 г.), Достоевский вывел молодого человека, блуждающего по столице и мечтающего о разделенной любви. Но все романы разыгрываются лишь в его воображении, в жизни он пуглив и одинок: «Точно, я робок с женщинами, я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда, я ведь один… Я даже не знаю, как говорить с ними». Он знакомится на улице с Настенькой, он поверяет свои мечты этой красивой и милой девушке, а она рассказывает о своей любви к другому. И хотя петербургский мечтатель страстно влюбляется в свою случайную подругу, он помогает ей, бескорыстно и самоотверженно, – и уходит, чтобы не мешать любимой, когда появляется счастливый соперник. Так во всех крупных своих произведениях Достоевский изображал неудачи любви, связанной с жертвой и страданием: любви торжествующей, радостной и по-мужски уверенной он описывать не умел.
В «Белых ночах» Достоевский, очевидно, передал собственные переживания. Он смущался и робел, когда речь шла о женщинах. «Не знаю, что родила мадам Белинская, – пишет он брату, – слышал, что кричит за две комнаты ребенок, а спросить как-то совестно и странно».
Он мог часами мечтать о любви и прекрасных незнакомках, склоняющихся к нему на грудь, но когда ему приходилось встречать не воображаемых, а живых женщин, он становился неловок или смешон, и его попытки близости неизменно кончались настоящей катастрофой.
Успех «Бедных людей» раскрыл перед ним двери петербургских салонов, и в доме светского литератора Панаева он познакомился с его женой Авдотьей Яковлевной. «Вчера я в первый раз был у Панаева, – пишет он брату 16 ноября 1845 года, – и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, и вдобавок любезна и пряма донельзя. Время я провожу весело».
Авдотье Панаевой было тогда 22 года. Невысокая, кокетливая брюнетка с безукоризненными чертами красивого и привлекательного лица, она вся точно сверкала: блеск ее зубов, ее карих глаз, ее светлой кожи, крупных бриллиантов на шее и в ушах сливались в какое-то ослепительное сияние. Темное платье, отделанное кружевами, подчеркивало ее гибкую стройность. Такой увидел ее Достоевский, и она покорила его с первого взгляда. Но она всегда была окружена, и среди толпы поклонников Некрасов меньше всех скрывал свои чувства: через два года она стала его любовницей.
О своем увлечении Достоевский сам рассказал брату через три месяца после встречи с Авдотьей Яковлевной: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю еще. Здоровье мое ужасно расстроено, я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической» (1 февраля 1846 г.). Эта первая влюбленность была и мучительна, и унизительна. С самого начала ему стало ясно, что на взаимность надеяться никак нельзя и что чувство его обречено на медленное увядание. А к любовной неудаче присоединился еще и светский провал: интерес к нему в петербургском обществе быстро упал, да и вел он себя самым нелепым и глупым образом.
«С первого взгляда на Достоевского, – рассказывает Панаева в своих воспоминаниях, – видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались… По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами. С появлением молодых литераторов в кружке, беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах, особенно на это был мастер Тургенев{11}11
Тургенев написал едкую эпиграмму на Достоевского, сравнивая молодого писателя с новым прыщом на лице литературы.
[Закрыть] – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. У Достоевского явилась страшная подозрительность… Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту… и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду. Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками». Раздражение это усиливалось тем, что насмехались над ним в присутствии любимой женщины, которая выказывала ему только оскорбительное снисхождение.
Любовь к Панаевой Достоевский переживал тем мучительнее, что она была, вероятно, единственной женщиной, так сильно его взбудоражившей. В его обширной переписке сороковых годов нет, кроме Панаевой, никаких упоминаний о влюбленности, да и воспоминания современников не содержат ни одного женского имени, связанного с Достоевским этой эпохи. На основании этого, однако, не следует делать ошибочных выводов, будто Достоевский в двадцатипятилетнем возрасте был девственником – как это мерещится некоторым его биографам. Ризенкампф, живший с ним на одной квартире, говорит, что в 1842–44 гг. женщины Достоевского не интересовали, он якобы чувствовал к ним антипатию, а дочь утверждает, что чувства его в это время еще не были пробуждены. Очень трудно поверить этим утверждениям. Сам Ризенкампф прибавляет, что «может быть, в этом отношении он скрывал кое-что», и затем вспоминает о большом любопытстве Достоевского к любовным делам товарищей. А что «женофобия часто скрывает не равнодушие, а, наоборот, заостренную сексуальность – хорошо известно».
Сексуальность эта носила, вероятно, двойственный характер – и в этом надо искать объяснения странностям поведения и противоречиям чувств Достоевского. Как и большинство эпилептиков, он, по-видимому, обладал повышенной половой возбудимостью – и наряду с ней была в нем мечтательность идеалиста. То «озарение плоти», о котором упоминают некоторые биографы (Истомин), пришло к нему не в виде восторженной юношеской первой любви, а в образе случайных встреч с женщинами легкого поведения. Насколько он сумел в этих продажных объятиях испытать «угрюмое предчувствие женских чар и стихийной страсти», судить очень трудно – но, несомненно, молодой Достоевский начал различать любовь от физического наслаждения. Они явились ему как две друг с другом не соединенные стороны какого-то ускользающего единства – и хотя он и понимал, что их слияние – высшее достижение, добиться его в молодости он не мог. Панаева оставалась в той сфере, в которой для мечтателя «Белых ночей» царила высокая страсть без физического обладания, а женщины, которых он встречал на петербургских окраинах, предлагали ему голое удовлетворение полового желания. В том самом письме к брату, в котором Достоевский говорил о своей безнадежной влюбленности в Панаеву, он писал: «Я так распутен, что уже не могу жить нормально, я боюсь тифа или лихорадки и нервы больные». Так над молодостью Достоевского тяготел образ двуликого Эроса. Это тем более понятно, если вспомнить мотив двойничества в его творчестве этого периода. Раздвоение личности в герое «Двойника», Голядкине, носит не только характер паранойи, но и эротических фантазий. Конечно, Достоевский через творчество освобождался от многих своих комплексов и противоречий, но «очищение», «катарсис», не исчерпывало целиком волнений его плоти и воображения.
В той среде, где он жил – а он, по собственному признанию, участвовал в товарищеских пирушках, – шумные вечера обычно заканчивались в публичных домах, и трудно поверить, что поручик Достоевский не бывал в них. Сомнительно также, чтобы во время его блужданий по трактирам и трущобам большого города он не соприкасался с проституцией. Он, должно быть, очень хорошо знал ее – если судить по всем описаниям человеческого дна, которые разбросаны в его ранних и поздних произведениях. Достаточно прочесть «Хозяйку», «Неточку Незванову» и «Двойника», чтобы убедиться в разнообразии личного эротического опыта писателя. Впоследствии «Униженные и оскорбленные» еще более это подтвердили.
Помимо всего прочего, по темпераменту он был человеком больших страстей и тяжелой чувственности. Уже на закате жизни он говорил Опочинину о том, как велика власть пола над человеком, о подчинении воли физическому возбуждению и о том, что мысленное разжигание желания, плоти, хуже самого греха. А он, очевидно, знал в молодости и это умственное разжигание, эту игру эротического воображения, и непосредственное удовлетворение половой потребности, которую впоследствии называл грехом. Об этом имеется ряд свидетельств.
«Минушки, Кларушки, Марианы и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь», пишет он брату в ноябре 1845 года. Даже если принять за шутку перечисление этих имен, типичных для петербургских профессионалок того времени (большинство из них были немки или уроженки прибалтийских губерний), в нем содержится какая-то доля истины. Она подтверждается и другими местами из переписки: «порядочно я жить не могу, до того я беспутен» (1846). А после ареста в 1849 году он пишет из крепости: «Казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей, не совсем чистых; я мало берег себя прежде». О буйной природе этих потребностей сомневаться не приходится. «Моя натура не может не прорваться в крайних случаях и прорваться именно крайностями, гиперболически» (письмо из крепости, 22 декабря 1849 г.). Он не выносил фарисеев и мудрецов, которые проповедовали довольство собой и осуждали «сильную горячую душу, не выносящую их пошлого дневного росписания и календаря жизненного», и наделял своих воображаемых противников непечатными прозвищами («… негодные» – февраль 1844 г.). Он-то, во всяком случае, не придерживался установленных правил морали и приличного поведения.
Те, кто хорошо знал Достоевского (Майков, Страхов), говорят об его чувственности и сладострастии, о темных тайниках его половой личности. Эротическая его жизнь постоянно была осложнена болезнями, мнительностью и меланхолией. Возможно, что приступы болезни (нервные припадки или падучая, если считать, что она началась с 1839 г.), делали его особенно чувствительным и колеблющимся: он не верил в возможность своего успеха у женщин, отгонял от себя мысли о браке – куда ему, бедняку и больному – или же, подобно князю Мышкину, герою «Идиота», опасался импотенции на нервной почве. У людей его физического строя потенция всегда бывает очень переменной и не поддается контролю воли и сознания. А то, как развертывались события его жизни, никак не могло укрепить в нем веры в собственные силы.
Глава шестая
Два события обострили болезненное состояние Достоевского в 1846–47 гг. Первый удар была неудача с Панаевой: он даже не осмелился признаться в своей любви, до такой степени казалась она не к месту, не-
лепой и невозможной. Он должен был со стесненным сердцем наблюдать, как другие ухаживают за ней, и выслушивать насмешки со стороны счастливых соперников. С этих пор, вероятно, идет его ненависть к Тургеневу.
Вторым ударом был «поворот колеса Фортуны». Опьянение неожиданным успехом «Бедных людей» быстро прошло. Петербургская поэма «Двойник», на которую Достоевский возлагал большие надежды и которая, по его словам, должна была превзойти первый роман, не понравилась ни публике, ни критикам. Последние сочли ее слабым подражанием Гоголю и не заметили всех тех идей, какие писатель попытался вложить в нее. Подобная же участь постигла и другие мелкие произведения, печатавшиеся в периодических изданиях. Только в 1848 и 1849 годах «Белые ночи» и «Неточка Незванова» были отмечены, как идущие вровень с его первым блестящим опытом. Но в это время Достоевский уже сидел в крепости.
Он очень мучительно переживал свой литературный срыв. Зависть, оскорбленное самолюбие, взрывы гордости сменялись у него тоской и безнадежностью. То он сравнивал себя с Гоголем и обещал «всем показать», что «первенство в литературе останется за мной», то с горечью признавался: «у меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие». К обиде, разочарованию и сомнениям в себе присоединялись еще внешняя неустроенность, долги, безденежье и поиски заработка. Спешная работа литературного поденщика – переводы, писание рассказов для покрытия авансов, взятых в журналах, правка корректур – давала гроши. Достоевский жил в худо скрываемой нищете, одиночестве и заброшенности. На почве нервности, физического истощения, беспорядочной жизни и усиленного труда у Достоевского развилось нечто вроде психической болезни, о которой он впоследствии упоминал неоднократно, хотя и довольно глухо. Он описал ее в «Униженных и оскорбленных»: «мало-помалу, по наступлении сумерек, я стал впадать в то состояние души, которое я называю мистическим ужасом. Это самая тяжелая мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию минуту осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума». В этом состоянии он часто испытывал то расщепление личности, которое и породило мысль о «Двойнике» (литературно навеянном Гофманом, Шамиссо и отчасти Гоголем). После приступов мистического ужаса, столь похожих на «озарение» перед эпилептическими конвульсиями, приходили хандра и отупение, сопровождавшиеся слабостью и потерей сил. Иногда же появлялось неудержимое желание забыться какой угодно ценой. Так как Достоевский не пил, то забвения он мог искать либо в игре, либо в женщинах. И в душе и в жизни его они тесно переплетались. В 1847–49 году он вел фантастическое существование, полное мистической тревоги, взлетов мысли и судорог плоти. Он, конечно, изживал свои внутренние конфликты в творчестве: «Хозяйка», «Неточка Незванова» и мелкие рассказы этого периода дают обширный психоаналитический материал. Но внутренние его порывы находили выход и в жизни: для страстей существовали отдушины. Хождение по кабакам и притонам, игра и женщины – всё было испробовано Достоевским в эти тяжелые годы – и испробовано со стыдом, с раскаянием за несдержанность, с самобичеванием за разврат. Много лет спустя, герой «Записок из подполья» (1864) так описывает свою молодость:
«В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уже и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и всё более и более забивался в свой угол…[3]3
Подобное же место есть и в «Белых ночах».
[Закрыть] Дома я всего больше читал… Чтение, конечно, много помогало – волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Всё-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности… Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями… Накипала сверх того тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятья… Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали… Ходил же по разным весьма темным местам. Скучно уж очень было сложа руки сидеть, вот и пускался на выверты… Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Но кончалась полоса моего развратика и мне становилось ужасно тошно… Но у меня был выход всё примирявший, это спасаться во всё «прекрасное и высокое», конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол… Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я бывало в этих мечтах моих». Н. Страхов, биограф и друг Достоевского, утверждал, что «лица наиболее на него похожие – это герой из «Записок из подполья», Свидригайлов из «Преступления и наказания» и Ставрогин в «Бесах». Он же рассказывает о «животном сладострастии» Достоевского и о том, «как он был развратен». «При этом он был сентиментален, расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания – его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости» (письмо Л.Н. Толстому от 28 ноября 1883 г., через два года после смерти Достоевского). Страхов прибавлял, что в биографии, которую он подготовлял в это время к печати, он, конечно, не мог упоминать об этих чертах личности великого писателя: «пусть зато правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни».
Гуманные мечтания привели Достоевского ко всем тем проблемам, которые он впоследствии раскрыл в своих романах. Именно в те годы, когда он был литературным пролетарием, работавшим на различных не слишком щедрых хозяев, когда он изнывал от тягот быта и метался от «высоких и прекрасных порывов» к удушливым «пакостям», как выражался Страхов, – именно в эти тяжелые годы он начал мучиться проблемой «дерзающей личности» и ее правом на свободное действие и даже на преступление. Вопрос о зле в мире, о религиозном переустройстве человечества, о Боге, создавшем всю муку и страдания нашего существования, и о противоречиях между моральными идеалами и гнусностями российской политической и социальной действительности особенно волновали его в 1848 и 1849 годах. В эту эпоху, представляющуюся историку периодом государственной окаменелости, крепостничества и реакции, в русском обществе под спудом происходили значительные внутренние сдвиги: славянофилы спорили с западниками о судьбах и путях народа и власти, о назначении национальной культуры, а философы и публицисты закладывали основы мировоззрения либеральной интеллигенции. Мысль, стесненная цензурой и полицейскими запрещениями, всё настойчивее обращалась к вопросам социального и экономического устройства страны и политической свободы, и Достоевский, поддаваясь общему настроению интеллигентских кружков, к которым он был близок, сильно увлекся гуманитарными идеями и утопическим социализмом французского толка. Планы русских социалистов сливались в его воображении со смутными надеждами на то особое слово, которое Россия была предназначена сказать миру. Эти надежды заставляли с особенным стыдом и болью ощущать всё безобразие окружающего. Произвол властей, страдания бедняков, забитость и униженность маленьких людей и жестокая несправедливость крепостного права вызывали горячий отклик в его душе. Эти настроения и привели Достоевского в кружок Петрашевского, где читали вслух и комментировали сочинения Сен-Симона, Фурье, Оуэна и письмо Белинского Гоголю, в котором критик упрекал автора «Мертвых душ» в мракобесии, подчинении внешней церковности и поддержке самодержавия и рабства. На одном собрании Достоевский произнес речь о христианском социалисте Ламеннэ, библейский и проповеднический стиль которого соответствовал его собственному мистическому настроению, и довел слушателей до слез своими вдохновенными комментариями. Он не знал, что среди присутствующих находился агент Третьего отделения, и что ему вскоре предстояло дорого заплатить за призывы к справедливости, братству и вольности. 23 апреля 1849 г. Достоевский был арестован и посажен в каземат Петропавловской крепости. Он просидел в нем восемь месяцев, и здоровье его сильно ухудшилось: он не мог есть из-за болей в желудке, его мучил геморрой, по ночам на него находили уже ранее испытанные припадки смертного ужаса, а когда он забывался, то видел пугающие кошмары. По его собственному выражению, он жил тогда только «своими средствами, одной головой, и больше ничем»… «Всё у меня ушло в голову, а из головы в мысль, всё, решительно всё».
22 декабря, после страшной пытки мнимой казни, когда он ежеминутно ждал конца, он писал брату:
«Я не ныл и не пал духом. Жизнь, везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем… Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда… вот в чем жизнь, вот в чем задача ее. Я сознаю это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда, та голова, которая создавала, жила высшей жизнью искусства, которая сознавала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих… Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через четыре года будет возможность. Боже мой! сколько образов, выжитых, созданных мною, вновь погибнет, угаснет в моей голове или отравой по крови разольется. Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках… Прощай! Теперь отрываюсь от всего, что было мило. Больно покидать это! Больно переломить себя на двое, перервать сердце пополам».
Через два дня, в сочельник, после прощания с братом, Достоевского заковали в десятифунтовые кандалы и посадили в сани, которые должны были через Ярославль и Нижний Новгород везти государственного преступника за три тысячи верст, в Сибирь на каторгу.