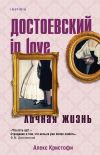Текст книги "Три любви Достоевского"
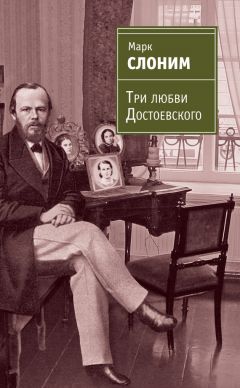
Автор книги: Марк Слоним
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Выйдя из каторги, Достоевский почти не мог писать: стихи, которые он сочинил в мае 1854 года, «На Европейские события в 1854 году», имели явную цель – доказать его патриотические и верноподданнические чувства: он громит французов и англичан, выступающих на защиту турок против Христа, и славит русского царя, Божьего помазанника и защитника веры. Литературная ценность их была ничтожна. Затем, уже после отъезда Исаевой, он принялся, наконец, за прозу – и должен был долго преодолевать ту негибкость, почти одеревенелость, какую знают все писатели, художники, артисты после длительного перерыва в работе. Он медленно возвращался к тому самому исходному положению, в котором застала его катастрофа семь лет тому назад.
В мае 1856 года в письмах Марьи Димитриевны вновь зазвучали тревожные ноты. То она пишет, что грустит и тоскует, то вдруг заявляет: «мы слишком много страдали, слишком несчастны, чтобы мечтать о браке», она не составит его счастья, лучше обо всем позабыть, ото всего отказаться. Единственное, о чем она его просит, это похлопотать о Паше, ему уже идет девятый год, его надо определить в какое-нибудь закрытое учебное заведение.
Измученный всей этой перепиской с ее чередованием холода и жара, Достоевский решается на крайний шаг: необходимо личное свидание с Марьей Димитриевной, надо выяснить всё и переговорить с глазу на глаз. И значит, надо ехать в Кузнецк.
После долгих хлопот и всяческих ухищрений Достоевскому удалось заручиться помощью батальонного командира, знавшего обо всех его любовных треволнениях. Унтер-офицер Достоевский получил служебное поручение отвезти в Барнаул фургон с веревками. А от Барнаула до Кузнецка не слишком далеко. И Достоевский пустился в дорогу с надеждой через несколько дней увидать и обнять Марью Димитриевну.
Глава девятая
Достоевский тайно уехал из Барнаула в Кузнецк, мечтая, что свидание с женщиной, на которую, по его собственному выражению, он «имел права», разрешит все сомнения и трудности. Но вместо радостной встречи в Кузнецке его ждал страшный удар. Он вошел в комнату к Марье Димитриевне, и она не бросилась ему на шею: с плачем целуя его руки, она закричала, что всё потеряно, что брака быть не может – она должна признаться во всём: она полюбила другого. Этот другой, Николай Борисович Вергунов, родом из Иркутска, учитель начальной школы, был довольно красивый 24-летний молодой человек, и Марья Димитриевна увлеклась им физически и даже подумывала о том, чтобы выйти за него замуж. Достоевский выслушал ее рассказ, стиснув руками голову, потом заметил, что Вергунов когда-нибудь попрекнет ее за то, что она хотела только сладострастия и заела ему век. Марья Димитриевна сперва приписала эти слова ревности, но потом задумалась и опять начала плакать. Она теперь не верила ни в чью любовь. Напрасно Достоевский в долгой беседе пытался понять ее истинные чувства и определить отношения между нею и Вергуновым: несвязный разговор этот, вероятно, был похож на тот, который он затем описал в «Униженных и оскорбленных», между Ваней и Наташей:
«Не уважаешь, не веришь даже в любовь его, и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь. Что же это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже».
«Да, люблю, как сумасшедшая, – отвечала она, побледнев, как будто от боли. – Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его… Я ведь и прежде знала и в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки».
Вместо мнимого «солидного» жениха, за которого Марья Димитриевна якобы готова была выйти «по расчету», Достоевский нашел в Кузнецке счастливого соперника, бывшего едва ли не беднее его самого. Он опасался повторения ситуации «Бедных людей», а в действительности ему грозила ситуация «Белых ночей» – или даже хуже. Марья Димитриевна настаивала на его встрече с Вергуновым: «с ним я сошелся, он плакал у меня, но он только и умеет плакать», с горечью заметил Достоевский. Быть может он ощутил к нему то же чувство, что и герой «Униженных и оскорбленных» к возлюбленному Наташи: «он был слаб, доверчив и робок сердцем, воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко». Чтоб не обижать Вергунова, Достоевский скрыл свои собственные переживания и спокойно рассуждал о шансах возможного брака Марьи Димитриевны с молодым учителем. Ему приходилось взвешивать свои слова и пускаться на мелкие хитрости: «я знал свое ложное положение, – пишет он Врангелю, – ибо начни я отсоветовать, представлять им будущее, оба скажут – для себя старается, нарочно изобретает ужасы в будущем». Но что бы он ни говорил Марье Димитриевне, он прекрасно понимал, что она чувствовала себя госпожой и владычицей по отношению к новому другу – а он был ее жертвой.
«Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, и именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, поспешила отдаться ему в жертву первая».
Эти слова о Наташе из «Униженных и оскорбленных» вполне применимы к Марье Димитриевне и к ее отношениям с Вергуновым и, как это ни странно, с Достоевским. Она и мучила их обоих, и сама из-за них мучилась, и в этом соединении морального и любовного садизма и мазохизма находила особое наслаждение. И это ее болезненное, сложное ощущение перекликалось с такими же тенденциями Достоевского. Ему было тяжело, мучительно, и самая острота его страдания вызывала холодок восторга. Напряженность, необычность обстоятельств, слезы и страсть, обида и желание – всё это соединялось в невыразимо жгучее ощущение интенсивности бытия. Моментами ему казалось, что он теперь любит ее больше прежнего – за ее измену, за мучительство, за оскорбление.
Его охватывало неодолимое стремление всё отдать Марье Димитриевне, пожертвовать своей любовью ради ее нового чувства, уйти и не мешать ей устраивать жизнь, как ей хочется.
Когда Марья Димитриевна увидала, что Достоевский не упрекает ее, а только заботится о ее будущем, она была потрясена, как Наташа, которая говорит Ване: «Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты всё простил, только о моем счастьи и думаешь». Но Достоевскому не пришлось долго страдать в позе мученика, и добровольной жертвы его Марья Димитриевна не приняла. «Не плачь, не грусти, не всё еще потеряно, ты и я и более никто», – сказала она, видя его страдания. В самый критический момент в ней снова вспыхнули жалость и нежность к Достоевскому. «Она вспомнила прошлое, и сердце ее вновь обратилось ко мне», – этими словами он описывал поворот в ее настроениях. Когда он менее всего ждал этого, она бросилась в его объятия и вознаградила его за всё, что он претерпел. «Я провел не знаю какие два дня, – писал он Врангелю, – это было блаженство и мученье нестерпимое». Передалась ли ей страсть Достоевского, была ли она захвачена возвратом собственного чувства, попалась ли в путы сложной своей игры или не захотела отказаться от владычества над обоими мужчинами – всё равно какой ценой, – но несомненно, что она снова сблизилась с Достоевским, и он мог сказать: «к концу второго дня я уехал с полной надеждой». Он сам подчеркнул это слово. Но несмотря на «доказательства любви», как он выражался, он сознавал трудность собственного положения. Прежние иллюзии его рухнули, Марья Димитриевна предстала ему в новом обличье, и вместо недавней ясности чувств в душе его ныне царил полный хаос. Когда он выехал из Кузнецка и опьянение недавней близостью выветрилось в дороге, он подумал, что, согласно французской поговорке, «отсутствующие всегда неправы»: «я далеко, а он с ней». Как бы ни были горячи недавние поцелуи Марьи Димитриевны, на верность ее рассчитывать нельзя было. Да и кто мог поручиться, что после отъезда Достоевского она не начнет колебаться и не вернется к молодому любовнику? Не успел Достоевский возвратиться в Семипалатинск и прийти в себя от физической и душевной встряски, как получилось письмо от Марьи Димитриевны: она тосковала, плакала, опять говорила, что любит Вергунова больше, чем Достоевского. Измученный и униженный, он забыл о своей дипломатии и написал и ей и ему, уговаривая обоих посмотреть на всё холодно и здраво: ведь их совместная жизнь, а тем более брак были бы безумием. Марья Димитриевна промолчала, а Вергунов обиделся и ответил грубой бранью. Это не помешало Достоевскому начать хлопоты по устройству его на лучшее место: ведь как-никак учитель мог вскоре стать мужем Марьи Димитриевны, а ее благополучие было ему дороже всего на свете. Он победил ревность и горечь, он поступил как Дон Кихот, принося самозабвенную жертву. Но страдал он от этого собственного благородства невыносимо. Идея брака Марьи Димитриевны по расчету, ради денег оскорбляла его нравственное чувство, вызывала возмущение против несправедливости, против «злой доли бедных». А мысль о том, что она собиралась выйти за бедняка, била по самолюбию, ранила его мужскую гордость. Ведь тут он и Вергунов были равны, оба в одинаковой степени не имели средств, чтобы содержать семью. Но 24-летний учитель и в будущем не мог ни на что рассчитывать, кроме грошового жалованья. Он был мало образован, и карьера ему предстояла самая ничтожная, всё в тех же начальных школах. А ведь Достоевский был писателем, он некогда достиг известности, и теперь, в одинокие ночи, верил в свое великое призвание. Значит, Марья Димитриевна предпочла ему Вергунова исключительно по любви. Речь шла о сентиментах в чистом виде. Почему же та, кого он избрал, кому отдал сердце, не разделяла его веры, не видела, что слава ждет его, не поставила на него? А это самое обидное для мужчины – знать, что для любимой он попросту один из многих и что она ничего не прочла на челе его. Очень многое в последующей жизни Достоевского объясняется этой обидой: ее редко прощают даже обыкновенные таланты.
Но сейчас обиду надо было проглотить: иного выхода у него не было.
«Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае, – объяснял он Врангелю. – Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в десять месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости». Справиться с этой «нелепостью» не было уж сил – и воспоминание о прежней, хотя и минутной, близости растравляло и кровь и воображение: он всё повторяет и о «доказательствах» ее любви, и о своих «правах» на нее. Но от жгучих воспоминаний не становилось легче: все заметили, что Достоевский совсем извелся. На смотрах и военных учениях он ходил как тень, знакомые опасались, что он свалится с ног. Нервное напряжение разрядилось припадком, и после него он оставался больным целую неделю. А к страданиям душевным и физическим прибавились еще и заботы материальные: поездка в Барнаул и помощь Марье Димитриевне (он постоянно посылал ей деньги) привели к тому, что у него накопилось свыше тысячи рублей долгу. Заплатить их было неоткуда, повсюду натыкался он на высокую, неумолимую стену, и вся жизнь представлялась ему не то блужданием по кругам Дантовского ада, не то диким видением больного мозга.
Глава десятая
Втот самый момент, когда Достоевскому казалось, что он коснулся дна и дошел до предела унижений и горя, в существовании его стал медленно намечаться поворот к лучшему. Черная серия неудач завершилась, и впереди обозначились просветы. Первого октября 1856 года он был произведен в прапорщики – первый офицерский чин, и это означало, что он вновь возвращается в тот самый привилегированный класс, вне которого в России было так трудно жить. Кроме того, усилились надежды на помилование – а значит и на возвращение в Россию. Под влиянием этих обстоятельств или по изменчивости характера Марья Димитриевна заметно охладела к Вергунову. Вопрос о браке с ним как-то сам собой исчез, и она написала Достоевскому, что он «материально невозможен» (Вергунов зарабатывал 300 рублей в год). В письмах к Достоевскому она не скупилась на нежности, называла его братом, говорила, что тоскует по нем. А он в ноябре 1856 года писал: «Она по-прежнему всё в моей жизни, люблю ее до безумия… разлука с ней довела бы меня до самоубийства… Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь». Он пытается дать разумное объяснение своему состоянию: «Она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу, всё мое существование». Услыхав, что Вергунов в опале, он воспрял духом и снова поставил ребром вопрос о своем браке с Марьей Димитриевной. Когда опять представилась возможность поездки в Барнаул, на этот раз в лучших условиях, потому что он был уже офицером, он помчался в Кузнецк, но теперь остался там не два, а пять дней. Его ждал прием, сильно отличавшийся от того, какой был ему оказан пять месяцев тому назад. Марья Димитриевна заявила, что разуверилась в новой привязанности и никого, кроме Достоевского, по-настоящему не любит. Перед отъездом он получил ее формальное согласие выйти за него замуж в самом ближайшем будущем. В письме Врангелю от 21 декабря 1856 г. он писал: «Если не помешает одно обстоятельство, я до масленицы женюсь». Что это было за обстоятельство – и к кому оно относилось? К Вергунову, неохотно отказавшемуся от своей возлюбленной, к Достоевскому, опасавшемуся новых осложнений, или к Марье Димитриевне, способной опять переменить решение? Как бы то ни было, Достоевский официально считает себя женихом. Он добился своего, мечта его, наконец, должна была осуществиться. Но в этот момент испытывал он не восторг, а усталость и апатию. Для каждого часа имеется свой закон, и хорошо только то, что приходит вовремя. То, что запаздывает, часто теряет свою цену, и дар, который наполнил бы пьяной радостью вчера, уже не веселит сегодня. Как бегун на трудном состязании, Достоевский очутился у цели, настолько изможденный усилием, что принял победу почти с равнодушием.
Никаких восклицаний и энтузиазма по поводу близкого брака в его переписке нет: есть трезвые слова о деньгах и устройстве. Для свадьбы необходимо было по крайней мере 600 рублей, и их пришлось взять в долг у одного из семипалатинских знакомых.
Что побудило Марью Димитриевну в конце концов согласиться на брак? Дочь Достоевского, а с ее легкой руки и некоторые биографы, хотя и не столь категорически, как она, утверждают, что Марья Димитриевна вышла замуж за Достоевского не любя, по расчету. Ее выставляют хитрой комбинаторшей, которая имела в виду лишь собственную материальную выгоду, водила за нос наивного и простосердечного обожателя, а между тем исподтишка продолжала связь с Вергуновым, якобы следовавшим за ней по пятам, из города в город. Все эти обвинения не вяжутся с тем образом Марьи Димитриевны, какой ее видел не только сам Достоевский, но и его ближайшие друзья: строить планы и рыть мины было совсем не в ее характере. Наоборот, она не способна была к длительному усилию, к упорной работе для достижения раз поставленной цели, и всегда действовала по наитию, порывисто, по капризу случайного настроения. Что она могла счесть брак с Достоевским наилучшим выходом из тяжелого положения – весьма возможно. После свадьбы она пишет и его и своим родным, что теперь спокойна за будущее Паши – этим намекая, что пошла замуж ради сына. Но для чего ей было интриговать или завлекать Достоевского в свои сети, когда он сам с восторгом шел в них, постоянно говорил о своей страстной и нежной любви и заклинал ее соединиться с ним навеки.
Он, во всяком случае, считал, что она идет за него по любви, и не сомневался в ее преданности и привязанности. «Она меня любит и доказала это», – писал он Врангелю. Брак казался ему естественным завершением того, что было между ними: «Отношения с Марьей Димитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере жил, хоть страдал, но жил». Он понимал, однако, что жить всё время в подобном напряжении было невозможно, и брак рисовался ему как успокоение, как начало того семейного счастья, о котором он так мечтал.
В начале 1857 года всё было сговорено, он взял в долг нужную сумму денег, снял помещение, получил разрешение начальства и отпуск для женитьбы. В конце января он выехал в Кузнецк. Там всё было готово для «тихой» свадьбы, и 6 февраля Марья Димитриевна и Федор Михайлович были обвенчаны в Кузнецкой церкви, где сохранилась запись об этом браке. Тотчас после церковного обряда молодожены сели в тарантас и поехали в Барнаул: там должны были они провести вместе первую ночь. Но когда они очутились в доме барнаульских знакомых, в котором предполагали прожить несколько дней, с Достоевским произошел страшный припадок падучей. С помертвевшим лицом и диким стоном он вдруг упал на пол в ужасающих конвульсиях и лишился сознания. Придя в себя, он был так слаб, что мог едва говорить и двигаться. Марья Димитриевна до того перепугалась, что сама едва не упала в обморок. Припадок Достоевского произвел на нее потрясающее впечатление. Позвали докторов, но их диагноз не только не внес успокоения, но даже усилил общую панику: они заявили, что у Достоевского эпилепсия, и предупредили, что во время подобного припадка он может умереть от горловой спазмы. Марья Димитриевна зарыдала и начала упрекать мужа за то, что он утаил от нее свой недуг.
Достоевский оправдывался, уверяя, что и сам не знал в точности характера болезни. Действительно, до тех пор он полагал, что припадки его «хотя и похожи на падучую, но, однако же, не падучая». Так писал он брату по выходе из каторжной тюрьмы, так говорил друзьям и знакомым, осведомленным об его недуге. То же самое, еще до ареста, утверждал и его врач Яновский. Но сейчас уже не могло быть никаких сомнений, и слова докторов прозвучали грозным предупреждением. Да и как начало брачного сожительства эпилептический припадок едва ли следовало считать хорошим предзнаменованием.
Когда состояние Достоевского несколько улучшилось, молодые двинулись в путь. Она – разочарованная, измученная всем пережитым, он – обессиленный, как всегда после припадка, подавленный и угрюмый.
«Если бы я наверно знал, что у меня настоящая падучая, – писал он вскоре после этого, – я бы не женился. В Семипалатинск я привез жену захворавшую».
То, о чем он не писал, имело гораздо большее значение. Припадок в Барнауле произошел, вероятно, в тот самый момент, когда молодожены остались одни. Он, конечно, вызвал ряд потрясений и даже травматических последствий в чисто половой области. Быть может, здесь-то и надо искать разгадки, почему брак Достоевского с Марьей Димитриевной оказался неудачен прежде всего со стороны физической.
В Семипалатинск Достоевские приехали 20 февраля 1857 г. и принялись устраиваться в маленькой и бедно обставленной квартире. Когда Достоевский окончательно оправился от того, что «сокрушило меня и физически и нравственно», он попытался наладить супружеские отношения. Но физическая близость не дала того счастья и забвения, о котором он мечтал. Оба были нервны и больны, у Достоевского было чувство вины, менявшееся взрывами страсти, бурной, конвульсивной и нездоровой, на которые Марья Димитриевна отвечала или испугом, или холодностью. И в то же время она сама отличалась истерической чувствительностью, и настроения и желания их почти никогда не совпадали. Если бы Достоевскому попалась простая и уравновешенная женщина, которая способна была успокоить его сомнения, возродить в нем веру в свои силы, найти здоровый выход его повышенной сексуальности и этим уменьшить его комплексы мазохизма и садизма, их брачные отношения могли бы постепенно достичь какого-то равновесия чувств и чувственности. Но в той напряженной, нервной обстановке, которую создавала Марья Димитриевна, еще острее выступали патологические черты ее мужа. Оба раздражали, изматывали и истязали друг друга в постоянной борьбе, нападки сменялись у них раскаянием и самобичеванием, уверения в бесконечной любви превращались в бесплодный поединок тел, неудовлетворенность плоти отравляла и кровь, и душу. Вместо медового месяца на их долю пали разочарование, боль и утомительные попытки добиться ускользающей и никак не дающейся половой гармонии. Полного соединения не было, и телесное раздражение усиливало сердечную тоску и недовольство. На чувственный обман и создание эротических иллюзий в Достоевском Марья Димитриевна, вероятно, была неспособна. Возможно, что она делала невыгодные сравнения между Вергуновым и мужем-эпилептиком, который порою должен был отталкивать и даже страшить ее.
Для Достоевского она была первой женщиной, с которой он был близок не коротким объятием случайной встречи, а постоянным брачным сожительством – и его отношение к ней было очень сложным. Он скоро убедился в том, что она не могла стать его подругой в чисто половом смысле, что она не разделяла ни его сладострастия, ни его чувственности. И тогда он с удвоенной заботливостью сделался ее братом, покровителем и опекуном. Он жалел ее острой человеческой жалостью, он относился к ней с лаской и нежностью, как к маленькой девочке, которую надо оберегать от возможных бед и напастей. «Она бедная, слабая, она всего боится», «у нее гордое благородное сердце», – такими выражениями пестрят все его отзывы о жене. Много лет спустя, корректорше Починковской, внешне чуть напоминавшей Марью Димитриевну, он сказал: «Была это женщина души самой возвышенной и восторженной. Идеалистка была в полном смысле слова, да! и чиста и наивна, как ребенок».
Но если физически они не сумели сойтись, почему же был он и во всём остальном несчастен с этой благородной и возвышенной натурой? Почему их сожительство не удалось ни в каком плане, ни в одной плоскости? А что это было именно так – тому имеется множество прямых и косвенных указаний и признания самого Достоевского. Есть и точные свидетельства тех, кто знал обоих в первые годы их трудного и странного союза.
В письмах Марьи Димитриевны тотчас же после свадьбы нет ни восклицаний, на которые обычно она не скупилась, ни уверений о счастьи, которые естественно было бы ожидать от такой эмоциональной и живой натуры, как ее. Одной из своих сестер она пишет, что «любима, балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем». О ее любви к нему – ни слова. То же говорит она и отцу: «счастлива за судьбу свою и Паши». Выражения ее сухи и холодны, стиль сдержан и рассудочен. Еще более удивителен тон писем Достоевского. Он резко меняется по сравнению с его излияниями за несколько месяцев до свадьбы. От прежних восторгов и романтических преувеличений не остается и следа. Родным Марьи Димитриевны – отцу, сестре Варе, которая заочно ему очень нравится и с которой он потом подружится, он главным образом хвалит Исаева и его прекрасную душу, и лишь вскользь упоминает о том, что «несчастья по службе несколько расстроили его характер и здоровье». А брату Михаилу он пишет: «Я ее очень люблю и она меня и покамест всё идет порядочно». Но уже в следующем письме вырывается фраза: «Живем кое-как».
Объяснение этому отсутствию энтузиазма, явно указывающему на разочарование и нелады, следует искать, конечно, в характере обоих. Достоевский был человеком тяжелым и странным. И любовь его была нелегкая – с ее противоречиями нежности, сострадания, жажды физического владычества, боязни причинить боль и неудержимого стремления к мучительству. Он не знал простых чувств (он потом признавался, что боялся и не понимал так называемых «простых натур{13}13
«Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного». (Письмо от 22 февраля 1854 г.)
[Закрыть]»), и Бердяев называл его любовь «дионисиевой», потому что она разрывала на части и тело, и душу. Кроме того, этот писатель, умевший разгадать и представить все изгибы ума и сердца своих многочисленных и сложных героев, не находил слов, когда ему приходилось говорить о собственных переживаниях.
«В иных натурах, – писал он в «Униженных и оскорбленных», – бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказывать даже милому тебе существу свою нежность, и не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше, только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана».
Это признание явно автобиографично: почти в тех же выражениях Достоевский писал и брату, и друзьям о своей неспособности выразить чувства жестом, проявить ласку, побороть свою «деревянность». Марья Димитриевна, вероятно, принимала за холодность то, что было привычкой одиночества, робости и какой-то внутренней стыдливости.
О Марье Димитриевне после брака Достоевский глухо писал: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная, прошлая жизнь оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности».
В самом начале их знакомства он упоминал, что у нее веселый и резвый характер, хотя и отмечал ее раздражительность и впечатлительность. Теперь он подчеркивал ее нервическое непостоянство и скачки от веселья к ипохондрии. В наше время таких женщин, как Марья Димитриевна, считают истерическими натурами с явно выраженными тенденциями к мании преследования и меланхолии, т. е. с чертами паранойи. Она молниеносно обижалась, повсюду видела подвохи, в гневе кричала и рыдала до упаду, потом, успокоившись, смиренно просила прощения и внезапно обнаруживала такое понимание и себя и других, такую кротость и доброту, что у Достоевского сердце разрывалось от сострадания, и он падал на колени и целовал ее руки. Конечно, ее нервозность и мнительность, фантастические вспышки злости или великодушия в значительной степени объяснялись ее общей физической слабостью: у нее назревал процесс в легких, и ее неврастения, равно как и ее нынешняя неспособность рожать детей имели глубокие биологические корни. Жить с ней изо дня в день было не только трудно, но порою мучительно. Конечно, жить с таким издерганным, страдающим и сложным, больным и гениальным человеком, как Достоевский, тоже было нелегким испытанием.
Дочь Достоевского, а вслед за нею и некоторые исследователи жизни писателя склонны приписывать неудачу брака более грубой и явной причине: Марья Димитриевна-де продолжала любить Вергунова, страсти своей к прежнему любовнику скрыть не сумела, и поэтому Достоевский, ввиду ее холодности и даже измены, отдалился от нее и глубоко страдал, хотя не мог уже уйти. Он оказался связанным по рукам и ногам (как известно, церковный брак можно было расторгнуть лишь после очень трудных и сложных, дорого стоивших хлопот), а дальнейшее развитие болезни жены окончательно лишило Достоевского, отличавшегося добротой и благородством, возможности покинуть несчастную женщину.
Любопытно, что тотчас же после брака Достоевский, несмотря на собственные материальные трудности и заботы, снова принимается хлопотать за Вергунова и говорит, что «он мне теперь дороже брата родного». У него к нему было странное, почти физическое чувство любопытства и расположения, которое и мужчины и женщины очень часто испытывают по отношению к тем, кто были любовно близки с их партнерами. Такое чувство может существовать, несмотря на ревность или наряду с ней. Это особого рода эротическое свойство, и у некоторых индивидуумов оно проявляется с болезненной силой. Ученик Достоевского, Розанов, вероятно, объяснил бы это ощущением сексуально-плотской общности, близким кровосмешению, «все – родственники», и сказал бы, что оно типично для людей с глубоким половым чувством.
А Достоевский принадлежал именно к таким людям.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!