Текст книги "Великая русская революция, 1905–1921"
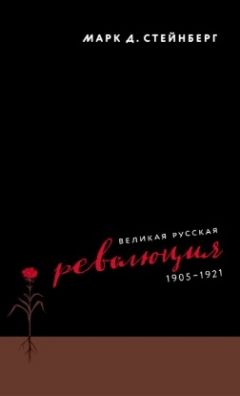
Автор книги: Марк Стейнберг
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
7
Социальные активисты удивлялись роли, сыгранной в революции женщинами, в большинстве своем считая их политически отсталыми, неопытными и робкими. Большевистская газета «Правда» через неделю после революции превозносила женщин-работниц, первыми вышедших на уличные демонстрации в Женский день, призывавших мужчин к участию в забастовке и убеждавших солдат не стрелять в людей, заполонивших улицы. Но при этом в «Правде» умалчивалось о том, что большевистские активисты призывали женщин воздержаться от забастовки и проявить «выдержку и дисциплину», опасаясь того, что их действия окажутся «бесцельными». Даже в тот момент большевики усматривали корни отваги женщин в их традиционных заботах и настроениях: «боль за своих близких, отнятых у них войной, перемежалась с состраданием к своим голодным детям». Реальные причины женской активности носили более сложный характер. С рассказами о женщинах, в слезах моливших солдат не стрелять в «их матерей и сестер» и требовавших хлеба, чтобы накормить свои голодные семьи, соседствовали свидетельства о женщинах, наравне с мужчинами яростно набрасывавшихся на полицейских, врывавшихся в полицейские участки и сжигавших там архивы, громивших магазины[30]30
Ruthchild, Equality and Revolution, 218-23; Choi Chatterjee, Celebrating Women: Gender, Festival Culture, and Bolshevik Ideology (Pittsburgh, PA, 2002), ch. 2.
[Закрыть].
При этом женщины не уходили с улиц. Во время наших воображаемых блужданий по улицам Петрограда в поисках смыслов мы наверняка бы наткнулись на состоявшееся 19 марта грандиозное женское шествие с требованием права голоса для женщин, организованное активистками феминистского движения, хотя многие работницы и крестьянки шли и под лозунгами с волновавшими их социальными и экономическими вопросами.

РИС. 4. Женская демонстрация 19 марта 1917 г.
(Российский государственный архив кинофотодокументов, Москва)
На рис. 4 мы видим женщин – судя по их одежде, из рядов рабочего класса – под плакатом, предлагающим недвусмысленный комментарий к понятию «свобода»: «Если женщина раба, не будет и свободы. Да здравствует равноправная женщина». Рис. 5 воспроизводит снимок женщин-солдаток (солдатских жен), вышедших на демонстрацию под лозунгами: «Прибавку пайка семьям солдат, защитникам свободы и народного мира» и «Кормите детей защитников родины».

РИС. 5. Солдатские жены на женской демонстрации, 19 марта 1917 г.
(”The Russian Revolution – Events and Personalities: An Album of Photographs. Collected by Bessie Beatty.” Unpublished. The New York Public Library, p. 42 (снимок неверно датирован 9 апреля 1917 г.). Slavic and Baltic Division. The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations)
Права и потребности часто включались в определения свободы, особенно группами, почти лишенными прав и испытывавшими сильную нужду. Защитники равноправия в дальнейшем часто ссылались на участие женщин в Февральской революции, обосновывая этим необходимость пересмотра роли женщин в обществе. «В момент борьбы мы, женщины-работницы, были заодно с восставшими за свободу братьями-пролетариями! – напоминала в конце марта в «Правде» феминистка-большевик Александра Коллонтай и задавалась вопросом: – Почему же теперь, в момент, когда начинается строительство новой России, закрадывается этот страх, что свобода… может обойти половину населения освобожденной России?»[31]31
А. Коллонтай. Работницы и Учредительное собрание //Правда. 21.03.1917. С. 3.
[Закрыть] Непосредственным поводом для этой критики служили колебания Временного правительства и Совета, не спешившего признавать за женщинами право голоса. Но после того как в ответ на массовую демонстрацию 19 марта такое право было им даровано, женщины продолжали требовать того, чтобы им наравне с мужчинами были предоставлены прочие политические и гражданские права.
Если бы мы в начале марта оказались в Москве, то, возможно, попали бы на митинг, организованный 6 марта московским отделением Лиги равноправия женщин. В числе его участниц – представительницы трудящихся женщин и деятельницы женских организаций. На этом митинге мы бы услышали определения «свободы», включавшие равную оплату женского труда; социальную защиту матерей и женщин, воспитывающих детей; отмену законов, разрешающих контролируемую проституцию, и прочих законов, касающихся только женщин и «унижающих человеческое достоинство женщины», назначение женщин на должности всех уровней в государственном аппарате, особенно те, которые связаны «с интересами женского населения», а также предоставление женщинам возможности работать юристами, в фабрично-заводских инспекциях и во всех сферах «общественной служебной деятельности». Как с негодованием и гневом утверждалось в резолюции, одобренной участниками митинга, отказ от принятия этих мер будет равносилен открытому заявлению о том, что «под свободными гражданами подразумевают лишь мужчин»[32]32
Лига равноправия женщин //Смоленский вестник. 9.03.1917. С. 4. Выражаю благодарность Майклу Хики, предоставившему мне экземпляр этого текста, включенного им в собственном переводе в вышедший под его редакцией сборник: Michael С. Hickey (ed), Competing Voices from the Russian Revolution: Fighting Words (Santa Barbara, CA, 2011), 167-8.
[Закрыть].
8
Невзирая на активность женщин, до нас дошло удивительно мало женских голосов, особенно голосов женщин, не принадлежавших к элите. Во время работы в российских архивах, когда я изучал многочисленные толстые папки, набитые письмами, обращениями и даже объемными эссе, посылавшимися отдельными лицами и группами в адрес нового Временного правительства, Петроградского совета, выдающихся политических фигур и различных газет, мне попадались словесные излияния тысяч мужчин – включая огромное количество рабочих, крестьян и солдат, порой едва грамотных, но все равно писавших. И лишь единичные выступления женщин, причем особенно редкими были голоса женщин из рядов пролетариата и крестьянства. Разумеется, в истории молчание так же показательно, как и дошедшие до нас слова. Авторы, изучающие историю женщин, указывают, что скудость женских голосов в общественной сфере сама по себе красноречиво говорит о традициях неравенства и исключения женщин из общественной жизни, отличавшейся мужским доминированием.
Словно подчеркивая это молчание, мужчины иногда писали от имени женщин, давая им разъяснения в отношении «новой жизни», обещанной им революцией, и истинного смысла свободы. Изучая общественную жизнь тех месяцев и принесенный ими опыт, мы бы наверняка ознакомились с женским журналом «Работница», который в мае 2017 г. снова начали выпускать большевики. В его первом номере мы бы обнаружили следующее стихотворение, написанное солдатом-фронтовиком Е.Андреевым (автор не пытался скрыть свой пол) как бы от лица женщины, воспевающей свободу своему возлюбленному, которому она посылает весть о «заре жизни»:
При радостных криках, при криках народных
Кружится моя голова;
Теперь мы на воле, теперь мы свободны,
И женщинам дали права!
Могучая вера, огромная сила
Проснулась в груди молодой;
Давно мое сердце свободы просило
И жаждало жизни другой…
Мой милый, мой славный, пойми мое счастье
И с лаской в глаза загляни,
Проснулись в груди моей бурные страсти,
В глазах загорелись огни[33]33
Солдат Е. Андреев. Мы вместе с тобою//Работница. 10.05.1917. С. 6.
[Закрыть].
В изображении этого солдата женский голос приобретает стереотипно эмоциональное и сентиментальное звучание. И женщины, составлявшие редколлегию «Работницы», с готовностью отобрали это стихотворение для первого номера газеты. Поддерживая борьбу женщин со все более смелыми требованиями политического равенства и политических прав, они в то же время тщательно соблюдали идеологическую установку своей партии, гласившую, что лишь классовое единство пролетариата мужского и женского пола, а вовсе не феминистский гендерный сепаратизм способно дать женщинам «свет и свободу», обещанные им революцией[34]34
См.: П.Ф.Куделли. Памяти павших борцов//Работница. 10.05.1917. С. 2.
[Закрыть].
9
Во многих документах 1917 г. – служащих для нас окном в поток слов, в который бы мы окунулись на революционных улицах, – свобода понимается как явление положительное, активное и преобразующее жизнь. Популярный образ свободы как разбитых оков определялся в позитивном ключе, не в последней степени как избавление от физических страданий: рабочих больше не будут наказывать кулаком и розгой, бедняки больше не останутся голодными, граждан больше не будут посылать на войну, активистов за их речи больше не будут бросать в тюрьму или ссылать в Сибирь[35]35
Mark Steinberg, Voices of Revolution, 1917 (New Haven, 2001), passim.
[Закрыть]. Но многие голоса, давая свое определение свободы, видели нечто большее, помимо разбитых оков. Большинство русских как будто бы полагало, что истинная свобода не может не быть силой, обеспечивающей перемены к лучшему. Согласно еще одному образу, популярному в 1917 г., за разбитыми оковами должен последовать рассвет. При этом речь шла о социальном рассвете. Свобода должна была не только освободить индивидуумов от наложенных на них ограничений, но и создать свободное сообщество «граждан», живущих в условиях справедливости. Либеральные политические философы издавна предостерегали от этого нелиберального стирания грани между «свободой и ее сестрами, равенством и братством». Согласно этой аргументации смешивать свободу, избавляющую индивидуума от внешних помех и позволяющую ему вести активную жизнь, посвященную стремлению к счастью, с той свободой, которая непосредственно насаждает счастье путем преобразования общества, является опасной ошибкой. Более того, – продолжают авторы этих аргументов, – личную свободу при этом путают с социальной свободой, а также с совершенно иной задачей (возможно, похвальной, но не входящей в определение свободы как таковой), заключающейся в гарантиях «признания» достоинства и значимости индивидуумов, отчуждаемых или угнетаемых вследствие их классовой, половой, расовой, этнической или религиозной принадлежности[36]36
Berlin, “Two Concepts of Liberty,” 154–166. Более старым и не менее влиятельным аргументом служит выдвинутая Г. В. Ф. Гегелем концепция «признания» (Anerkennung), развиваемая в его «Иенских лекциях» 1805–1806 гг. Речь идет о «признании» «личности», «бытия», «воли» и «существования» индивидуума в качестве элементарной человеческой потребности.
[Закрыть]. Иными словами, «свободу» не следует путать с правами и справедливостью. Но, разумеется, под знаком именно такого смешения воли с ее «сестрами» свобода понималась и воплощалась в жизнь в ходе современных революций, от Франции конца XVIII в. до нашей эпохи. Во время российской революционной весны многие рабочие, крестьяне и солдаты утверждали – особенно в письмах и обращениях в Петроградский совет, члены которого считались народными представителями, – что воля требует активного насаждения социального равенства и братства. В конкретном плане это означало не только обуздание «буржуазии», которая «не отдаст свободу, хотя бы им это жизни стоило»[37]37
ГАРФ. Ф. 6978. Оп.1. Д. 354. Л. 106.-2 (рукописное обращение в Петроградский совет от Матвея Фролова).
[Закрыть], но и решение самых злободневных проблем: обеспечения продовольствием, контроля над ценами, передачи всей земли тем, кто ее обрабатывает, повышения доступности образования[38]38
См., например, резолюцию рабочих завода «Старый Парвиайнен» от 13.04.1917 в: Steinberg, Voices of Revolution, 95.
[Закрыть]. Большинству представителей русского простого народа было трудно понять либеральное предупреждение о том, что «смешение воли с ее сестрами», равенством и братством, чревато не только неверными представлениями о свободе, но и крахом истинной свободы[39]39
Berlin, “Two Concepts of Liberty,” 154–170.
[Закрыть]. О какой свободе могла идти речь без признания всеобщих прав, без всеобщего процветания, всеобщей власти, всеобщего счастья?
И все же, как это часто происходит во время революций, никакая точка зрения не могла представлять взгляды всех людей, даже всех представителей одного класса. Многие россияне, принадлежавшие к низшим классам, признавали концепцию свободы как освобождения от всяких ограничений, хотя скорее в радикальном, чем в либеральном смысле. В конце марта некто А. Земсков, называвший себя «ничтожным рабочим», отправил министру юстиции Александру Керенскому – в те первые месяцы революции тот был единственным социалистом в правительстве – длинное и путаное письмо о «свободе», в котором излагал «ту истину, которую может чувствовать только рабочий человек, способный говорить чистую правду».
С того момента, как с высоты трона слетел последний российский самодержец, вы со всех сторон слышите хвалебные гимны новому государственному строю и свободе. Новый строй рисуют в золотых красках, свободу воспевают под звон колоколов – вот звуки переживаемых революционных дней. Я, обличающий эту шумиху, – враг какого бы то ни было государственного строя, но свободу хотел бы прославить громче и торжественнее, чем вы, рабы грешной земли, если бы свобода явилась к нам откуда-нибудь. Но весь вопрос в том: свободу ли вы воспеваете? Не новые ли цепи под именем свободы вы прославляете? Да, факты переживаемой политической действительности так ясно говорят, что даже не нужно ссылаться на историю и взгляды очень многих буржуазных ученых, которые ранее имели неосторожность намеками выразить некоторую долю истины, чтобы безошибочно сказать, что свобода и государственный порядок – несовместимы… Русский рабочий, услыхав, что царя уже нет, глубоко и наивно верит, что настал час его освобождения, а почтенный Милюков [лидер либеральной Конституционно-демократической партии. —Прим. авт.] и подлая пресса еще 2 марта объявили, что «цепи с народа сняты». Но фактически свободы у нас не было ни одной секунды даже в самый разгар революции… раньше чем было снято старое самодержавное ярмо, в Таврическом дворце [совместной резиденции Временного правительства и Петроградского совета. – Прим, авт.] на скорую руку был сработан хомут, который с песнями и гимнами надели на народную шею, да и кричат на весь мир: «Свобода!!» А на самом деле это хомут… Вот насколько испорчено зрение у народа, что он не может различить две вещи: хомут и свободу!..
Порой Земсков впадает в философский тон, объясняя, почему эта новая свобода – «гнусная ложь»:
всякая государственная власть (даже и в демократических государствах) основывается на насилии по отношению к своим подданным… там, где есть свобода, нет насилия, и там, где есть насилие, нет свободы.
Но в первую очередь он дает определение свободы, отталкиваясь от вопросов социальной власти – причем речь идет не об абстрактном контроле над средствами производства (марксистское определение класса), а о конкретных формах власти над самими телами бедноты:
Лозунги времени: «Свобода!» «Долой насилие!» Но все лидеры нашего революционного движения, провозгласившие эти лозунги, проповедуют и энергично поддерживают жестокую воинскую дисциплину в войсках – эту самую грубую форму насилия… Во все горло кричат, что «цепи разрушены и настала свобода!» Но, черт возьми, какая это свобода, когда по-прежнему, как овец, ведут под пушки и пулеметы миллионы безгласных рабов и офицер так же, как и раньше, распоряжается этим рабом, как вещью, когда по-прежнему только грубым насилием удерживается многомиллионная армия серых рабов…
Земсков испытывает настолько сильные классовые чувства, что причисляет к угнетателям народа не только капиталистическую «буржуазию», заявляя, что это же верно и в отношении «всей… интеллигенции (в особенности социалистической интеллигенции)». Более того, он ощущает особое презрение к социалистам-интеллектуалам, утверждающим, что революция «руководствуется одной целью – желанием народу свободы, счастья и всякого блага»:
И как это глупо верить этим словам. Да разве народ хочет, чтобы вы пеклись о нем, заботились и т. д.? Нет, народ хочет, чтобы вы слезли с его спины. Если вы хотите народу блага, счастья и проч., то слезьте с его могучей спины, на которой вы сидите и выжимаете из него соки, не живите его трудом, не жрите чужого… Ведь народ вами угнетен и он давно знает, что все вы сидите на его спине: и дворянин, и купец, и ученый, и поэт, и журналист, и поп, и юрист – все вы с хищнической жадностью расхищаете продукты его труда. Вот отчего народ страдает и вот где корень социального зла. Для народа нужно только, чтобы вы, паразиты, не сидели на его спине, а уж как он, освобожденный от вашего ига, будет управляться, заботиться – не ваше дело. Но, наверное, можно сказать, что создавать государство ему будет незачем… Прошу не окрестить меня именем анархиста: я не анархист – я свободный от предрассудков пролетарий[40]40
ГАРФ. Ф. 6978. Оп. 1. Д. 296. Л. 39-45об.
[Закрыть].
10
В наших прогулках по революционному Петрограду нам наверняка захотелось бы нанести визит писателю Максиму Горькому. Скажем, мы могли бы отдохнуть в его квартире (он привечал у себя самых разных людей) и поинтересоваться его мнением о революции и смысле свободы. Горький, один из самых влиятельных представителей общественности в России, особенно грамотного простого люда и интеллектуалов левого толка, сам много бродил по свету в поисках сюжетов. Происходя из рядов провинциального среднего класса, в молодости он исходил Россию и перепробовал всевозможные занятия, побывав в том числе подмастерьем и мальчиком на посылках в иконописной мастерской, помощником повара на волжском пароходе, строительным рабочим, помощником продавца на базаре и газетным репортером. Познакомившись с членами нелегального студенческого кружка в Казани, он заинтересовался социалистическими идеями. Но в первую очередь он был крупным писателем – одним из самых популярных писателей в России того времени, причем особую известность ему принесли рассказы и пьесы о неприкаянных плебеях, ведущих бродячий образ жизни на дне общества. По взглядам он был близок к большевистской партии, которой нередко оказывал финансовую помощь, и к самому Ленину, хотя и не спешил формально вступать в ряды партии.
Весной 1917 г. Горький основал в Петрограде газету «Новая жизнь». Его личная редакторская колонка называлась «Несвоевременные мысли», так как Горький считал себя глашатаем неудобной правды, голосом совести в революционном лагере. Он часто с гордостью называл себя «везде еретиком»[41]41
М. Горький. О полемике //Новая жизнь. 25.04 (8.05).1917. С.1.
[Закрыть]. Первый номер газеты вышел 1 мая, в День международной солидарности трудящихся (18 апреля по российскому календарю). В первой передовице Горький обратился к своей излюбленной теме: взаимоотношениям между «революцией и культурой», между политическими переменами и интеллектуальной и нравственной жизнью общества и индивидуумов. Он полагал, что в основе этих взаимоотношений лежит свобода. Горького беспокоило опустошительное наследие самодержавия, бюрократии и насилия и особенно его последствия для человеческого духа. Кроме того, он предупреждал, что свержение монархии, сумевшей дать стране лишь отрицательную волю, неспособно духовно излечить русских людей и даже может еще глубже загнать болезнь «внутрь организма»[42]42
М. Горький. Революция и культура //Новая жизнь. 18.04 (1.05).1917. C.1.
[Закрыть]. Он продолжил эти размышления в своей второй колонке, утверждая, что для того, чтобы новая свобода стала подлинной свободой, необходимы грандиозные преобразования:
Новый строй политической жизни требует от нас и нового строя души.
Разумеется, в два месяца не переродишься, однако чем скорее мы позаботимся очистить себя от пыли и грязи прошлого, тем крепче будет наше духовное здоровье, тем продуктивнее работа по созданию новых форм социального бытия.
Мы живем в буре политических эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает рядом с хорошими чувствами темные инстинкты. Это – естественно, но это не может не грозить некоторым искривлением психики, искусственным развитием ее в одну сторону. Политика – почва, на которой быстро и обильно разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуважения к личности…[43]43
М. Горький. Несвоевременные мысли // Новая жизнь. 20.04 (3.05).1917. С. 5.
[Закрыть]
Опасения Горького подтвердились несколько дней спустя, 21 апреля, когда на Невском проспекте, в самом сердце Петрограда, произошел кровавый инцидент, в ходе которого три человека были убиты и еще несколько получили ранения из-за стрельбы, начатой неизвестным во время столкновения между демонстрантами и солдатами. Горький не столько стремился найти виновных в этом кровопролитии, сколько был озабочен ситуацией вседозволенности, угрожавшей подлинной свободе:
Светлые крылья юной нашей свободы обрызганы невинной кровью…
Преступно и гнусно убивать друг друга теперь, когда все мы имеем прекрасное право честно спорить, честно не соглашаться друг с другом. Те, кто думает иначе, неспособны чувствовать и сознавать себя свободными людьми. Убийство и насилие-аргументы деспотизма…
Великое счастье свободы не должно быть омрачаемо преступлениями против личности, иначе – мы убьем свободу своими же руками.
Надо же понять, пора понять, что самый страшный враг свободы и права – внутри нас: это наша глупость, наша жестокость и весь тот хаос темных, анархических чувств, который воспитан в душе нашей бесстыдным гнетом монархии, ее циничной жестокостью.
Способны ли мы понять это?
Если не способны, если не можем отказаться от грубейших насилий над человеком – у нас нет свободы. Это просто слово, которое мы не в силах насытить должным содержанием[44]44
М. Горький. Об убийстве //Новая жизнь. 23.04 (6.05).1917. С.1.
[Закрыть].
К чему же сводится «должное содержание» «свободы»? Одного лишь устранения ограничений явно недостаточно. Свобода должна быть «насыщена» позитивными целями – в первую очередь преодолением морального и эмоционального ущерба, причиненного как жестоким прошлым, так и неустроенным настоящим. Горький помещает в центр этой идеи человека, «я», индивидуума в обществе – то, чему соответствует часто употреблявшееся им русское слово «личность». Это понятие еще с середины XIX в. стало для русских мыслителей ключевым словом, обозначающим существование и ценность внутреннего, но неизменно обладающего социальной природой «я»: первооснову всякого индивидуума, дающую начало равному и естественному чувству достоинства всех людей, а соответственно, и естественному всеобщему равноправию. Как таковое понятие личности превратилось в мерило для оценки – и осуждения – ущерба, вызываемого политическими и социальными условиями, ведущими к человеческой деградации, шла ли речь об экономической и политической отсталости России или об опыте стремительной индустриальной и городской модернизации[45]45
Подробнее об этом см.: В. В. Виноградов. История слов. М., 1994. С. 271–309; Derek Offord, “Lichnost’: Notions of Individual Identity,” in Catriona Kelly and David Shepherd (eds), Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881–1340 (Oxford, 1998), 13–25; Laura Engelstein and Stephanie Sandler (eds), Self and Story in Russian History (Ithaca, NY, 2000); Mark D. Steinberg, Proletarian Imagination: Self Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925 (Ithaca, NY, 2002), 2–5, 62-101.
[Закрыть].
Горький разделял убеждение в том, что свобода должна защищать и обогащать личность и что для этого требуется не только преодоление внешних ограничений, наложенных на индивидуума, но и создание социальных условий, которые бы позволили индивидууму процветать как самому по себе, так и в качестве члена общества. Такая свобода требует преобразования разума и души, «ликвидации» интеллектуальных и моральных следов несвободного прошлого. С течением времени эта идея могла привести к суровым последствиям: что касается лично Горького, она отчасти объясняла, почему он поддерживал сталинскую модернизацию-революцию сверху и изъявлял потребность в «инженерах человеческой души». Но сейчас, в 1917 г., Горький придерживался восходящего к XIX в. либерального убеждения в том, что истинная, или «настоящая», свобода требует «признания» «свободы других». Этим и объясняются отвращение и гнев, который вызывали у Горького случаи уличного насилия, представлявшие собой покушение на чужую свободу и права. Однако таким революционерам, как Горький, либеральные определения свободы все же казались слишком скромными и узкими: свобода не сводится к одному лишь признанию свободы других; свобода должна нести с собой позитивные изменения, «новую жизнь» для общества и для индивидуума, чудесное новое начало.
11
Ближе к концу той весны отправившись в Москву, мы постарались бы найти великого писателя-модерниста Андрея Белого и обнаружили бы, что он работает над серией эссе о революции, опубликованных под конец того года под названием «Революция и культура» – тем же самым, которое избрал Горький для своей первой передовицы в газете «Новая жизнь». Белый, совсем недавно издавший блестящий роман «Петербург» (1916), воспринимал революцию как стихийную силу природы:
Но это яростное сокрушение пределов можно сравнить и с рождением новой жизни:
Словарь Белого (включая гендерно окрашенные образы разрушения и созидания) основывается на символистских теориях и мистической философии, но в то же время и на популярных образах революции как весны, разрушительных бурь, возрождения и новой жизни.
В каком-то смысле Белый дает ответ на обеспокоенность Горького тем, что свирепые эмоции и деяния являются угрозой для свободы:
Акт революции двойственен; он – насильственен; он – свободен; он есть смерть старых форм; он – рождение новых; но эти два проявленья – две ветви единого корня… толчок революции – показатель того, что младенец взыгрался во чреве. Революционные силы суть струи артезианских источников; сначала источник бьет грязью; и – косность земная взлетает сначала в струе; но струя очищается; революционное очищение – организация хаоса в гибкость движения новорождаемых форм.
Таким образом, не надо бояться хаоса и неопределенности, вызванных революцией:
Первый миг революции – образованье паров, а второй – их сгущение в гибкую и текучую форму: то – облако; облако в движении есть все, что угодно: великан, город, башня; в нем господствует метаморфоза; на нем появляется краска; оно гласит громом; громовые гласы в немом и бесформенном паре есть чудо рождения жизни из недр революции[48]48
Там же. С. 13–14.
[Закрыть].
Рождающаяся в итоге новая жизнь представляет собой ничто иное, как «царство свободы». Белый уделяет большое внимание этой идее, восходящей, разумеется, к иудео-христианскому пророчеству о пришествии мессианского «царства Божьего» или «царства свободы». Как мы уже видели, у Маркса и Энгельса эта идея преобразовалась в определение революции как «скачка из царства необходимости в царство свободы», скачка из существования, диктуемого материальными ограничениями, наложенными природой и историей, к радикально новой жизни, где человеческие поступки будут определяться желаниями и возможностями и люди впервые в истории смогут «вполне сознательно сами творить свою историю»[49]49
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 20. М., 1961. С. 295.
[Закрыть]. Непосредственным источником вдохновения для Белого служил Лев Толстой, в своем памфлете 1894 года «Царство Божие внутри нас» утверждавший, что отнюдь не государственная или церковная власть, а одни лишь знания открывают путь к искуплению, к справедливому и подлинно свободному обществу[50]50
Л. Н. Толстой. Царство Божие внутри нас. Берлин, 1894.
[Закрыть].
Белый идет еще дальше. Он говорит о революционном прыжке в первую очередь применительно к сфере искусства, заявляя о необходимости вырваться «из необходимости творчества в страну свободы его». Он развивает мысль Толстого: «царство свободы – уже в нас! Оно будет вне нас!»[51]51
А. Белый. Революция и культура. С. 17.
[Закрыть] И это относится отнюдь не только к искусству:
Первый акт творчества есть создание мира искусства; акт второй: созиданье себя по образу и подобию мира; но мир созданных форм не пускает творца в им созданное царство свободы; у порога его стоит страж: наше косное «я»… Акт третий: вступление в царство свободы и новая связь безусловно свободных людей для создания общины жизни по образу и подобию новых имен, в нас таинственно вписанных духом[52]52
Там же. С. 24.
[Закрыть].
В отношении того, каким образом удастся войти в это «царство свободы», Белый расценивает марксистскую метафору скачка как слабую и ущербную:
Революция духа – комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы, рисуемый социальный прыжок не есть вовсе прыжок; он – паденье кометы на нас; но и это падение есть иллюзия зрения: отражение в небосводе происходящего в сердце[53]53
Там же. С. 30.
[Закрыть].
Подобно комете Галлея, которая породила в России значительный общественный интерес (и страх), когда в 1910 г. приблизилась к Земле[54]54
См., например: Весна. 1910. № 3. С. 23, и 1910. № 11. С. 86 (письмо Льва Толстого).
[Закрыть], этот образ революции как кометы может быть истолкован как аргумент о чудесной реальности, о невероятной, но подлинной реальности, скрывающейся за фактами нормальной, повседневной жизни. Однако, как объясняет Белый, этот будущий мир свободы, эта более правдивая, но чужеродная реальность – не внешняя сила, пришедшая из глубин космоса, а «образ наш внутри нас, как звезда; он – не видим; он дан в пучке блесков»[55]55
А. Белый. Революция и культура. С. 29.
[Закрыть]. Вальтер Беньямин в ответ на другой исторический кризис и вдохновляемый иными философскими и политическими идеями, аналогичным образом описывал «современность» – «осколки мессианского времени» – и будущее время искупления, позволяющее «запечатлеть» себя лишь как «образ», который «вспыхивает в момент опасности»[56]56
В. Беньямин. О понятии истории. С. 239–240, 249.
[Закрыть]. Возвращаясь к тому, с чего мы начинали эту главу, при помощи Белого и Беньямина можно предположить, что именно многие русские думали и чувствовали во время этой весны свободы: им казалось, что эти блески и осколки, будучи пойманными, могут «взорвать континуум истории» и сделают возможным «прыжок под вольным небом» в «царство свободы», за пределы известного им настоящего.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































