Читать книгу "В поисках утраченного времени. Книга 6. Беглянка"
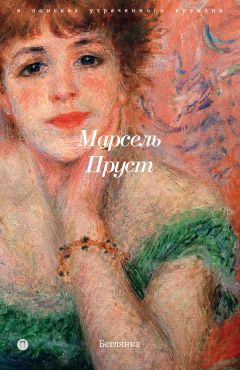
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я все время думал об Альбертине, а Франсуаза, входя ко мне, не спешила унять мою тревогу, сказав мне: «Писем нет». Однако время от времени мне удавалось, пропустив сквозь мою печаль какую-нибудь постороннюю мысль, обновить, немного проветрить затхлый воздух моего внутреннего мира. Но вечером, если мне удавалось заснуть, снотворное заменяла мне мысль об Альбертине; когда же действие его прекращалось, я просыпался. Я и во сне думал об Альбертине. Это был особый сон, принадлежавший ей, и если бы даже я нашел иную пищу для размышлений, все равно я был бы так же не свободен, как наяву. Сон, память – мы спим благодаря взаимодействию этих двух субстанций. Когда я просыпался, моя душевная боль, вместо того чтобы утихнуть, все усиливалась. Забвение делало свое дело, но вместе с тем оно идеализировало образ, о котором я тосковал, оно способствовало освоению изначального моего страдания и других аналогичных, усиливавших его. С утратой самого этого образа еще как-то можно было свыкнуться. Но если я мысленно возвращался к ней в комнату с кроватью, на которой никто не лежал, если я вспоминал об ее музыкальном инструменте, об ее автомобиле, силы мгновенно покидали меня, глаза закрывались, голову клонило набок, как у тех, кто вот сейчас упадет в обморок. Хлопанье дверей причиняло мне почти такую же острую боль, потому что отворяла их не Альбертина. Я уже не решался спросить, есть ли телеграмма от Сен-Лу. Наконец телеграмма пришла, но то, что в ней сообщалось, только отсрочивало встречу: «Дамы уехали на три дня».
Я вытерпел четыре дня, прошедшие с тех пор, как Альбертина уехала, только благодаря тому, что я себя убеждал: «Это вопрос времени, к концу недели она будет здесь». И все же этот довод не облегчал моему сердцу, моему телу решение задачи: как жить без нее, как возвращаться в пустой дом, проходить мимо ее комнаты (отворять дверь я еще не смел), зная, что ее там нет, как ложиться спать, не пожелав ей спокойной ночи, – не облегчал борьбы с ужасающей совокупностью лишений, не приучал жить так, словно я и не должен вновь встретиться с Альбертиной. Но то, что я уже четыре раза со всем этим справился, доказывало, что справлюсь и в дальнейшем. И, быть может, вскоре при поддержке разума, до сих пор помогавшего мне вести такой образ жизни, я перестану ощущать необходимость в возвращении Альбертины (я сказал бы себе: «Она не вернется» – и все-таки продолжал бы жить, как жил последние четыре дня) – так раненый, снова научившийся ходить, может обойтись без костылей. Конечно, вечером, вернувшись домой, я задыхался от пустоты и от одиночества и углублялся в воспоминания, образовывавшие нескончаемую цепь, – в воспоминания о вечерах, когда Альбертина меня ждала. Но я уже углублялся и в мысли о вечере последующем, о вечере, следовавшем за ним, и еще о двух вечерах, то есть в воспоминания о четырех вечерах, истекших со времени отъезда Альбертины, вечерах, которые я проводил один, без нее, – и, однако, остался жив, – вечерах, уже составлявших целую нить, и хотя нить эта была пока еще коротка по сравнению с другой, но каждый новый прожитый день будет удлинять ее. Я не стану рассказывать ни о письме, в котором самая обворожительная из всех парижанок, племянница герцогини Германтской, давала согласие быть моей женой, ни об игре, какую вел со мной герцог Германтский, получив на то благословение ее родителей, смирившихся ради счастья дочери с явным мезальянсом. Подобные происшествия – всегда укол для самолюбия, но человеку влюбленному они наносят ранение тяжелое. Человеку хотелось бы поделиться этими новостями с той, которая к нему недостаточно благосклонна, но он не может себе этого позволить, потому что это бестактно, хотя, если б она узнала, что другие относятся к этому человеку поиному, то мнения своего все же не изменила бы. Письмо племянницы герцога могло бы расстроить Альбертину, но не больше.
В то мгновение, когда я проснулся, меня вновь охватила тоска, теснившая мне сердце перед сном, тоска, похожая на книгу, которую мы закрываем только на время, и теперь она не покинет меня до самого вечера, покинет при условии, если я узнаю что-нибудь новое об Альбертине, все ощущения, независимо от того, явились они извне или возникли внутри меня, касались ее. Послышался звонок: письмо от Альбертины, а может быть, она сама! Когда я чувствовал себя хорошо, когда я не был таким несчастным, то меня не мучила ревность, Альбертина не вызывала во мне неприязни, мне хотелось как можно скорее увидеть ее, поцеловать, мне хотелось весело прожить с ней жизнь. Телеграфировать ей: «Приезжайте скорее» – казалось мне делом обычным, тогда как новое мое настроение произвело перемену в моей внутренней жизни, и весь окружающий мир утратил для меня всякий интерес. Если я был в мрачном настроении, то вся моя злоба против Альбертины оживала, мне уже не хотелось ее целовать, я уверял себя, что не буду с ней счастлив, я хотел причинять ей только боль и мешать принадлежать другим. Но итог этих разных настроений был одинаков: я мечтал о том, чтобы она как можно скорее вернулась. И все же я чувствовал, что, как бы я ей ни обрадовался, те же самые трудности возникнут потом вновь. Поиски счастья в удовлетворении желания были так же наивны, как несбыточна надежда дойти прямым путем до горизонта. Истинное обладание тем дальше от нас, чем сильнее наше желание. Если счастье, или, по крайней мере, жизнь без страданий и может быть достигнута, то не благодаря удовлетворению желания, а благодаря постепенному его уменьшению, благодаря предельному его сужению, – вот к чему нужно стремиться. Человеку хочется увидеть то, что он любит, а лучше бы не видеть, ибо только забвение ведет к угасанию желания. Если бы писатель, развивающий в своей книге такие истины, посвятил эту книгу женщине, с которой мечтал бы таким путем сблизиться: «Эта книга – тебе», он солгал бы в своем посвящении. Связи между кем-либо и нами существуют только в нашем воображении. Память, слабея, теряет их и, несмотря на сознательный самообман, с помощью которого мы, по велению любви, дружбы, из вежливости, из уважения, из чувства долга, обманываем других, в конце концов мы остаемся одни. Человек – существо, которое не может отрешиться от себя, которое знает других людей только преломленными сквозь него; если же он утверждает нечто противоположное, то он, попросту говоря, лжет. Я был бы очень огорчен, если бы кто-нибудь лишил меня потребности в общении с Альбертиной, вынудил меня разлюбить ее, и я убеждал себя, что не могу без нее жить. Если б я заставил себя равнодушно выслушивать, как произносят названия станций, мимо которых проходит туреньский поезд, я воспринял бы это как мое нравственное падение: это означало бы, что Альбертина становится мне безразличной. Как было мне хорошо, когда, поминутно задавая себе вопросы: чем она сейчас занята, о чем думает, чего ей хочется, не намерена ли она, не собирается ли она вернуться, я держал распахнутой дверь, проделанную во мне любовью, и чувствовал, как жизнь другого человека наполняет через открытые шлюзы водохранилище, в котором вода не желает быть застойной!
Когда молчание Сен-Лу затянулось, второстепенная забота – ожидание телеграммы или телефонного звонка от Сен-Лу – отодвинула главную: над тревогой из-за того, каков же конечный результат его поездки, возобладала жажда знать, вернется ли Альбертина. Прислушиваться к малейшему шороху в ожидании телеграммы – это стало для меня просто невыносимо; я уже начал думать, что, о чем бы ни говорилось в телеграмме, я перестал бы терзаться. Но когда я наконец получил телеграмму от Робера, в которой он меня извещал, что виделся с г-жой Бонтан, но что, несмотря на все предосторожности, его видела Альбертина и что это все и погубило, я рвал и метал от бешенства и отчаяния: ведь мне именно этого и хотелось прежде всего избежать. Узнав о поездке Сен-Лу, Альбертина поняла, как она мне дорога, и это могло только удержать ее. Мой ужас при мысли об этом, кстати сказать, не уступал в силе той гордости, которая жила в моей любви к Жильберте и которую моя любовь утратила. Я проклинал Робера, потом сказал себе, что раз этот способ не удался, то я найду другой. Если на человека влияет внешний мир, то почему же я с помощью хитрости, ума, заинтересованности, пристрастия не сумею перебороть страшную боль от отсутствия Альбертины? Существует мнение, что мы можем по своей прихоти изменить внешний мир. Думают так потому, что не видят другого выхода. И не помышляют о таком выходе, который открывается перед нами чаще всего и который тоже вполне для нас благоприятен. Нам не удается изменить внешний мир по нашему благоусмотрению, но мало-помалу меняется само наше решение. Положение, которое мы надеялись изменить, потому что оно представлялось нам нестерпимым, становится для нас безразличным. Мы не смогли преодолеть препятствие, но жизнь повернула его к нам другой стороной, заставила нас перешагнуть через него, и только тогда, окидывая взглядом далекое прошлое, мы можем его разглядеть, да и то вряд ли – так оно теперь трудно различимо.
Этажом выше соседка наигрывала арии из «Манон»[9]9
«Манон» (1884) – опера французского композитора Ж. Массне (1842–1912), либретто А. Мельяка и Ф. Жилля по роману А.-Ф. Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско». Первая цитата относится ко 2-й картине третьего действия, когда де Гриё, силясь в мрачных стенах духовной семинарии забыть принесшую ему страдания переменчивую возлюбленную, вдруг снова встречается с виновницей своих злоключений, которая вновь клянется ему в любви и умоляет быть с ней. Вторая цитата – из финального дуэта пятого действия, когда Манон, освобожденная из-под стражи благодаря усилиям де Гриё, умирает на руках несчастного влюбленного.
[Закрыть]. Я переносил известные мне слова арий на Альбертину и на себя, и скоро это довело меня до слез. Слова были такие:
Возненавидев плен, отчаясь, ночью птица
Рванулась из окна и вот
Колотится в стекло,
Чтоб в клетку возвратиться.
И еще о смерти Манон:
Манон, единственная страсть моей души!
Знай, лишь теперь мне доброта твоя открылась.
Так как Манон вернулась к Де Грие, то мне казалось, что я – единственная привязанность Альбертины. Увы! Вероятно, если бы она в тот момент услыхала эту же арию, то ласкала бы человека под именем Де Грие, а не меня, мысль же обо мне не доставила бы ей удовольствия, а между тем эта музыка очень подходила к нашему случаю, но только она была возвышеннее и утонченнее, она была написана в стиле той, которую любила Альбертина.
Я не мог предаться отрадным воспоминаниям о том, что прежде Альбертина называла меня «своей единственной любовью», я сознавал, что она ненавидела себя за то, что «находилась в рабстве». Я знал, что нельзя читать роман, не придавая героине черты той, которую ты любишь. Но, несмотря на то что конец книги может быть счастливым, наша любовь не усилилась бы ничуть; когда же мы закрываем книгу, та, которую мы любим и которая наконец приходит к нам в романе, в жизни любит нас не больше, чем прежде.
Вне себя от ярости, я в телеграмме велел Сен-Лу как можно скорее возвращаться в Париж, чтобы, по крайней мере, не проявлять тягостной настойчивости в деле, которое мне так хотелось скрыть! Но еще до его возвращения я получил телеграмму от Альбертины:
Друг мой! Вы послали своего приятеля Сен-Лу к моей тетушке, но это же бессмысленно. Дорогой друг! Если я была Вам нужна, то почему Вы прямо не обратились ко мне? Я бы с радостью вернулась. Не возобновляйте эти бессмысленные попытки.
«Я бы с радостью вернулась»! Раз она так выразилась, значит, она жалела, что уехала, и только искала предлог, чтобы вернуться. Значит, мне нужно было сделать то, о чем она мне телеграфировала. Написать, что она мне нужна, и тогда она бы вернулась. И я ждал ее, Альбертину времен Бальбека (после ее отъезда она снова стала для меня той Альбертиной; это как раковина, на которую мы не обращаем внимания, пока она лежит на комоде, но стоит нам отдать ее или потерять, как мы начинаем о ней думать; мысль об Альбертине приводила мне на память ликующую красоту приморских скал). И не только сама Альбертина превратилась в существо воображаемое, иначе говоря – желанное, но и жизнь с ней стала жизнью воображаемой, то есть свободной от каких бы то ни было затруднений, и я говорил себе: «Как мы будем счастливы!» С той минуты, как у меня появилась уверенность, что Альбертина вернется, мне ни к чему было торопить ее, – напротив, мне нужно было изгладить неприятное впечатление от действий Сен-Лу; я мог бы потом при случае отмежеваться от него, отговориться тем, что он действовал на свой страх и риск, так как всегда был сторонником этого брака.
Ее письмо разочаровало меня тем, как мало в нем было от нее. Конечно, буквы выражают нашу мысль, как выражают ее черты лица. Мы всегда находимся в подчинении у какой-нибудь мысли. И все же мысль проявляется в человеке только после того, как она опылила венчик лица, расцветшего, подобно нимфе. Это оказывает на нее сильное действие. И в этом, быть может, одна из причин разочарований, от века постигающих нас в любви: вместо ожидаемого любимого, идеального существа каждое свидание являет нашему взору реального человека, в котором так мало остается от нашей мечты! И когда мы чего-нибудь требуем от этого человека, мы получаем в ответ письмо, в котором от того, каким мы его себе вообразили, остается столько же, сколько в алгебраических формулах остается арифметических величин, которые ничего не говорят нам о качестве плодов или цветов. Слова «любовь», «любимое существо», его письма – это, может быть, как раз выражения (пусть и несовершенные с точки зрения любящего человека) реальности, потому что письмо не удовлетворяет нас, только пока мы его читаем, но мы смертельно тоскуем без него, когда его нет, и оно же усмиряет нашу тревогу, даже если его черненькие значки не исполняют нашего желания, ибо мы чувствуем, что хотя они – не произносимое слово, не улыбка, не поцелуй, а все-таки есть в них нечто равнозначащее.
Я написал Альбертине:
Друг мой! Я как раз собирался Вам написать. Спасибо Вам за Ваши слова о том, что если Вы мне будете нужны, то сейчас же приедете. Какая это благородная черта – верность старому другу! Я стал еще больше Вас уважать. Но только я не просил Вас приехать и не попрошу. Если бы мы с Вами увиделись, хотя бы даже не скоро, то Вам это не было бы очень тяжело, бесчувственная Вы девушка. А вот для меня, хотя Вы порой склонны были обвинять меня в равнодушии, это было бы тяжким испытанием. Жизнь разлучила нас. Вы приняли решение, которое я считаю мудрым, и приняли как раз вовремя, обнаружив изумительную чуткость: Вы уехали на другой день после того, как я получил от моей матери разрешение на брак с Вами. Я бы сказал Вам об этом, как только, проснувшись, получил от нее письмо (одновременно с Вашим!). Но, быть может, Вы бы тогда подумали, что Ваш отъезд будет для меня большим горем. И, быть может, мы связали бы наши жизни, и – кто знает? – это было бы для нас обоих несчастьем. Если мое предположение правильно, то да воздаст Вам Господь за Вашу мудрость! При встрече мы утратили бы достигнутое. Для меня это было бы новым искушением. А я не могу похвалиться стойкостью в борьбе с искушениями. Вы знаете, какое я непостоянное существо и как скоро я все забываю. Я не стою того, чтобы меня жалели. Вы же сами часто мне об этом твердили. Прежде всего я – человек привычек. Те привычки, что образовались у меня после Вашего отъезда, еще не очень сильны. Те, которые были у меня при Вас и которые Ваш отъезд поколебал, пока более устойчивы. Но скоро они эту свою устойчивость утратят. Я даже подумал, не воспользоваться ли мне несколькими днями, когда наша встреча еще не причинила мне того, что причинит через неделю, а может быть, и раньше, – простите за откровенность: причинит беспокойство; я подумал, не воспользоваться ли мне этими днями прежде, чем наступит полное забвение, чтобы разрешить с Вами кое-какие пустяковые финансовые вопросы, при разрешении которых Вы, мой добрый и милый друг, могли бы оказать услугу человеку, который считал себя без пяти минут Вашим женихом. В согласии матери я не сомневался, но мне хотелось, чтобы мы оба пользовались свободой, которую Вы с присущей Вам любезностью и душевной щедростью принесли мне в жертву: что можно было допустить в совместной жизни, длившейся несколько недель, то было бы невыносимо и Вам, и мне, если бы нам предстояло прожить вместе всю жизнь. (Я содрогаюсь от одной мысли, что этого едва не случилось: ведь еще несколько секунд – и все было бы кончено.) Я подумал о том, как сделать нашу жизнь совершенно свободной, и прежде всего решил, что у Вас должна быть яхта: Вы бы совершали на ней путешествия, а я, сгорая от нетерпения, ждал бы Вас в гавани. Я написал Эльстиру и попросил у него совета – я знаю, что Вы одобряете его вкус. А еще мне хотелось, чтобы у Вас был свой автомобиль, свой собственный, в котором Вы разъезжали бы куда Вам заблагорассудится. Яхта почти готова; называется она, согласно выраженному Вами в Бальбеке желанию, «Лебедь». Вспомнив, что Вы предпочитаете «роллсы», я заказал автомобиль именно этой марки. Но раз мы больше не увидимся, то я полагаю, что мне не удастся уговорить Вас принять от меня в подарок яхту и автомобиль, – у Вас надобность в них отпала, а мне они тоже ни к чему. Вот я и подумал (я заказывал их через посредника, но на Ваше имя), что, может быть, Вы отмените заказ и, таким образом, избавите меня от не нужных мне яхты и автомобиля. Об этом, как и о многом другом, нам следовало бы поговорить при свидании. Но так как я снова могу полюбить Вас, хотя и ненадолго, то с моей стороны было бы безумием из-за парусного суденышка и «роллс-ройса» добиваться встречи с Вами и мешать Вашему счастью, раз Вы уверены, что можете быть счастливы только вдали от меня. Нет, лучше отказаться от «роллса» и даже от яхты. Я же никогда не буду ими пользоваться, и они обречены на вечную стоянку: яхта – в гавани, на якоре, без оснастки, автомобиль – в гараже. Я только прикажу выгравировать на яхте… (Боже, как мне страшно ошибиться в названии! Вы пришли бы в ужас от подобного кощунства) стихи Малларме[10]10
…стихи Малларме, которого Вы когда-то любили… – В новейшем критическом издании романа здесь приводится следующее четверостишие из сонета «Лебедь» (1885) из сборника «Стихи» (1887):
Там лебедь царственный остался навсегда,
Он помнит, как его манила даль пустая,
Но жизни не воспел в пустыне, где, не тая,
Тверда под инеем бесплодная вода.
(Перевод Р. Дубровкина)
Помните его стихотворение, начинающееся так… – Эта фраза является буквальным повтором фразы Пруста из письма к Агостинелли, отправленного 30 мая 1914 г. (в день смерти «беглеца», о которой писатель узнал чуть позже из телеграммы его подруги). В этом же письме Пруст по памяти приводит сонет С. Малларме, процитированный в романе. Ни в каком другом месте романа жизнь писателя не сливается столь полно с жизнью персонажа. Напомним, что Альфред Агостинелли «исчез» из дома Марселя Пруста 1 декабря 1913 г., отправившись вместе со своей подругой на юг Франции, где записался в школу авиаторов братьев Гарберо в Антибе под именем Марселя Свана. Пруст всеми средствами пытался вернуть «беглеца», суля ему личный аэроплан и «роллс-ройс», хотя такие подарки (около 27 тысяч франков каждый, то есть миллион по современному курсу) стоили бы ему практически всего состояния.
Ввиду исключительной ценности этого письма, представляющего собой единственное прямое свидетельство отношений Пруста и Агостинелли, приведем его здесь с небольшими купюрами:
[Суббота, 30 мая 1914]
Мой дорогой Альфред!
Я вам очень благодарен за письмо (одна фраза была восхитительной, сумрачной и т. п.) и телеграмму, что было сверхлюбезностью. Свою я не отправил лишь потому, что уже поздно, так как письмо принесли, когда я уже спал и т. п. Поскольку оно (Ваше) доставило мне удовольствие, то мое не было уж совсем бесполезным. В остальном же (Вы опять будете говорить, что я не знаю, чего хочу) оно было именно таким. Ибо я подумал, что с моей стороны было бы нескромностью принять от Вас услугу такого рода, и я хочу попытаться самостоятельно добиться того, чего требую. Я не стану Вам объяснять, почему я не счел бы это скромным, рискуя вновь Вас рассердить, а как раз этого я и хотел бы избежать. Я должен был бы подумать об этом раньше, но такая мысль пришла ко мне лишь после моего письма к Вам. Впрочем, полагаю, что это так или иначе разрешится.
Что касается аэроплана, здесь сложнее по той же самой причине, что и в отношении последнего случая с Грассе, Вы помните тот день, когда он мне написал: Я освобождаю Вас от всяких обязательств по контракту, делайте то, что хотите, а я не мог сделать ничего, кроме того, чего хотел он. <…> Во всяком случае, если я его оставлю у себя (в чем я сомневаюсь) и так как он, по всей видимости, будет стоять в конюшне, я прикажу выгравировать на (я не знаю, как называется эта деталь, и не хочу допустить ересь в глазах авиатора) нем известные вам стихи Малларме:
Там лебедь царственный остался навсегда,
Он помнил, как его манила даль пустая,
Но жизни не воспел в пустыне, где не тая…
Он шеей отряхнет искристый этот холод:
Грозящий смертью свод отвергнут и расколот,
Но не расколот лед, где перья пленены.
Отныне обречен сиять прозрачной льдиной,
Застыл, закутанный в презрительные сны,
Изгнанник призрачный гордыни лебединой.
(Перевод Р. Дубровкина)
Это стихотворение, которое вы любили, находя его при этом темным, и которое начинается так:
Звенящий зимний день, взломав безмолвье льда,
Взмахнешь ли ты крылом, победно отметая
Забвенье озера, где цепенеет стая
Видений, чей отлет сковали холода!
(Перевод Р. Дубровкина)
Увы! «День» уже не «звенящий» и не «зимний». <В оригинале первая строка сонета Малларме, на которую ссылается Пруст, намного чувственнее: «Девственный, жгучий и прекрасный сей день». – Соответственно, предыдущая фраза письма могла бы звучать так: «Увы! „Сей день“ уже не „девственный“, ни „жгучий“, ни „прекрасный“!» – О. В., С. Ф.>
Главное же, чтобы уж кончить с этим аэропланом, убедительно прошу Вас думать, что мои слова в этом отношении не содержат никакого – пусть даже и скрытого – упрека. Это было бы глупо. И так есть в чем Вас упрекнуть, и Вы знаете, что я не упускаю случая это сделать. На самом деле, превеликой глупостью было бы возложить на Вас ответственность (я имею в виду моральную) за бесполезность покупки, о которой Вы ничего не знали <…>
Коль скоро Вы интересуетесь «Сваном» и спортом, посылаю Вам статью о «Сване», появившуюся в одной спортивной газете. Сожалею, что это не «Аэро» (но, может быть, будет и там!), мне бы хотелось дать Вам почитать, но оно на двадцать страниц, письмо автора этой статьи, который извиняется передо мной за то, что неверно цитировал мою книгу.
Я просил у Вас выслать мне обратно мое письмо, Вы этого не сделали. Кроме того, я просил Вас ставить побольше печатей на конверт. Вы этого тоже не сделали. Заказное письмо идет быстро <…> и Вы могли бы выслать мне (как следует запечатав) это письмо и прошлое. Не стоит утруждать себя письмами ко мне, поскольку Вы много работаете, просто вложите их в конверт. Дружески жму Вашу руку.
Марсель Пруст.
Обращаясь к Агостинелли с просьбой возвращать письма, Пруст, по-видимому, не только хочет избежать того, чтобы они были еще кем-то прочитаны, но и, возможно, думает использовать их в романе.
[Закрыть], которые Вы когда-то любили… Помните его стихотворение, начинающееся так:
Неумирающий, прекрасный и безгрешный!
Увы! Сегодня нет уже ни безгрешности, ни красоты. Те же, кто, как я, знают, что они очень скоро превратят красоту в нечто посредственное, совершенно невыносимы. А к «роллсу» скорей подошли бы другие стихи того же самого поэта, о которых Вы говорили, что они недоступны Вашему пониманию.
В колесах яхонты горят[11]11
В колесах яхонты горят… – Заключительные строфы из сонета С. Малларме «В твою я повесть не войду» из сборника «Другие стихи и сонеты» (1886).
[Закрыть].
Я видеть несказанно рад
Огонь, что твердь прожечь стремится.
Пылают горних царств куски.
Умру от предночной тоски
На одинокой колеснице.
Прощай навсегда, моя милая Альбертина! Еще раз спасибо за очаровательную прогулку накануне нашей разлуки. У меня осталось о ней прекрасное воспоминание.
Р. S. Я ничего не пишу Вам о сногсшибательных предложениях Сен-Лу (кстати, я понятия не имел о том, что он в Турени), которые, как Вы утверждаете в своем письме, он сделал Вашей тетушке. Это в духе Шерлока Холмса[12]12
Это в духе Шерлока Холмса. – Роль, которую исполняет Сен-Лу в попытках вернуть Альбертину, в действительности отведена была Альберу Намья (1886–1979), молодому другу Пруста и его советнику в биржевых операциях: писатель поручил ему поехать в Ниццу и втайне предложить отцу Агостинелли определенную сумму денег в обмен на содействие в немедленном возвращении «беглеца» в Париж.
[Закрыть]. Что же Вы могли обо мне подумать?
Разумеется, так же, как я раньше говорил Альбертине: «Я вас не люблю» – для того, чтобы она меня любила; «Я забываю тех, кого я не вижу» – для того, чтобы она как можно чаще на меня взглядывала; «Я решил с Вами расстаться» – для того, чтобы у нее не возникала даже мысль о разлуке, – теперь мне очень хотелось, чтобы она вернулась через неделю, и потому я писал: «Видеться с Вами для меня опасно». Жить в разлуке с ней было для меня хуже смерти, – вот почему я писал ей: «Вы правы: совместная жизнь была бы для нас обоих несчастьем». Но, прежде чем написать это неискреннее письмо, убеждая себя, будто она мне не дорога (только этим я и тешил свое самолюбие в моем былом чувстве к Жильберте, в моем чувстве к Альбертине), а также ради удовольствия высказать то, что волновало меня, но не ее, я должен был бы предусмотреть, что, по всей вероятности, она как раз и ждет от меня отрицательного ответа, то есть подтверждающего мое истинное намерение; по всей вероятности, именно так Альбертина и поняла бы мое письмо, потому что, даже если бы она была глупее, чем на самом деле, все же она ни на минуту не усомнилась бы, что все, о чем я пишу, – ложь. Если даже не принимать во внимание мои тайные намерения, которые она могла уловить в моем письме, то одного факта, что я ей написал – даже если бы мое письмо не последовало за действиями Сен-Лу, – было достаточно для того, чтобы она поняла, что я хочу ее возвращения, и чтобы ей еще легче было поддеть меня на удочку. Затем, после того, как я предугадал бы возможность отрицательного ответа, мне следовало бы предвидеть, что своей неожиданностью ответ Альбертины всколыхнет в моей душе чувство к ней. И мне следовало, опять-таки прежде чем отправлять письмо, спросить себя: сумею ли я, в случае если Альбертина ответит мне в том же духе и не захочет возвращаться, заглушить свою душевную боль, хватит ли у меня сил принудить себя к молчанию, не телеграфировать ей: «Вернитесь» и не отправлять к ней еще какого-нибудь посланца, а это – после того, как я написал ей, что мы больше не увидимся, – она восприняла бы как неопровержимое доказательство, что я не могу без нее жить, и привело бы к тому, что она еще решительнее стала бы отказываться, я же, не переборов тоски, поехал бы к ней, и – кто знает? – может быть, меня бы не приняли. Да, конечно, так бы оно и было после трех чудовищных оплошностей, после худшей из всех, из-за которой мне осталось бы только покончить с собой у двери ее дома. Но так уж необъяснимо устроен психопатологический мир: неловкий поступок, поступок, которого во что бы то ни стало следует избежать, на поверку оказывается умиротворяющим, поддерживающим в нас – до тех пор, пока мы не узнаем, чего мы достигли, – надежду, мгновенно успокаивает отчаянную боль, которую вызвал отказ. Словом, если боль невыносима, мы делаем один ложный шаг за другим: пишем письма, обращаемся с просьбой через третьих лиц, являемся сами и доказываем нашей любимой, что не можем без нее жить.
Но ничего этого я не предузнавал. Мне казалось, что результат моего письма будет совсем другой, то есть письмо заставит Альбертину вернуться елико возможно скорее. Вот почему, предполагая такой результат, я, пока писал письмо, испытывал чувство глубокой нежности. И, однако, пока я писал, я все время плакал. Теперешнее мое состояние отчасти напоминало то, в каком я находился, когда изображал нашу притворную разлуку; мои слова выражали ту же мысль, хотя преследовали другую цель, слова были фальшивые (я из гордости не сознавался в том, что люблю Альбертину), и они были тоже печальны, так как в глубине души я сознавал, что я прав.
Я был как будто бы уверен в том, какое действие возымеет мое письмо, – вот почему я пожалел, что отправил его. Когда я представил себе возвращение Альбертины, несмотря ни на что столь желанное, то неожиданно все голоса, прежде говорившие во мне против бракосочетания с Альбертиной, заговорили с прежней силой. Я надеялся, что она откажется вернуться. Я полагал, что моя свобода, вся моя будущая жизнь зависят от ее отказа; что писать к ней – это было с моей стороны безумием; что мне надо было бы взять письмо – увы, теперь уже отправленное! – обратно, когда Франсуаза, передавая газету, которую она только что принесла мне наверх, вернула его: она не знала, сколько марок требуется на него наклеить. Но во мне тотчас же произошла перемена: я по-прежнему хотел, чтобы Альбертина не возвращалась, но только чтобы это решение исходило от нее – тогда мое волнение утихло бы, и я вернул письмо Франсуазе. Я развернул газету. В ней сообщалось о кончине Берма. Тут я вспомнил, как я дважды по-разному смотрел «Федру», а теперь в третий раз – и опять иначе – как бы присутствовал при сцене объяснения. Мне казалось, что то, что я слышал в театре и потом так часто мысленно повторял, могло бы составить свод законов, действие которых мне было бы полезно проверить на себе. В нашей душе есть нечто такое, чем мы, не отдавая себе в этом отчета, очень дорожим. Если же у нас этого нет, то лишь потому, что мы откладываем приобретение со дня на день, боясь потерпеть неудачу или почувствовать боль. Именно это и случилось со мной, когда я воображал, что отказался от Жильберты. А все дело вот в чем: в ту минуту, когда мы расстаемся с тем, что для нас дорого, в ту минуту, которая настает, когда мы, допустим, еще привязаны к девушке, а девушка выходит замуж, мы безумствуем, жизнь, еще так недавно казавшаяся нам безмятежно спокойной, становится для нас невыносимой. Если же мы владеем тем, что нам дорого, мы воображаем, что оно тяготит нас, что мы охотно отделались бы от него. Именно такое отношение было у меня к Альбертине. Однако стоит отнять у нас существо, к которому мы относимся безразлично – предположим, оно уехало, – и жизнь нам не мила. Ну так что же, «аргумент», почерпнутый из «Федры», не объединял ли оба эти случая? Ипполит собирается уезжать. Федра до сих пор изо всех сил старается разжечь в себе ненависть к нему, но ее мучают угрызения совести, – так говорит она (или, вернее, так ее устами говорит поэт), – а, быть может, она не предвидит последствий и, кроме того, чувствует, что ее любовь не взаимна, – как бы то ни было, она не в силах долее сдерживаться. Она приходит к Ипполиту, чтобы объясниться ему в любви, и это именно та сцена, которую я так часто мысленно повторял:
«Поспешный ваш отъезд сулит нам отдаленье»[13]13
Поспешный ваш отъезд сулит нам отдаленье. – Здесь и далее цитируется «Федра» Расина. Размышляя о страстях расиновских персонажей, Рассказчик читает через них самого себя, свою историю любви: Альбертина отождествляется с Ипполитом, сам он становится двойником Федры. На сей раз чтение в самом себе ему не помогает: «безумие» страсти по-прежнему владеет им.
[Закрыть].
Отъезд Ипполита – причина как будто бы не столь важная, как смерть Тезея. Об этом несколькими стихами ниже говорит Федра, когда ей кажется, что ее не поняли. Можно подумать, что это оттого, что Ипполит отверг ее признание:
Царица, я решусь напомнить, наконец,
Что вам Тезей – супруг, а мне – родной отец.
Однако, если бы Ипполит не позволил себе этой дерзости и счастье было бы достигнуто, Федра, возможно, не оценила бы его. Но как только она убеждается, что не достигла своей цели, как только Ипполит, вообразив, что он не так ее понял, приносит извинения, то, подобно мне, отдавшему Франсуазе письмо, у нее возникает желание, чтобы отказ исходил от него, она хочет до конца испытать судьбу:
Жестокий, понял ты меня, и даже слишком!
Мне рассказывали, что Сван временами бывал почти груб с Одеттой – вот так же случалось и со мной по отношению к Альбертине; грубость эта объяснялась тем, что на смену прежней любви пришло сочетание жалости, нежности, потребности сорвать на ком-нибудь зло и видоизменило первоначальное чувство. Изображается это сочетание в следующей сцене:
Чем ненавистней я, тем ты дороже мне.
Из бедствий новое ты вынес обаянье.
Доказательством того, что «забота о славе» – далеко не самое дорогое для Федры, служит то, что она простила бы Ипполиту и пренебрегла бы наставлениями Энона, если бы в этот момент не узнала, что Ипполит любит Арисию. Ревность, равносильная утрате счастья, ощутимее утраты доброго имени. Вот когда Федра дает возможность Энону (который представляет собой не что иное, как худшую часть ее души) оклеветать Ипполита, освобождая себя от «заботы его защищать», и таким образом отдает того, кто ею пренебрегает, на волю судьбы, превратности которой для нее, однако, отнюдь не утешительны, ибо за смертью Ипполита следует ее самоубийство. Именно вследствие того, что Расин преуменьшил все эти «янсенистские»[14]14
…все эти «янсенистские»… – Янсенизм – религиозное учение, основанное голландским богословом Корнелиусом Янсением (1585–1638). Главный догмат учения – отрицание свободной воли у человека, вера в предопределение. Во Франции средоточием янсенизма был знаменитый монастырь Пор-Рояль, воспитавший многих видных ученых и писателей, в том числе и Расина.
[Закрыть], как сказал бы Бергот, угрызения совести, которыми Расин наделил Федру, чтобы она считала себя менее виноватой, мне и представлялась эта сцена чем-то вроде предсказания любовных перипетий моей жизни. Впрочем, эти размышления ничего не изменили в моем решении, и я отдал письмо Франсуазе, чтобы она отнесла его на почту, таким образом предприняв по отношению к Альбертине еще одну попытку, представлявшуюся мне необходимой с той минуты, когда я узнал, что первую попытку осуществить не удалось. И, конечно, мы не правы, полагая, что исполнение нашего желания мало что значит: ведь как только у нас появляется мысль, что оно может не осуществиться, так сейчас же оно вновь овладевает нами, и мы уже не думаем, что не стоит прилагать усилий для того, чтобы его исполнить, как думали, когда были уверены, что стоит нам только захотеть – и оно исполнится. Но и в этом есть свой смысл. Ведь если исполнение желания, если счастье кажутся нам незначительными лишь благодаря уверенности в их достижении, тем не менее они изменчивы, и от них можно ждать огорчений. И огорчения будут тем болезненнее, чем более полно будет осуществлено наше желание; их будет тем труднее вытерпеть, чем счастье окажется, вопреки закону природы, продолжительнее, привычнее. С другой стороны, в обоих этих устремлениях, в особенности – в том, повинуясь которому я хотел, чтобы мое письмо было отправлено, когда же я считал, что оно отправлено, то жалел об этом, – есть своя логика. Что касается первого из них, то нетрудно понять, что мы бежим вслед за своим счастьем – или несчастьем – и что в то же время нам хочется между собой и этим новым действием, последствия которого вот-вот скажутся, поставить преграду – ожидание, не позволяющее нам впасть в полное отчаяние; словом, мы пытаемся придать нашему устремлению другую форму, которая, по нашему мнению, должна ослабить мучительную боль. Однако другое устремление не менее важно: порожденное уверенностью в успехе нашего предприятия, оно являет собою преждевременное начало разочарования, которое мы испытали бы при удовлетворении желания, начало сожаления о том, что для нас, в ущерб другим, отвергнутым формам, утвердилась именно эта форма счастья.
Я отдал письмо Франсуазе и велел поскорей отнести его на почту. Как только письмо от меня ушло, возвращение Альбертины вновь начало казаться мне неминуемым. Оно не давало проникнуть в мое сознание прелестным картинкам, которые, излучая радость, до некоторой степени уменьшали боязнь опасностей, сопряженных в моем представлении с возвращением Альбертины. Давно утраченная радость видеть Альбертину рядом с собой опьяняла меня.
Проходит время, и мало-помалу все, что было сказано лживого, становится правдой – я так часто убеждался в этом, экспериментируя на отношениях с Жильбертой! Равнодушие, которое я на себя напускал в то самое время, когда рыдал беспрестанно, в конце концов обернулось для меня реальностью; постепенно жизнь, о которой я давал Жильберте ложное представление, стала именно такой, какой я рисовал ее, – жизнь развела нас. Вспоминая об этом, я себе говорил: «Если Альбертина упустит несколько месяцев, моя ложь обернется правдой. А теперь, когда самое тяжелое позади, может быть, мне надо желать, чтобы эти месяцы как можно скорей пролетели? Если Альбертина вернется, я буду вынужден отказаться от жизни, основанной на правде, от жизни, которую я еще не в состоянии по достоинству оценить, но которая может постепенно очаровать меня, тогда как мысль об Альбертине начнет угасать»[15]15
Я ведь не утверждаю, что забвение уже не начало своей работы. Но одним из следствий забвения явилось то, что многое неприятное для гения в Альбертине, – скучные часы, какие я провел в ее обществе, – не всплывало более в моей памяти, перестало быть причиной моего желания, чтобы ее больше не было рядом со мной, чего мне хотелось, когда она еще была здесь, а также то, что у меня теперь появилось о ней представление общее, прикрашенное всеми ощущениями, какие вызывали во мне другие женщины. Такая любовь, как будто бы делавшая все возможное, чтобы приучить мое сердце к разлуке, но рисовавшая Альбертину нежнее, привлекательнее, чем на самом деле, заставляла меня еще более страстно желать ее возвращения.
[Закрыть].
После отъезда Альбертины, когда я не боялся, что кто-нибудь за мной подсматривает, я часто плакал, потом вызывал Франсуазу и говорил: «Надо проверить, не забыла ли чего-нибудь мадемуазель Альбертина. И уберите ее комнату – когда она вернется, там должен быть полный порядок». Или: «Я точно помню, что третьего дня, – да, да, накануне отъезда, – мадемуазель Альбертина говорила…» Мне хотелось отравить Франсуазе бесившее меня удовольствие, которое доставлял ей отъезд Альбертины, – отравить внушением, что Альбертина уехала ненадолго; я хотел дать почувствовать Франсуазе, что мне не тяжело говорить об отъезде Альбертины, я хотел, чтобы у Франсуазы создалось впечатление, – так некоторые полководцы изображают вынужденное отступление как заранее предусмотренный стратегический маневр, – что отъезд Альбертины – в моих интересах, что это всего лишь эпизод, цель которого я временно скрываю, а вовсе не разрыв с ней. Без конца называя ее по имени, я хотел впустить хоть немного воздуху, нечто только ей принадлежащее в ее комнату, где после ее отъезда образовалась пустота и где мне теперь нечем было дышать. А кроме того, человеку свойственно облегчать свое страдание, упоминая о нем между прочим, вставляя его в разговор о заказе нового костюма и в распоряжения насчет ужина.









































