Текст книги "Содом и Гоморра"
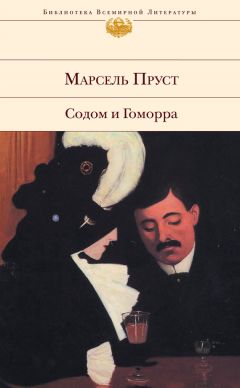
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Какое-то время я больше не встречался с Альбертиной, но герцогиня Германтская уже не волновала моего воображения, так что я встречался с другими феями и посещал их жилища, столь же неотделимые от них, как перламутровая или эмалевая створка неотделима от моллюска, который ее изготовил и в ней прячется, а зубчатая трохида-башенка – от собственной ракушки[111]111
Трохиды (устар. башенки, лат. Trochidae) – семейство брюхоногих морских улиток из отряда Trochida подкласса Vetigastropoda.
[Закрыть]. Я бы не сумел вынести суждение об этих дамах: подобную задачу, при всей ее незначительности, было трудно не только разрешить, но даже сформулировать. Начинать надо было не с самой дамы, а с феерического особняка. Причем одна из этих дам принимала в летние месяцы, всегда днем, после обеда; когда я к ней собирался, солнце всегда так припекало, что перед выездом приходилось поднимать верх фиакра, и воспоминание о солнце незаметно для меня отражалось на общем впечатлении. Я думал, что просто проеду по аллее Королевы[112]112
Аллея Королевы в Париже, проложенная по приказу королевы Марии Медичи и названная в ее честь, тянется вдоль Сены между площадью Согласия и Гран-Пале (Большим дворцом).
[Закрыть]; на самом же деле, до того как попасть в это собрание, над которым, наверно, человек практичный посмеялся бы, я, как во время путешествия по Италии, утопал в блаженстве и предавался восторгам, навсегда связавшимся в моей памяти с этим особняком. К тому же по причине летней дневной жары дама наглухо закрывала ставни в просторных прямоугольных гостиных первого этажа. где принимала гостей. Поначалу я с трудом узнавал хозяйку дома и ее гостей, даже герцогиню Германтскую, которая хриплым своим голосом звала меня сесть рядом с ней в кресло Бовэ с изображением похищения Европы[113]113
Бовэ – старинный город в деп. Уазы, с XV в. знаменитый производством шпалер и декоративных тканей. «Похищение Европы» – картина Буше (1747); в Лувре хранятся ее оригинал и копия, служившая картоном для обивочной ткани.
[Закрыть]. Потом различал на стенах огромные шпалеры XVIII века с изображением кораблей с мачтами, украшенными штокрозами, – под этими шпалерами я чувствовал себя не во дворце над Сеной, а во дворце Нептуна на берегу реки Океан, а герцогиня Германтская превращалась чуть ли не в морское божество. Если я примусь перечислять все другие салоны, непохожие на этот, я никогда не кончу. И так уже понятно, что на мои суждения о светском обществе влияли поэтические впечатления, которых я никогда не принимал во внимание, выводя итог, а потому, когда я прикидывал достоинства какого-нибудь салона, мои подсчеты никогда не были точными.
Разумеется, этот повод для ошибок был далеко не единственным, но теперь, перед отъездом в Бальбек (куда я поеду во второй, и, увы, в последний, раз), мне уже некогда приниматься за светские зарисовки, которые займут свое место гораздо позже. Скажем только, что к этой первой мнимой причине (моему относительно легкомысленному образу жизни, предполагавшему любовь к свету), по которой я написал письмо Жильберте и, казалось бы, возобновил дружбу со Сванном, Одетта могла бы добавить вторую причину, и тоже безосновательно. До сих пор, воображая себе, насколько по-разному выглядит свет в глазах одного и того же человека, я лишь предполагал, что свет не меняется: если некая дама, не имеющая знакомых, ездит ко всем, а другую, раньше занимавшую господствующее положение, все покинули, мы склонны объяснять это исключительно частными случаями взлетов и падений, которые в одном и том же обществе время от времени вследствие биржевых спекуляций приводят к сенсационному разорению или неожиданному обогащению. Но это не всегда так. В известной мере светские события – куда менее существенные, чем художественные течения, политические кризисы, переменчивый вкус публики, которую тянет то к идейному театру, то к живописи импрессионистов, потом к сложной немецкой музыке, потом к простой русской музыке, потом к общественным идеям, к справедливости, к религиозной реакции, к всплеску патриотизма, – оказываются лишь отдаленным, искаженным, неверным, смутным, переменчивым отблеском этих более важных явлений. Так что даже салоны и те невозможно запечатлеть в статичной неподвижности, как полагалось до сих пор при изучении нравов: ведь нравы тоже придется исследовать чуть не в их историческом развитии. Страсть к новизне влечет светских людей, более или менее искренне жаждущих быть в курсе интеллектуальной эволюции, к посещению тех кругов, где можно к ней приобщиться, а потому они сплошь и рядом предпочитают какую-нибудь неизвестную доныне хозяйку дома, внушающую им надежду на новейшие умственные достижения, поскольку надежда на тех дам, что до сих пор долгое время господствовали в свете, потускнела и поблекла, да и вообще, их сильные и слабые стороны всем известны, так что эти дамы уже не производят прежнего впечатления. И каждая эпоха воплощается в новых женщинах, в новом кругу женщин, которые тесно связаны с тем, что в этот момент привлекает самоновейших любопытствующих, и, кажется, появляются, нарядные, только в этот самый момент как незнакомый род или вид, порожденный последним потопом, – неотразимые красавицы каждого нового Консулата, каждой новой Директории[114]114
…каждого нового Консулата, каждой новой Директории. – Консулат (1799–1804) – период, когда Наполеон был консулом; закончился государственным переворотом, в результате которого Наполеон был провозглашен императором. Директория (1795–1799) – предшествующий период, когда страной управляла Исполнительная директория из пяти избранных директоров.
[Закрыть]. Но сплошь и рядом новые хозяйки салонов уподобляются некоторым государственным деятелям, которые впервые добились министерского поста, а до того сорок лет безуспешно стучались во все двери; эти женщины были неизвестны в свете, но все-таки уже очень давно принимали у себя, за неимением лучшего, «немногих верных друзей». Конечно, бывает по-разному; когда, явив нам одного за другим Бакста, Нижинского, Бенуа, гениального Стравинского[115]115
…Бакста, Нижинского, Бенуа, гениального Стравинского… – «Русские балеты», вернее, «Русские сезоны» в Париже, организованные импресарио Сергеем Дягилевым (1872–1929), проходили с огромным успехом с 1909 по 1929 г. Пруст впервые побывал на спектакле «Русских балетов» в 1910 г., а в дальнейшем видел многие из них и даже был лично знаком с русским художником Л. Бакстом (1866–1924), автором эскизов костюмов и декораций ко многим из этих спектаклей. Жан Кокто вспоминает, как они с Прустом после спектакля обедали в ресторане Ларю с труппой «Русских балетов». Танцовщика Вацлава Нижинского (1890–1950) Пруст открыл для себя в 1910 г. благодаря «Русским балетам» и интересовался как его творчеством, так и личностью. Художник и историк искусства Александр Бенуа (1870–1960) создавал декорации к «Русским балетам» начиная с 1909 г. Композитор Игорь Стравинский (1882–1971) приехал в Париж вместе с антрепризой Дягилева, для которой создал три балета.
[Закрыть], в момент чудодейственного расцвета «Русских балетов» нам предстала юная крестная всех этих новых великих людей, княгиня Юрбелетьева[116]116
…княгиня Юрбелетьева… – У княгини Юрбелетьевой есть реальный прототип, это приятельница Пруста Мися Серт, французская пианистка польского происхождения, хозяйка салона, меценатка, дружившая с Сергеем Дягилевым, который говорил, что без Миси в Париже не было бы русского балета. Ее знаменитая эгретка увековечена на рисунке Кокто. Заметим, что отчасти Мися Серт послужила моделью и для г-жи Вердюрен.
[Закрыть], чью голову венчала огромная колышущаяся эгретка, еще неведомая парижанкам (которые тут же стали пытаться ее скопировать), легко было предположить, что это волшебное создание в качестве главной драгоценности привезли в своем необъятном багаже русские танцовщики; но когда рядом с ней, в ее литерной ложе, мы станем видеть на всех представлениях «русских» восседающую подобно настоящей фее г-жу Вердюрен, которую аристократия до сих пор знать не знала, мы сможем ответить светским завсегдатаям, легко поверившим, будто г-жа Вердюрен нагрянула к нам с труппой Дягилева, что эта дама жила здесь во все времена, претерпела разные метаморфозы, и нынешняя отличается от предыдущих только тем, что лишь после этого, последнего, преображения Хозяйка впервые вступила на верный путь к успеху, которого так долго ждала понапрасну, и все быстрее и быстрее движется по этому пути вперед. Что до г-жи Сванн, она, конечно, тоже представляла собой новость, правда, не имевшую столь массового резонанса. Ее салон кристаллизовался вокруг одного-единственного человека, да и то умирающего, который внезапно, когда его талант уже клонился к закату, вышел из неизвестности и достиг истинной славы. Книгами Берготта увлекались очень многие. Целыми днями он сидел, выставленный напоказ, у г-жи Сванн, нашептывавшей влиятельному человеку: «Я с ним поговорю, он напишет для вас статью». И он был вполне на это способен, мог даже написать одноактную пьеску для г-жи Сванн. Теперь, когда смерть приближалась, он чувствовал себя чуть лучше, чем в те времена, когда приезжал справляться о здоровье бабушки. Сильные боли принудили его к соблюдению диеты. Болезнь – самый авторитетный врач: доброте и знаниям мы только обещаем, а повинуемся мы страданию.
Конечно, тесная компания Вердюренов вызывала теперь куда более острый интерес, чем салон г-жи Сванн, слегка националистический, но скорее литературный, а в основном берготтский. А тесная компания оказалась деятельным средоточием долгого политического кризиса, достигшего теперь наибольшего размаха, а именно дела Дрейфуса. Но светские люди были в большинстве своем настолько ярыми противниками пересмотра, что салон сторонников Дрейфуса казался таким же немыслимым, как в другую эпоху салон коммунаров. Принцесса Капрарола познакомилась с г-жой де Вердюрен по поводу большой выставки, которую та организовала, и нанесла ей продолжительный визит в надежде переманить у нее кое-каких интересных приверженцев и завлечь их в свой собственный салон; во время этого визита принцесса, разыгрывая из себя герцогиню Германтскую в миниатюре, спорила с общепринятыми мнениями, называла людей своего круга дураками, и г-жа Вердюрен сочла ее весьма отважной. Но позже эта отвага не зашла настолько далеко, чтобы позволить принцессе под обстрелом взглядов дам-националисток здороваться с г-жой Вердюрен на прогулках в Бальбеке. А г-же Сванн противники Дрейфуса были, наоборот, благодарны за «благонамеренность», причем как жена еврея она вдвойне заслуживала благодарности. Однако те, кто никогда у нее не бывал, воображали, что она принимает только никому не ведомых израэлитов да последователей Берготта. Вот так женщинам, куда более почтенным, чем г-жа Сванн, отводят место на низшей ступени общественной иерархии то из-за их происхождения, то из-за их нелюбви к званым обедам и вечерним приемам, где они никогда не появляются, а окружающие ошибочно полагают, что их и не приглашают, потому что эти дамы никогда не рассказывают о своих светских связях, а только рассуждают о литературе и искусстве, а может быть, потому что люди ездят к ним по секрету от окружающих или сами эти дамы, чтобы не проявить невежливости, принимают их, никому об этом не говоря; словом, по множеству причин, так что в конце концов все почему-то проникаются убеждением, будто эту даму никто не принимает. Так вышло и с Одеттой. Г-жа д’Эпинуа[117]117
Принцесса д'Эпинуа много раз упомянута у Сен-Симона.
[Закрыть], желая получить пожертвование на «Французское отечество»[118]118
Лига «Французское отечество», основанная в 1898 г., объединяла интеллектуалов-антидрейфусаров; среди ее членов были Франсуа Коппе, Жюль Леметр, Фердинан Брюнетьер, Морис Баррес, Жюль Верн, Огюст Ренуар, Эдгар Дега и многие другие.
[Закрыть], отправилась к ней с визитом, как если бы пошла к своей галантерейщице, уверенная, впрочем, что увидит там людей не столько презренных, сколько попросту незнакомых, но когда дверь распахнулась, она остолбенела: перед ней был не салон, который она ожидала увидеть, а волшебный зал, где, словно в феерии, у вас на глазах мгновенно происходит смена декораций, а в ослепительных статистках, полулежащих на диванах, сидящих в креслах и называющих хозяйку дома по имени, она узнала высочеств и светлостей, которых ей, принцессе д’Эпинуа, бывало весьма трудно к себе зазвать, а хлебодарами и виночерпиями, разнося оранжад и пирожные, служили им под благосклонным взором Одетты маркиз де Ло, граф Луи де Тюренн, князь Боргезе, герцог д’Эстре[119]119
…маркиз де Ло, граф Луи де Тюренн, князь Боргезе, герцог д’Эстре… – Этих людей Пруст мог видеть у принцессы Матильды и в других знаменитых салонах. Маркиз де Ло был членом Жокей-клуба, приятелем Шарля Хааса, Луи де Тюренна и принца Уэльского. Граф Луи де Тюренн, а также маркиз де Ло входили в ближний круг графини Мелани де Пурталес. Князь Джованни Боргезе (1855–1918) женился в 1902 г. на графине де Караман-Шиме. Шарль, виконт де Ларошфуко, герцог д’Эстре (1863–1907) был старшим сыном герцога Состена де Ларошфуко-Шиме.
[Закрыть]. Принцесса д’Эпинуа бессознательно считала светскость не внешним, а внутренним качеством каждого человека; поэтому ей пришлось развоплотить для себя г-жу Сванн и воплотить ее в облике изысканной дамы. О реальной жизни, какую ведут женщины, о которых не пишут в газетах, ничего не известно, и это словно набрасывает покров таинственности на некоторые эпизоды (и способствует разнообразию салонов). У Одетты поначалу появилось несколько людей самого высшего общества, которым любопытно было познакомиться с Берготтом и пообедать с ним в тесном кругу. Ей достало такта не выставлять их напоказ – искусство, которым она овладела недавно; сохранив, вероятно, со времен раскола воспоминания о «дружной когорте», она предлагала им традиции, накрытый стол и тому подобное. Одетта возила их вместе с Берготтом (которого это окончательно толкало к могиле) на «интересные» премьеры. Они рассказали о ней нескольким дамам своего круга, способным заинтересоваться всей этой новизной. Дамы были убеждены, что Одетта, близкая подруга Берготта, в какой-то мере участвовала в его творчестве, и считали ее в тысячу раз умнее самых выдающихся женщин Сен-Жерменского предместья; по той же причине они в политике уповали только на нескольких истинных республиканцев, таких как г-н Думе и г-н Дешанель[120]120
Поль Думе (1857–1932) – политический деятель, в 1931 г. был президентом Республики. Поль Дешанель (1855–1922), политический деятель, в 1920 г. – президент Республики.
[Закрыть], полагая, что Франция скатится в пропасть, если управление ею попадет в руки монархистов, которых они приглашали обедать, таких как Шаретт, Дудовиль[121]121
Атаназ де Шаретт, барон де Контри (1832–1911) – генерал, известный легитимист, т. е. сторонник старшей линии династии Бурбонов во Франции. Состен де Дудовиль (1825–1908) – политик, представитель крайне правого крыла.
[Закрыть] и прочие. Эти перемены в свое положение Одетта вносила крайне сдержанно, благодаря чему дело шло быстрее и надежнее, и старалась, чтобы публика, склонная судить об успехе и закате салонов по хронике в «Голуа», ни о чем не догадалась, так что в один прекрасный день на генеральной репетиции очередной пьесы Берготта, игравшейся в одном из самых изысканных залов в пользу какой-то благотворительности, зрители испытали истинное потрясение, увидав, как в центральной ложе, предназначенной для автора, рядом с г-жой Сванн усаживаются г-жа де Марсант и графиня Моле, которая тем временем, по мере того, как постепенно удалялась в тень герцогиня Германтская, пресыщенная почестями и избегавшая малейших усилий, превращалась в светскую львицу и законодательницу. «Мы даже не догадывались, что она начинает расправлять крылья, – говорили об Одетте те, кто видел, как в ложу входит графиня Моле, – а она уже, оказывается, парит в поднебесье». Так что г-же Сванн могло прийти в голову, что я возобновляю отношения с ее дочерью из снобизма. Между тем Одетта, невзирая на блистательных подруг, смотрела пьесу крайне внимательно, словно только для этого и пришла; так когда-то она ходила по Булонскому лесу ради здоровья и для упражнения. Мужчины, которые когда-то не слишком добивались ее внимания, устремились на балкон, толкая тех, кто там сидел, и цеплялись за ее руку, стараясь оказаться поближе к ее великолепному окружению. Она же с улыбкой, скорее приветливой, чем иронической, терпеливо отвечала на их вопросы, храня спокойствие, неожиданное для наблюдателей и, скорее всего, вполне искреннее: ведь вся эта демонстрация лишь проливала свет на дружеские связи, давно ей привычные, которых она не выставляла напоказ из простой скромности. Позади этих дам сидел Берготт, а по бокам от него принц Агригентский, граф Луи де Тюренн и маркиз де Бреоте. И легко понять, что эти люди, принятые повсюду, которым только что-нибудь особенно оригинальное могло помочь еще выше подняться во всеобщем мнении, чувствовали, что им придает некую новую значительность общество признанной интеллектуалки, хозяйки салона, через которую они рассчитывали познакомиться со всеми модными драматургами и романистами, и это чувство было куда упоительней и острее, чем вечера у принцессы Германтской, не сулившие никакой программы, никаких новых приманок и проходившие много лет подряд примерно так, как тот, что мы столь подробно описали. В большом свете, в кругу Германтов, от которого несколько отхлынуло всеобщее любопытство, новые интеллектуальные моды уже не воплощались во что-нибудь занятное, что можно было бы у них позаимствовать, что-нибудь сравнимое с безделками, которые писал Берготт для г-жи Сванн, или с радениями во имя общественного блага (если общество в состоянии было заинтересоваться делом Дрейфуса), на которые у г-жи Вердюрен собирались Пикар, Клемансо, Золя, Ренак и Лабори[122]122
…Пикар, Клемансо, Золя, Ренак и Лабори… – Полковник Мари-Жорж Пикар (1854–1914), глава разведки, заподозрил, что сведения Германии поставлял майор Эстергази. Он уличил полковника Анри в подделке улик против Дрейфуса и настаивал на невиновности последнего, за что был обвинен в измене, разжалован и арестован. Когда установили невиновность Дрейфуса, он был оправдан. Жорж Клемансо (1841–1929) – политик, государственный деятель, дважды занимавший пост премьер-министра. Жозеф Ренак (1856–1921) был депутатом и страстно выступал за пересмотр дела Дрейфуса. Пруст был с ним знаком и состоял в переписке. Фернан Лабори (1860–1917), один из самых блистательных адвокатов своего времени, защищал Золя, Дрейфуса, Пикара и многих других. На одном из заседаний суда над Дрейфусом, в 1899 г., в Лабори стреляли, но пуля только слегка его задела, и Пруст послал ему телеграмму с выражением сочувствия и поддержки.
[Закрыть].
Жильберта тоже укрепляла положение матери, потому что один из дядей Сванна недавно оставил девушке в наследство около восьмидесяти миллионов, так что Сен-Жерменское предместье начало о ней задумываться. Оборотной стороной медали было то, что Сванн был дрейфусаром, впрочем, он умирал, да и его убеждения не вредили жене или даже приносили пользу. Не вредили потому, что люди говорили: «Он слабоумный, впал в детство, его никто не принимает всерьез, главная у них жена, а она-то прелесть». И даже дрейфусарство Сванна было Одетте на руку. Предоставленная сама себе, она бы, возможно, принялась заискивать перед блестящими дамами, и это бы ее погубило. Но в те вечера, когда она тащила мужа на обед в Сен-Жерменское предместье, Сванн угрюмо отсиживался в углу, а когда Одетту представляли какой-нибудь даме-националистке, не стеснялся вслух увещевать ее: «Одетта, помилуйте, вы с ума сошли. Прошу вас, сидите спокойно. Как безвкусно с вашей стороны представляться антисемитам. Я вам это запрещаю». Светским людям все угождают, они не привыкли ни к такой гордыне, ни к такой невоспитанности. Они впервые видели, чтобы кто-то ставил себя выше их. Брюзжание Сванна передавалось из уст в уста, и визитные карты с загнутым уголком рекой стекались в дом к Одетте. Когда она приехала с визитом к г-же д’Арпажон, на нее устремилось всеобщее сочувственное любопытство. «Вам не было неприятно, что я ее вам представила? – говорила г-жа д’Арпажон. – Она очень мила. Меня познакомила с ней Мари де Марсант». – «Нет же, напротив, кажется, она необыкновенная умница, сплошное очарование. Мне и самой хотелось с ней познакомиться, скажите же мне, где она живет». Г-жа д’Арпажон говорила г-же Сванн, что позавчера получила у нее в гостях большое удовольствие и рада, что пожертвовала ради этого г-жой де Сент-Эверт. И это была чистая правда, потому что предпочесть г-жу Сванн означало доказать свой интеллект, все равно что поехать в концерт, а не в гости чай пить. Но г-жа де Сент-Эверт была ужасной снобкой, а г-жа д’Арпажон, хоть и смотрела на нее весьма свысока, но дорожила ее приемами, поэтому, когда г-жа де Сент-Эверт приезжала к г-же д’Арпажон одновременно с Одеттой, г-жа д’Арпажон не представляла ей Одетту, не желая, чтобы та знала, кто она такая. И маркиза, воображая, будто это какая-нибудь принцесса, которую она никогда раньше не видела, потому что та редко выезжает, старалась задержаться подольше, косвенным образом откликалась на то, что говорила Одетта, но г-жа д’Арпажон стояла насмерть. А когда госпожа де Сент-Эверт сдавалась и уезжала, хозяйка дома говорила Одетте: «Я вас не представила, потому что к ней все не очень-то рады ездить, а она приглашает ужасно навязчиво, вы бы не отвертелись». – «Ничего страшного», – с сожалением отвечала Одетта. Но в память ей запало, что люди не очень-то рады ездить к г-же де Сент-Эверт, что до известной степени было верно, и она вообразила, что ее положение в свете намного выше, чем у г-жи де Сент-Эверт, хотя та принадлежала к самым сливкам общества, а у Одетты никакого положения вообще еще не было.
Сама она этого не сознавала, и, хотя все подруги герцогини Германтской были добрыми знакомыми г-жи д’Арпажон, когда эта последняя приглашала г-жу Сванн, Одетта озабоченно говорила: «Я еду к г-же д’Арпажон, и вы меня сочтете чересчур старомодной, но я себя как-то неловко чувствую из-за герцогини Германтской» (с которой она, впрочем, была незнакома). Мужчины, принадлежавшие к избранному обществу, полагали, что г-жа Сванн имеет в высшем свете так мало знакомств потому, что она, вероятно, женщина выдающаяся, например, великая музыкантша, и наносить ей визит для светского человека невместно, все равно что герцогу быть доктором наук. Женщин, ничего собой не представлявших, влекло к Одетте по противоположной причине; узнавая, что она ходит на концерты Колонна[123]123
Эдуар Колонн (1838–1910) – французский дирижер и скрипач, пропагандист новейшей французской музыки – Массне, Лало, Бизе, Берлиоза, Равеля, – а в дальнейшем и русских композиторов. С марта 1873 г. в парижском театре «Одеон» Колонн дирижировал воскресными концертами.
[Закрыть] и объявляет себя вагнерианкой, они заключали из этого, что она, наверно, большая озорница, и мысль о знакомстве с ней их возбуждала. Но не слишком уверенно чувствуя себя в свете, они опасались, как бы им не скомпрометировать себя этим знакомством, и отворачивались, завидев г-жу Сванн на каком-нибудь благотворительном концерте, полагая, что нельзя же под взглядом г-жи де Рошешуар раскланиваться с женщиной, с которой станется поехать в Байрёйт[124]124
…поехать в Байрёйт… – Ездить в немецкий город Байрёйт значило, да и сейчас значит восхищаться музыкой Вагнера, которая еще и во времена Пруста воспринималась как вызывающе современная. На вагнеровских фестивалях в Байрёйте исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера; на них съезжаются меломаны из разных стран, объединенные культом композитора. Первый фестиваль состоялся в 1876 г., а второй в 1882-м, после чего эти фестивали стали ежегодными и обрели всемирную известность.
[Закрыть], то есть явно склонной к разгулу.
В гостях у разных людей каждый человек оказывался другим. Что уж говорить о волшебных превращениях, происходивших в обиталищах фей: в салоне г-жи Сванн даже сам г-н де Бреоте казался себе другим человеком: в отсутствие людей, обычно его окружавших, в нем появлялась какая-то внушительность, и, явно довольный тем, что ему здесь так же уютно, как будто вместо того чтобы ехать на праздник, он водрузил на нос очки и уселся в одиночестве читать «Ревю де Дё Монд», он словно исполнял в гостях у Одетты какой-то таинственный ритуал. Я бы дорого дал за то, чтобы посмотреть, какие превращения претерпела бы в этом новом окружении герцогиня де Монморанси-Люксембург. Но она была одной из тех особ, с которыми Одетту никак невозможно было познакомить. Г-жа де Монморанси-Люксембург, куда доброжелательнее относившаяся к Ориане, чем та к ней, очень меня удивляла, говоря о герцогине Германтской: «Она знакома с многими умными и остроумными людьми, все ее любят; полагаю, если бы она так не разбрасывалась, она бы сумела создать у себя салон. Но дело в том, что она к этому никогда не стремилась, и она права, ей и так хорошо, ведь она и без того всюду нарасхват». Если уж у герцогини Германтской не «салон», тогда что же такое «салон»? Эти слова повергли меня в изумление, но не меньше удивил герцогиню я сам, когда сказал ей, что хотел бы побывать у г-жи де Монморанси. Ориана считала ее старой дурой. «Ну, мне-то приходится, она моя тетка, но вам-то зачем? Она даже не умеет зазвать к себе приятных людей». Герцогиня Германтская не понимала, что к приятным людям я равнодушен, зато когда она мне говорит: «салон д’Арпажон», мне представляется желтая бабочка, а когда говорит «салон Сванн» – черная бабочка с белоснежной опушкой крылышек (г-жа Сванн принимала зимой с шести до семи). Салон Одетты, который, собственно, и салоном-то не был, она считала для меня простительным (даром что для нее самой он был недостижим), потому что там собирались «умные люди». Но ехать к герцогине Люксембургской? Если бы я уже «создал» нечто такое, что произвело бы на нее впечатление, она бы решила, что талант может уживаться с некоторым снобизмом. Но довершил я ее разочарование, когда признался, что поеду к г-же де Монморанси не для того, чтобы «изучать» и «делать заметки» (как она воображала). Впрочем, герцогиня Германтская ошибалась не больше, чем светские романисты, которые безжалостно анализируют поведение сноба или того, кто слывет снобом, снаружи, но никогда не заглядывают в его нутро в то самое время, когда в его воображении бушует весна светской жизни. Я и сам испытал легкую досаду, когда попытался разобраться, почему так страстно мечтал попасть в гости к г-же де Монморанси. Она жила в Сен-Жерменском предместье, в старом господском доме с множеством флигелей, деливших усадьбу на маленькие садики. При входе красовалась маленькая статуя якобы Фальконе[125]125
…маленькая статуя якобы Фальконе… – Французский скульптор Этьен Морис Фальконе (1716–1791) был не только автором изящных статуй, одну из которых («Амур») мы можем видеть в Эрмитаже, но и памятника Петру Первому в Санкт-Петербурге. Между прочим, в мемуарах приятеля Пруста Жоржа де Лориса упоминается статуэтка Фальконе, украшавшая салон г-жи Стросс, где часто бывал писатель.
[Закрыть], изображавшая источник, из нее и впрямь сочилась вода. Чуть дальше привратница с глазами, вечно красными то ли от горя, то ли от неврастении, то ли от мигрени, то ли от насморка, никогда не удостаивала вас ответом, а просто махала рукой, давая понять, что герцогиня дома, и несколько капель срывалось с ее век в чашу, полную незабудок. Но удовольствие, нахлынувшее на меня при виде статуи, напоминавшей маленького гипсового садовника в саду у нас в Комбре, было пустяком по сравнению с той радостью, которую подарила мне огромная лестница, сырая и гулкая, по которой гуляло эхо, как в некоторых старинных банях, и вазы, полные цинерарий (синее на синем фоне) в передней, а главное, звяканье сонетки, точь в точь такой, как в комнате Элали. От этого звяканья я приходил в еще больший восторг, но мне казалось неловко объяснять г-же де Монморанси, что я восхищаюсь такой мелочью, так что эта дама всегда видела меня восхищенным и никогда не догадывалась почему.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































