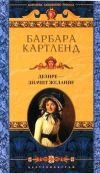Текст книги "Апрельская ведьма"

Автор книги: Майгулль Аксельссон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Спокуха, надо взять себя в руки, хватит воображать себя в собственной квартире, а то вообще туда не попадешь. Если подумаешь о сне, то и спать-то будет негде. «Думай только о том, что делаешь», – вечно поучала Старуха Эллен. Что в общем-то разумно. Единственная разумная вещь, какую эта гадина выдавила из себя за столько лет…
Вот уже и улица. У Биргитты щемит в животе, улица тоже незнакомая. Широкая, гораздо шире, чем любая из улиц Муталы, с двухполосным движением и островком безопасности посредине. На той стороне начинается новый жилой массив – высокие серые дома с черными окнами. Она никогда их раньше не видела.
Что за хрень? Да где это она?
Биргитта зажмуривается и глубоко вздыхает. Потом открывает глаза и старается думать только о том, что делает. Что она, Биргитта Фредрикссон, стоит на каком-то газоне, в чьих-то промокших туфлях и в собственной куртке. Она не знает, где она и как сюда попала, но знает, что если застегнуть куртку на «молнию», будет не так холодно. Да только это правильное решение неосуществимо – пальцы так онемели от холода, что вряд ли что-то получится.
Впереди – тротуар с пятнами слежавшегося снега на черном асфальте. Чтобы туда попасть, придется лезть через сугроб. Заледеневший снег хрустит и ломается, несколько льдинок закатываются в черные лодочки. Зато дело сделано – вот она уже и на тротуаре. А в нескольких метрах стоит какая-то женщина и смотрит на нее. Биргитта приглаживает волосы, пытаясь выглядеть как самая что ни на есть обычная фру Свенссон, возвращающаяся с какого-нибудь ночного дежурства. Сунув руки в карманы куртки, чтобы не размахивать ими, как бухарики, Биргитта короткими, полными достоинства шагами приближается к женщине. Ясненько теперь. Тут автобусная остановка.
– Простите, – говорит она и слышит собственный сиплый голос. И, прокашливаясь, поспешно уговаривает себя, что и обычная фру Свенссон поутру может малость охрипнуть. Но на всякий случай она старается все-таки прочистить горло.
– Простите, я немного заблудилась… Вы не скажете, где это я?
Женщина – иностранка, у нее темные стриженые волосы и тонкое пальто, обтягивающее зад. Она уставилась на Биргитту своими черными, широко раскрытыми глазами и делает некий жест, который можно понимать по-всякому: «Не бей меня, жирная бабка!» или «Я не говорю по-шведски, оставьте меня в покое.» Или: «Я тебя не вижу, и ты меня тоже».
– Послушай, – говорит Биргитта, пытаясь изобразить улыбку, но тут же соображает, что рот ее – своего рода опознавательный знак. Никакая фру Свенссон не станет разгуливать с черной дырой на месте выбитых зубов. Улыбка выдаст ее с головой, покажет, кто она на самом деле: наркоманка, переквалифицировавшаяся с годами в старую пьянь… Она захлопывает рот, притушив улыбку.
В этот момент подъезжает автобус. С ним что-то не так, и проходит несколько секунд, прежде чем Биргитта соображает, в чем дело. А дело в надписи над кабиной, уведомляющей о конечном пункте маршрута.
Вринневи? Да это же в Норчёпинге…
Наконец до Биргитты доходит, где она.
Водитель неумолим, он заставляет включенный мотор нестерпимо рычать на холостом ходу, покуда сам упрямо повторяет одно и то же. Кто не может купить билет, тому и ездить нечего. И никаких исключений!
Биргитта накрепко вцепилась в поручень в дверях и канючит:
– Ну пожалуйста, ну будьте любезны, черт возьми! Ведь холодно… А деньги я потом пришлю, клянусь! Дайте мне только адрес, и я прямо сразу как домой приеду, так и вышлю деньги в вашу вшивую автобусную контору… Ну, пожалуйста!
– Сойдите с подножки, – говорит водитель, по-прежнему глядя прямо перед собой. – Автобус отправляется, двери закрываются.
В дверях что-то зашипело, но ничего не произошло. А Биргитта так просто сдаваться не намерена.
– Ну будь человеком, а… Какая-то сука мой кошелек сперла, но дома-то у меня есть деньги, правда, я пришлю, как только домой попаду. Мне сейчас срочно надо в полицию, заявить… Слушай, ну просят ведь!
– Отойдите! Закрываю двери!
Водитель угрожающе сдвигает двери, но не решается захлопнуть их до конца. Биргитта делает шаг на следующую ступеньку.
– Слушай, ты! Я даже садиться не буду, столбом буду стоять в проходе… А деньги пришлю! Ей-богу!
– Сказано – выходи! – говорит водитель. Его губы сжались в ниточку, а спина выпрямилась. Биргитта подымается еще на ступеньку. Вот она уже стоит с ним рядом.
– Послушай. – Она пытается улыбнуться, не открывая рта. – Ну что тебе стоит разок в жизни девушку выручить…
– «Девушку»! – повторили за спиной и фыркнули. Она оборачивается. В глубине салона сидят две девчонки-подростка. Одна засунула шарф себе в рот, чтобы не прыснуть, другая зажала рот ладонями. Обе не смеют поднять глаз. Биргитта, метнув на них угрожающий взгляд, поворачивается к ним спиной. Хихикающие девчонки – прямо нож по сердцу: они больше, чем что-либо, напоминают ей о себе прежней. Когда-то это было ее право – хихикать надо всем на свете. Но теперь терзаться времени нет.
– Выходи, – снова повторяет водитель.
– Да послушай ты, – ноет Биргитта. – У меня в карманах вроде мелочь осталась. Всего он не смог забрать, ворюга… Давай, трогай, увидишь, я наберу мелочью… Ты поезжай, а я пока поищу! Смотри, вот денежка. И вот еще, пятьдесят эре… Тебе-то сколько надо?
Но водитель, наоборот, глушит мотор и встает. Бояться-то нечего – такой же тощий замухрышка, как Роджер. Небитый маменькин сынок – видали, как нос задрал: командует целым автобусом!
– Поедешь другим автобусом, – говорит он. – Выходи!
Биргитта все еще роется в карманах:
– Да поезжай ты, что ли!
– Ты что, плохо слышишь? Выходи, я сказал!
Девчонки за ее спиной снова фыркают. А из-за их спины доносится негромкий, но внятный мужской голос:
– Да вышвырнуть ее, и все. И так опаздываем.
– Во-во, – соглашается другой голос. – Людям на работу пора, не ждать же до скончания веку…
– Заткнитесь, – откликается Биргитта. – Заткнитесь, не ваше собачье дело…
Тут она лезет в задний карман джинсов и ощущает нечто странное. Купюра? Ну да, конечно! Когда она надирается, то последние деньги обычно туда и сует. На мгновение она забывает, что мечтаний надо остерегаться; перед ней стремительно проносятся кадры – кадры ее торжества, как она швыряет свою сотенную этому задаваке-водиле. Замечталась? Получай… Глянув на то, что у нее в руке, Биргитта понимает, какие беды несет даже мгновенная мечта. Это вовсе не сотенная купюра. Это письмо. Странное такое письмецо.
– Гестаповец хренов! – выкрикивает она, вываливаясь на тротуар. Она чуть не теряет равновесие, но, устояв, резко оборачивается, пытаясь снова вскочить в автобус. Однако водитель проворней. Двери захлопываются с презрительным шипением, и ухватиться уже не за что. Автобус трогается, и из-за его светящихся желтым теплом окон пассажиры наблюдают за ее неистовой жестикуляцией.
– Гестаповец хренов! – снова кричит она, пиная автобус в заднее колесо. – Сука гитлеровская! Да я на тебя в суд подам…
Но пока она кричит, автобус успел уже далеко уехать, и только красные огоньки медленно тают в рассветных сумерках.
Уже немало отмахав от остановки, она замечает, что все еще держит странное письмо в руке. Оно царапает щеку, когда Биргитта подымает руку, чтобы утереть нос. Вовсю течет и из носа, и из глаз – не поймешь толком, не то она замерзла, не то правда плачет.
Встав под фонарем, она внимательно разглядывает письмо. Конверт старый, уже однажды использованный. Кто-то зачеркнул старый адрес, а рядом написал новый. Фрёкен Биргитте Фредрикссон. Фрёкен! Это же додуматься надо – фрёкен!
Пальцы до того застыли, что приходится разорвать весь конверт, чтобы вытащить письмо. Безумная надежда разгорается у нее в душе – письмо такое маленькое, такое желтоватенькое! Это – рецепт!!! Кто-то послал ей рецепт: на собрил, наверное, или – о господи, ну конечно же! – на рогипнол. Непослушные руки ходят ходуном, так что приходится помогать себе ртом, чтобы развернуть наконец желтоватый листок.
Это и правда бланк для рецепта. Даже с печатью ее сестрицы: Кристина Вульф, дипломированный врач. Но на листке красной гелевой ручкой крупными корявыми буквами выведены хорошо знакомые строки:
Ах, быть бы мне Биргиттой тоже,
Подлатала б манду кожей,
Объезжала б я дома,
Всем давала б задарма.
А в самом низу – мелкими буковками:
Чем она и занималась!
Всю дорогу!
И тут словно коготь раздирает ее внутренности. Оглушенная болью, она сгибается пополам, обеими руками схватясь за живот.
Потом она уже сама не понимает, куда идет. Помнит только, что брела целую вечность все по той же улице, и вот серые бетонки шестидесятых годов остались позади, теперь по правую руку пошли многоквартирные дома пятидесятых в желтой штукатурке, а по левую – аляповатые виллы. В многоквартирных домах кое-где уже светятся окна, а окна вилл все еще темные.
Биргитта ищет дом Старухи Эллен, она уже не соображает, в каком времени живет, знает только, что скомканное письмо с этим похабным старым стишком засунуто за лифчик, – потому что мятая бумага колет кожу, трет и царапает, распаляя ее гнев.
Сволочи! Эллен и задаваки! Теперь она их убьет по-настоящему, теперь покончено с фантазиями, хватит, нахлебалась! Все ложь и клевета. Все заявления в полицию, все злонамеренные показания. Даже когда она была уже на верном пути, когда она собиралась с силами, чтобы начать новую жизнь, – даже тогда они преследовали ее своими обвинениями и заявлениями. Лишь бы помешать, лишь бы не помочь! И все только оттого, что они ей дико завидуют. Как завидовали в тот день, когда в первый раз ее увидели. Потому что у нее была Гертруд – настоящая мама, которая ее любила. А у Кристины – только полоумная Астрид, – тоже мне мамаша, спалить пыталась собственного ребенка! А у Маргареты и вовсе никакой матери не было. Ее нашли в прачечной. Черт знает что за мамка такая – оставить новорожденного младенца в прачечной? Дерьмо, а не мамаши. А вот у нее – Гертруд! Этого ни задаваки, ни Старуха Эллен стерпеть не могли! Потому что Старуха Эллен желала быть первой, единственной и неповторимой! Лучшей мамочкой в Швеции! Фигли! Можно подумать, мы не знаем, как оно было на самом деле…
Биргитта шмыгает носом и, пошатываясь, сходит с тротуара, там лед и слишком скользко, зато на проезжей части машины проложили в снежной слякоти несколько черных асфальтовых борозд, вполне сухих – настолько, что даже сверкающие лодочки Минни-Маус не разъезжаются. Биргитта поддает ногой глыбу льда, смерзщегося с гравием. Здоровую и тяжелую, пожалуй, потяжелей и побольше кулачищ Дога, а они у него были огромные, ни у кого из мужиков она таких не видела. Да, Дог! Еще один повод для их адской зависти. Никогда не забыть Маргаретину рожу в тот вечер – ее лицо за стеклом машины буквально позеленело от зависти. Дог выбрал ее, Биргитту! Все девчонки из Муталы, – стоящие, конечно, а не мокрицы вроде Кристины, – все были там, и каждая мечтала, чтобы это случилось именно с ней. Но случилось это вовсе не с ними. А с нею – с Биргиттой!
Она останавливается посреди проезжей части: пусть все это случится снова. Вараму, шестидесятые годы, голубые июньские сумерки. Они с Маргаретой, Крошкой Ларсом и Луа сидят в машине и слушают последнюю пластинку Клиффа Ричарда на портативном проигрывателе, и тут – р-раз – на парковочную площадку на всем ходу вылетает «крайслер» Дога – красный, с огромными хвостовыми килями и батареей фар. И вот он целую минуту сидит за рулем, позволяя рассмотреть себя, покуда мотор урчит вхолостую. Он наверняка знает, что неотразим, знает, как сверкают его блестяще-черные волосы, а выглядывающая из-под кожаной куртки нейлоновая рубашка – такая же ослепительно-белая, как его лоб.
Но более, чем красота, к нему влекла опасная слава – угоны автомобилей, пара лет в исправительной школе, потом целое лето разъездов с передвижным парком аттракционов, – дурная слава эта пряным ароматом тут же разлилась по всей парковке, заставляя девчонок опускать глаза и облизывать губы.
– Дог, – говорит Крошка Ларс пронзительным ломающимся голосом и нагибается вперед, чтобы включить зажигание новенькой папашиной «Англии». Крошка Ларс и сам похож на папашину машину. Весь из ломаных острых углов.
– Нет, – говорит Биргитта. – Не включай…
Крошка Ларс привык слушаться. Девятнадцать лет подряд он слушался своего отца, из них восемь – еще и учителя в школе, а последние четыре он к тому же слушается механика в «Люксоре». И тогда он послушался Биргитту – в первый и последний раз.
Дог выскальзывает из своего автомобиля, захлопывает дверцу и оглядывается. На парковке все смолкло, слышен только голос Клиффа Ричарда в сопровождении оркестра. Все взгляды устремлены на Дога, мечты всех девчонок трепещущими мотыльками несутся к нему, а бессилие мальчишек выдает себя упрямым молчанием.
Биргитта знает, что он идет к ней; еще прежде чем он направился к «Англии» Крошки Ларса, она уже знала, что он идет к ней. Крошка Ларс это тоже знает. Бусинки пота выступают у него на лбу, но он не говорит ничего, только нагибается, берет проигрыватель с ее колен и ставит на свои. И тут же Дог распахивает дверцу машины и хватает Биргитту за запястье.
– Теперь ты – моя девчонка, – говорит он. И больше ничего. Только это.
Как в кино, думает она. Совсем как в кино… И словно грянул хор и запели смычки, когда он вытащил ее из машины, – хор и смычки, достигшие ликующего крещендо, когда он, опрокинув ее на капот «Англии», подарил ей первый поцелуй. Краешком глаза она видит внутри салона зажмурившегося Крошку Ларса, а позади него – позеленевшее лицо Маргареты, глаза сузились, зубы оскалены. Она похожа на злобного зверька, думает Биргитта и закрывает глаза. На языке Дога пивная горечь, – тогда она впервые изведала этот запах и вкус. Все прочие поцелуи до сих пор отдавали лишь леденцами и сигаретами «Джон Сильвер».
Он не берет ее за руку, никогда, ни разу не возьмет он ее за руку, вместо этого он хватает ее за запястье, как конвоир, и она добровольно семенит за ним к красному «крайслеру». И не успевает усесться, как он врубает мотор и нажимает на какую-то кнопку. Крыша поднимается и скользит прочь. Это – кабриолет! Ее переполняет торжество. Она сидит в кабриолете с самым крутым парнем Муталы. И все несносные страдания, какие ей пришлось вынести в этом городке, вдруг кажутся вполне терпимыми. Поскольку обретают смысл. Их смысл – в этом вот мгновении…
Ему приходится сделать круг по всей площадке, чтобы развернуться. Для Биргитты это круг почета. Она избрана. В глазах остальных, неизбранных, она отныне – королева Вараму. Но в тот момент, когда автомобиль уже вылетает с парковки, она слышит сзади пронзительный мальчиший крик:
– Ах, быть бы мне Биргиттой тоже…
Этот глумливый хохот она никогда не забудет, хоть никогда не была вполне уверена, что в самом деле его слышала. Но что Дог покосился на нее – в этом она уверена. И в том, что он спросил:
– Что такое?
– А! – ответила она. – Делать им нечего…
А что ей было ответить? Что эта дразнилка преследует ее с тринадцати лет? Что ее малевали краской на стенах туалетов и вырезали в телефонных будках? Что ее выкрикивали на школьном дворе, а теперь, когда она начала работать в «Люксоре», шипят за спиной фабричные сволочи? Этого она, разумеется, не скажет, не то всему конец. Какое-то время он ничего не узнает…
– Клевая тачка, – говорит она вместо этого и гладит рукой сверкающее кресло.
И тут он ей улыбается.
За спиной взвизгивают тормоза, ворчит мотор. Биргитта чуть оборачивается и делает предостерегающий жест: остынь, мол. Но настырный водила снова жмет на газ, взвывает мотор. Хрен тебе. Биргитта поворачивается к нему спиной и вызывающе-неторопливо шествует по асфальтовой полоске, чернеющей посреди проезжей части, идет, поддавая ногой ледяную глыбу. Она ничего не слышит. Пусть жмет на газ сколько угодно, она его все равно в упор не видит.
На другой стороне улицы белеет вилла. Дом Старухи Эллен тоже был белый. Наверное, это он и есть, хоть и не похож. Эллен, видно, его переделала, понасадила новых кустов, а окна пробила другие, чтобы сбить Биргитту с толку. С нее станется. Кто-то зажигает свет на кухне, и видно, как там внутри двигается чья-то тень. Точно, она. Мотается, как обычно, от плиты к столу, и дряблые старушечьи сиськи трясутся как лопарские рукавицы. Вот блин, до чего же отвратная старуха!
Биргитта, вероятно, так и вышагивала бы по проезжей части, туда, к этому белому домику, не нажми водитель за ее спиной на клаксон. Три настойчивых сигнала. Биргитта замирает на месте, оцепенев.
– Заткнись! – выкрикивает она, словно машина – живое существо, способное ее услышать. Но к машине она стоит спиной, и ее крик летит в противоположную сторону. – Заткнись! Пошел на фиг!
Машина за спиной снова принимается гудеть. И тогда Биргитта оборачивается, чуть не упав, но ухитрившись удержать равновесие, и видит, что позади нее выстроилось уже три машины, вылупив на нее белые фары. Причем первая продолжает ехать – катится прямо на нее, угрожающе рыча, а водитель опускает стекло и высовывается в окно.
– Куда тебя несет? – кричит он. – Зайди на тротуар, эй, ты!
Одного взгляда достаточно Биргитте, чтобы понять, что это за тип. Сверкающая машина и гладкая стрижка. Очки, звонкий голос, белая рубашка и галстук. Задавака!
А задавак Биргитта презирает. И потому, не раздумывая, нагибается, хватает ледяную глыбу и, подняв ее над головой, ловко запускает ему в физиономию. Тот, вскрикнув, вырубает мотор; его рука словно примерзает к клаксону.
И вот утренняя тишина раскалывается на множество звуков. Кто-то кричит, гудит клаксон, две другие машины тормозят, распахивая дверцы, из каждой выскакивает по мужику, потом они захлопывают дверцы, лает собака, и секундой позже на крыльцо белого домика выходит, саданув дверью, седой старичок. Он медленно спускается по ступенькам, держась обеими руками за перила, и, кажется, не замечает, что идет босиком. Биргитта застывает, замирает, она стоит не шевелясь посреди улицы и внимательно следит за всем происходящим вокруг. Но когда старик ставит босую ступню на садовую дорожку, Биргитта, очнувшись, начинает пятиться. Потом поворачивается и бросается бежать. Когда он ступает на тротуар, она уже далеко. Но он ее заметил. Он и остальные. Все, кто может видеть, заметили ее.
И скрыться абсолютно некуда. Садики перед виллами слишком маленькие, а голые черные кусты – слишком жидкие. Дворы позади доходных домов на другой стороне – большие и пустые, там нет даже велосипедного навеса, чтобы спрятаться. Биргитта слышит собственные шаги, и собственное шумное дыхание, и далекое завывание сирен. Уже? Неужели менты уже тут?
Она лихорадочно дергает запертые двери подъездов, нажимает одну беспорядочную комбинацию цифр за другой на маленьких черных панелях – все без толку, только красная лампочка мигает. Сирены все ближе – бежать, исчезнуть…
Ее находят на лестнице в подвал, она поскользнулась на обледеневших ступеньках, разбила руки и подвернула ногу. Несколько минут она бессильно лупила и дубасила в дверь подвала, наконец сняла одну из лодочек и попыталась разбить стекло двери каблуком. Бесполезно – ни единой трещины. Закаленное!
Она сдалась, услышав, как взвыли и замолкли сирены на улице, грузно опустилась на холодный цемент и натянула на голову куртку. Так она и сидит, когда румяный молодой полицейский перегибается через перила в двух метрах над ней.
– Вон она, – кричит он. – Я нашел ее…
Он по-норчёпингски кругло выговаривает гласные, а его овчарка заливается торжествующим лаем.
Карательная экспедиция
Я бенандант[7]7
Бенанданты – согласно старинным итальянским поверьям, люди, способные помимо собственной воли покидать свое физическое тело и сражаться против ведьм, защищая от них будущий урожай. Их оружием были метлы из дурро (сорго). Бенандантом мог быть только рожденный «в сорочке» (с остатками плодного пузыря на голове). Инквизиция преследовала бенандантов наравне с колдунами и ведьмами.
[Закрыть], поелику четырежды в году, сиречь в каждое из четырех времен года, ночной порой отправлялся вместе с другими, покидая свою плоть ради незримого оборения духовного…Из оправдательной речи распорядителя публичных торгов Баттисты Модуччо перед Инквизицией в Чивидале 27 июня 1580 года
Ага. Прекрасно.
Наконец я привела моих сестриц в движение. Теперь все они у меня там, где нужно.
Кристина сидит, серая от усталости, в машине перед зданием Кризисного центра для женщин в Мутале, а Маргарета как раз из него выходит. Она старательно прихлопывает за собой дверь, дергает ее, проверяя, сработал ли замок – вся лестничная клетка пестрит предостережениями насчет ошалевших от адреналина самцов, – и останавливается закурить очередную сигарету. Кристина распахивает дверцу машины, давая понять, что она готова вытерпеть и табачный дым, лишь бы узнать о результатах разговора.
– Они не звонили, – качает головой Маргарета, усаживаясь в машину. – Там только три девчонки, одна там работает – волонтером, а две сами там прячутся. Ни одна из них не звонила, они все клянутся…
– А ты им веришь?
– Вполне. Волонтерша даже отвела меня в сторонку и рассказала, что Биргитту они больше на порог не пустят. Она пару раз била у них оборудование…
– Боже, – говорит Кристина безразличным голосом и заводит мотор. – Ухитриться надо, чтобы тебя уже и в такое место не пускали на порог… Ловко, ничего не скажешь.
– А что теперь? – говорит Маргарета.
– Завтракать, – отвечает Кристина. – Мне через два часа на работу.
Биргитта ругается. И как! Так что небу жарко, так, что дьяволам в преисподней и тем не по себе. Всех разукрасила и сама теперь словно обесцветилась: волосы повисли серыми клочковатыми прядями, кожа – бледная и пористая, и губы лишь на полтона темнее.
Ну и что? Со всяким может случиться. Даже с молочно-белой Мэрилин Монро из Муталы.
А молодой полицейский, наоборот, – картинка! Настоящий ариец с плаката – белокурый, синеглазый, здоровенный, с нежной персиковой кожей поверх железных мышц и стального скелета. Раньше таких молодых людей не было, они – порождение постмодерна, конца века.
Обычно их узнаешь по нижней половине лица – у них могучая шейная мускулатура и широкий подбородок. Вообще-то это странно. В нынешнее время молодым людям ни к чему ни мощный подбородок, ни железные мышцы. Для них куда логичнее истончиться и побелеть, превратившись в хрупкий ландыш, чем вымахать до неба, как могучий дуб.
У Биргитты челюстные мышцы тоже развиты, но по совсем иной причине, чем у юного полицейского. Больше двадцати лет кряду ее челюсти ходили ходуном в амфетаминовом скрежете зубовном. Но теперь настала тишина. Для скрежета у нее осталось не так уж много зубов, а кроме того, она перешла на другие химические соединения. Она лжет себе, будто сама сделала этот выбор, сознательно отказалась от амфетамина, наглядевшись на то, как умерли многие ей подобные. Но на самом деле не Биргитта бросила амфетамин – это амфетамин бросил Биргитту. Он перестал действовать, и ей пришлось утешаться алкоголем. Вот почему нежные ноздри Плакатного Арийца трепещут, когда он спускается по цементной лестнице. Ясное дело, от Биргитты пахнет. Причем не розой и не жасмином.
Она все сидит, скорчившись и натянув куртку на голову, и не смеет шевельнуться, несмотря на то, что он снова и снова повелевает встать. Лишь когда он хватает ее за руку и принимается тащить вверх по лестнице, она, будто очнувшись, начинает ругаться. Она плюет ему на руки и вопит, что он жестоко обращается с ни в чем не повинной женщиной, пытаясь пнуть его овчарку. Пес скалит зубы, готовый укусить, но Ариец успокаивает его. Тут важно сохранить собственное достоинство. Никто не скажет, будто он не смог без помощи собаки задержать пьяную старуху. С этим он и сам справится.
А Биргитте представление о собственном достоинстве не было ведомо никогда. Она искала унижения с какой-то жадностью. В Мутале не осталось ни одного магазина, где она бы не была поймана на краже, ни одной улицы, где бы ее, скандалящую и отчаянно размахивающую руками, не задержала бы полиция, ни одного полицейского участка, где бы она не лгала и не была уличена во лжи. Я видела, как она блевала в урну на рыночной площади, – днем в субботу, разумеется, когда на рынке больше всего народа, – а потом молча нагнулась вперед, чтобы видеть, как зловонная поносная жижа течет у нее по ногам. Я видела, как она, вдрабадан пьяная и обмочившаяся, сидит в сугробе поздним вечером, а вокруг нее с глумливым хохотом носится ватага подростков. Я видела, как она ложилась то под одного, то под другого; даже под Роджера, закрывавшего ей ладонями лицо, чтобы только его не видеть. И при всем этом я видела, как она высокомерна, как ее распирает непонятная гордость собственным падением…
Пострадавший водитель стоит посреди тротуара, вокруг него собралась небольшая толпа. Один глаз он прикрывает ладонью, из-под нее катится капля крови, словно слеза. Два других водителя встали справа и слева от него, как телохранители; повернув свои побелевшие лица к Биргитте, они смотрят на нее, свирепо выкатив глаза. Прямо перед ними стоит пожилой полицейский, ухитряясь одновременно беседовать по-свойски и держать дистанцию. Он похож на ангела, потрепанного ангела-хранителя, повидавшего столько, что больше ничего уже в упор не видит.
Босой старик наконец обулся. К тому моменту, когда Ариец то тычком, то волоком наконец переместил Биргитту через улицу, он стоит, воздев руки, возле ангела-полицейского.
– Вот она, – кричит старичок и машет веснушчатой рукой. – Это она его так отделала. Я сам видел!
– Заткнись, старый хрен! – привычно отбривает Биргитта.
Для Арийца, воспитанного старомодными родителями в почтении к старости, это уже чересчур. И он врезает ей по голове с такой силой, что Биргитта больше не издает ни звука. Лишь тогда он вспоминает, что и она, в сущности, весьма немолода.
Кристина с Маргаретой тоже притихли в машине на обратном пути в Вадстену. Они словно сообщающиеся сосуды, мои сестры. Когда одна злится или просто не в духе, другая тут же робеет и принимается льстить, заискивать и улыбаться, но немедля начинает язвить и перечить, едва сестра сменит гнев на милость. Так у них всегда ведется, по крайней мере пока в их поле зрения нет Биргитты. Но с ее появлением обе сестры проявляют сокрушительное единодушие. Поистине сокрушительное.
А теперь, в блеклом утреннем свете, они словно достигли некоего состояния молчаливого равновесия. Слов уже не осталось – столько их было сказано за прошедшую ночь. Они говорили непрестанно, сперва благоговейным шепотом, когда полагали, что направляются к смертному одру, потом – деловито и вполголоса, на все повышающихся тонах, и, наконец, ядовито и недоверчиво, когда оказалось, что никакой Биргитты Фредрикссон в числе поступивших за эту ночь нет. Это так возмутило их, особенно Кристину, что вся ее внешняя сдержанность мгновенно выветрилась. Ее каблуки гневно цокали по коридорам, когда она обходила городскую больницу Муталы, отделение за отделением, и в ее поставленном докторском голосе звучала такая власть, что испуганные санитарки приседали перед ней в книксене. А стоило Кристине преобразиться, как преобразилась и Маргарета: напускная самоуверенность тут же дала трещины, робко семеня за Кристиной в своих модных мокасинах на мягкой подошве, она нервозно лепетала: «Нет ее здесь, надо уходить, пошли…»
Но Кристина была непоколебима, она методично обследовала одно за другим все отделения в этом огромном сером здании, от детского до геронтологического. Когда же наконец, после больше часу беготни по коридорам, они сдались и спустились на лифте на первый этаж, лицо у Кристины было белое от бешенства. Ну, с нее достаточно! Теперь уж она позаботится, чтобы Биргитту посадили под замок, и лично выбросит ключ.
– Безнадежный случай, – говорит она, толкая входную дверь. – Пора усвоить. С некоторыми ничего нельзя поделать… Это на генетическом уровне. Она такая же, как ее мамаша. Безнадежная!
Холодный ночной ветер растрепал Маргаретины волосы, когда она замешкалась, нашаривая по карманам сигареты.
– Господи, Кристина, уж кто бы говорил про гены!
Кристина резко обернулась и вперила в нее потемневшие глаза. Она вся словно обрела небывалую прежде яркость, даже блеклые русые волосы будто заискрились под уличным фонарем.
– Ах, ты насчет Астрид! Хочешь сказать, я должна была стать такой же, как Астрид! Ха! Но у меня ведь и отец был.
Маргарета прикуривала, прикрывая ладонью от ветра огонек.
– И у нее тоже.
– Вот именно, – сказала Кристина. – Какая-нибудь пьянь. Еще один безнадежный случай.
– А о своем отце ты что знаешь? – наседала Маргарета. – А я? Я-то даже не знаю, кто была моя мама. Что такие, как мы, могут знать о своих генах?
– Достаточно. Наша жизнь о чем-то да говорит. А вот что мне надоело, так это твой слюнявый гуманизм… Сначала ты скулишь и всячески ее ругаешь, а потом – на попятный. Ты же ее убить грозилась, так? А как до дела дошло, сразу бедненькая Биргитта, несчастненькая Биргитта. А я и не сомневалась, что так и будет. Представь себе.
Маргарета сердито пыхнула дымом ей в лицо.
– Стало быть, только твои исключительные гены обеспечили тебе приличное существование? А то, что ты ходила в любимчиках у Тети Эллен, – это как бы и ни при чем?
Кристина фыркнула:
– В любимчиках? Я? Это ты была ее любимица! Такая симпатичная, такая веселая! А я – просто старательная зубрила, и не будь я зубрилой, ничего бы из меня не вышло. Меня бы просто не было. А Биргитта, между прочим, тоже росла у Тети Эллен… Иногда Биргитта ей даже больше нравилась. Ну вспомни, когда Биргитта пошла работать в «Люксор». Уж как ее хвалили! Настоящая работа – на фабрике! Что там все мои заслуги и отметки!
Маргарета вытянула руку вперед и ткнулась в ворс Кристининого манто, нашаривая ее локоть. Но Кристина отпрянула, торопливо и резко. Лишь тогда Маргарета поняла, что та в ярости. От этого ее собственный голос сразу стал мягче:
– Ну как ты не понимаешь? Ты ее просто пугала своими успехами. В этом для нее было что-то чуждое. Вот Биргиттина работа на фабрике – это понятное, знакомое. Ведь единственное, чего она нам желала, – это обычной жизни. Обыкновенной работы, обыкновенного мужа, обыкновенных детей… И ты все это получила. Ты все получила, чего она желала тебе, только разрядом повыше.
Но Кристина, повернувшись к ней спиной, уже направляется к стоянке.
– Туши сигарету, – говорит она. – Туши, и поедем.
Маргарета жадно докуривает на бегу.
– Куда?
– В Кризисный центр, разумеется. Потому что надо наконец с этим разобраться, раз и навсегда.
О господи. Словно это возможно – хоть с чем-то на свете разобраться раз и навсегда.
– Завтракать, – щебечет санитарка в дверях голосом радостного попугайчика. – Тебе простоквашу или овсянку, Дезире?
Вопрос – чистая формальность. Она знает, что я хочу простокваши. Не потому, что она вкусная, – овсянка с яблочным пюре вкуснее, – но когда у Черстин Первой утренняя смена, мне не дадут есть овсянку самостоятельно. Я накапаю на простыню, стало быть, меня нужно кормить. А когда приходится выбирать между простоквашей, которую можно выпить через соломинку, и телесным контактом с персоналом, я неизменно выбираю простоквашу. Всегда.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?