Текст книги "Дарвиновская революция"
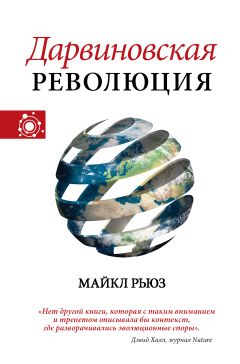
Автор книги: Майкл Рьюз
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Философия естествознания: об общем характере, пользе и принципах исследования природы», самая популярная книжка Джона Гершеля о философии науки, вышла в свет в самом начале 1831 года. Неудивительно, что Гершель в качестве парадигмы взял именно физику, в частности ньютоновскую астрономию, и мы видим, что его философские размышления о науке в целом ярко высвечивают этот несколько предвзятый выбор. Для Гершеля образчиком полновесной научной теории – а именно к ней, собственно, и должна стремиться наука – являлось то, что мы сегодня называем «гипотетико-дедуктивным методом». Гершель рассматривал научные теории как идеальные «системы аксиом», где соответствующие заключения выводятся из нескольких известных аксиом, а научные системы – из других таких же систем (по примеру геометрических), поскольку эти аксиомы (и выведенные из них теории) закономерны. Научные системы претендуют на универсальный охват мира. Хотя логически это не представляется столь уж необходимым, однако считается, что они уточняют (специфицируют) связи, которые должны быть устойчивыми и неизменными в самом строгом смысле этого слова. Как кратко выразил это сам Гершель (1831, с. 36), «каждый закон служит некоей предпосылкой для обстоятельств, которые могут случиться, и соотносится с бесконечным числом обстоятельств, которые никогда не случались и никогда не случатся». (Обратите внимание на сходство, если не идентичность, между гершелевским толкованием закона и тем стандартным его толкованием, которого придерживаюсь я.)
Отстаивая свой гипотетико-дедуктивный метод (хотя он заранее прикрыл тылы именем Бэкона), Гершель показывает, что на его выбор оказал влияние его же собственный научный багаж, в частности такой классический образчик научной системы, как ньютоновская астрономия, где кеплеровские законы выводятся из законов движения и ньютоновского закона всемирного тяготения. Но Гершель заимствовал из физики не только идеальную структуру теорий, но и нечто большее. Во многих других отношениях, утверждал он, зрелая наука должна обладать характеристиками, свойственными именно физике. Например, он заявлял, что лучшие законы – это законы количественные, поскольку они подразумевают и даже требуют точности измерений, как это свойственно и законам физики. «Действительно, свойство всех высших законов природы – принимать форму точного количественного выражения» (Гершель, 1831, с. 123). Подобные комментарии встречаются на протяжении всей книги, ясно указывая на то, что пробным камнем истинной науки является именно физика.
Сердцем гершелевской философии науки можно считать доктрину истинных причин (doctrina de verae causae); именно благодаря ей, по мнению Гершеля, мы можем начать раскрывать центральную, хотя и достаточно проблематичную идею «причинности». Гершель постулировал два основных вида законов. С одной стороны, мы имеем простые эмпирические законы – законы, связывающие между собой явления и указывающие на регулярность и систематичность их проявления, не раскрывая при этом причин, почему они происходят. Парадигмами этого класса служат законы Кеплера, которые подтверждают регулярность тех или иных явлений в обращении планет, при этом не объясняя, почему, откуда и за счет чего возникает такая регулярность. Но целью ученого должны стать поиск и объяснение причин такой эмпирической регулярности, а это невозможно без знания высших законов – законов, раскрывающих причины явлений. К сожалению, Гершель был не совсем точен в определении такого понятия, как причина, и того, что он под ней понимал, но если говорить по сути, то он, видимо, подразумевал идею наличия какого-то одного явления (причины), которое тем или иным образом ведет к проявлению или «сотворению» другого явления (следствия). Возможно, все это отдает антропоморфизмом, но в основе своей представления Гершеля о причине были именно антропоморфными. С точки зрения Гершеля высшая форма причины – это сила; он и в самом деле полагал, что всякую причину так или иначе можно свести к силе (Гершель, 1831, с. 88). Более того, Гершель подозревал, что всякая сила – это прежде всего сила воли (Гершель, 1833а, с. 233), если и не человеческая, то уж, предположительно, Божья.
Как бы ни был неточен Гершель в своих определениях, он, однако, считал ссылку на причины сутью своей доктрины. Более того, он полагал, что необходимо по возможности ссылаться на причины определенного рода – на истинные причины (verae causae). Но как увериться в том, что мы имеем дело с verae causae? Ответ прост. Мы можем и должны прибегать к сравнениям, почерпнутым из собственного опыта: «Если при сравнении двух явлений они оказываются поразительно близки между собой, и в то же самое время причина одного из них вполне очевидна, то вряд ли представляется возможным отрицать действие аналогичной причины в другом явлении, хотя сама по себе она и не очевидна» (Гершель, 1831, с. 149).
Мы можем дать еще более ясное представление о том значении, которое имела для Гершеля доктрина verae causае, поставив на другую чашу весов его полную противоположность – Уэвелла. Уэвелл, как хорошо известно, представлял собой некую аномалию: он был рационалистом или, если говорить точнее, британским кантианцем (Баттс, 1965), утверждавшим, что в науке можно многого достичь путем логических умозаключений, то есть посредством мышления, а не приобретенного жизненного опыта. По этому пункту Уэвелл расходился с большинством своих собратьев, включая и Гершеля, хотя по многим важным аспектам науки и самой ее природы его взгляды были близки взглядам Гершеля. Как и Гершель, Уэвелл считал – совершенно в духе Платона – ньютоновскую астрономию идеалом науки; как и Гершель, он поддерживал бэконовско-ньютоновский гипотетико-дедуктивный тезис; и, как Гершель, он ратовал за различие между эмпирическими и каузальными (причинными) законами. Уэвелл говорил о «формальной» и «физической» науке и о «феноменальном» и «причинном» аспектах теорий.
Но в отношении доктрины verae causae Уэвелл решительно разошелся во взглядах с Гершелем, выказав себя более рационалистом (тем, кто обращается к опыту), чем эмпириком (тем, кто этот опыт не приемлет). Уэвелл не отрицал verae causae и их важность. Но он отрицал гершелевскую эмпирическую интерпретацию vera causa, где умозаключения о неизвестном выводятся на основе аналогий, опытным путем, исходя из известного. Уэвелл (1840, 2:442) считал, что такая интерпретация слишком ограничивает любое основывающееся на ней методологическое правило, поскольку «она не позволяет нам искать причину, исключая, пожалуй, лишь те, с которыми мы уже знакомы. Но если мы будем следовать этому правилу, то как мы сведем знакомство с какой-либо новой причиной?» Так как же понимал Уэвелл доктрину verae causae? Свою интерпретацию доктрины Уэвелл связывал с тем, что он называл «непротиворечивостью индукций» (см. Лоден, 1971). В частности, он заявлял, что отличительный признак настоящей науки – а он как раз и есть убедительное доказательство того, что она исходит из истинных аксиом, – это когда различные области науки сводятся воедино и из их сравнительного анализа делается заключение, что в их основе лежат одни и те же принципы. Ньютон создал свою астрономию, когда показал, что движения планет, Солнца, Луны, приливы, отливы и так далее – что все это основывается на одних и тех же принципах. Именно отсюда, заявлял Уэвелл, и проистекает тезис непротиворечивости – гарантия истины, – особенно если некоторые из уже объясненных явлений мы изначально считали несовместимыми со своими принципами или совершенно чуждыми им. Поскольку же объяснения как таковые не «встроены» в гипотезу, а неизбежно подразумевают элемент неожиданности, то нам ничего не остается, как иметь дело с этой реальностью. Более того, всякие причины, наличествующие в изначальных принципах (и только такие причины), заслуживают права называться verae causae, хотя мы, возможно, напрямую их и не постигаем. Критерий здесь только один: verae causae – это то, с помощью чего мы объясняем свой жизненный опыт, а не то, что мы из этого жизненного опыта извлекаем.
Здесь следует отметить два важных момента. Первый: Гершель не отрицал ценности тезиса непротиворечивости. В своей «Философии естествознания» он постоянно подчеркивал важность сведения многих областей к одному центральному элементу, особенно при объяснении чего-то неожиданного или изначально неприемлемого. Но он, судя по всему, не связывал этот тезис с доктриной verae causae, как это делал Уэвелл. И второй момент: хотя подход Уэвелла был явно рационалистическим (самое важное в таком подходе – что с помощью своих принципов вы можете объяснить явление, нежели просто изучать его), он, однако, не застолбил свою позицию, обнеся ее метафизическим забором. В волновой теории света Уэвелл был знаковой фигурой, тогда как Гершель лишь принимал эту теорию, хотя и был одним из самых страстных ее защитников (Гершель, 1827), но это мало что дает – ведь мы вряд ли можем почувствовать волны, даже опосредованно! Таким образом, на протяжении всех 1830-х годов Гершель, как мы видим, отчаянно пытался – посредством аналогий – связать световые волны с непосредственным опытом (Гершель, 1833b). Однако принципиально он был согласен с Уэвеллом в том, что если мы и доверяем этой теории, то только в силу неизменности ее природы, а не потому, что она несет в себе vera causa, как понимал ее Гершель (Гершель, 1841, с. 234). Поэтому в конце концов Гершель согласился с Уэвеллом в том, что любая теория может считаться первоклассной исключительно в силу ее непротиворечивости, хотя она может и не содержать эмпирической vera causa.
Подытоживая сказанное, можно сказать, что центральным лозунгом британской философии науки в 1830-е годы был такой: «Истинная наука та, которая создана по образцу физики, в частности астрономии» (см. Уилсон, 1974). Этот лозунг допускал и эмпирическое, и рационалистическое толкования, хотя даже среди их сторонников было немало сочувственных экивоков и в ту, и в другую сторону. Таким образом, новый член научного сообщества, хотя он и склонялся подчас то в одну, то в другую сторону, подвергся влиянию обеих. Поэтому давайте теперь снова обратимся к геологии и разъясним то, на что раньше мы только намекали: что философские убеждения человека влияли самым решительным образом на его предпочтения и достижения в области геологии.
Геологические системы и доктрина verae causae
Гершель с энтузиазмом откликнулся на «Принципы» Лайеля, хотя на первый взгляд кажется невероятным, чтобы этот труд имел хоть какое-нибудь отношение к философии Гершеля. Скорее наоборот, ибо как бы кто высоко ни ценил теории Лайеля и как бы ни был согласен с тем, что тот в своих «Принципах» излагает вполне обдуманную, замысловатую, сложную, но вполне успешную стратегию (Радвик, 1969), ничего гипотетико-дедуктивного в том, что создал Лайель, не было и нет. Однако Гершель с большой похвалой отозвался о теориях Лайеля, и в этом нет ничего странного, ибо его энтузиазм был лишь одним из функциональных элементов его собственной философии. В частности, тот факт, что Гершель весьма благосклонно отнесся к «Принципам», следует хотя бы из его трактовки vera causa. (См. Каваловски, 1974. В письме к Лайелю, написанному в 1836 году, Гершель очень тепло отозвался о «Принципах»; см. Кэннон, 1961a.)
Вероятно, нам легче всего будет подкрепить это утверждение, обратившись к троякой цели, которую ставил перед собой Лайель. Во-первых, перед нами встает вопрос об актуализме, который, без сомнения, весьма привлекателен для Гершеля, ибо лайелевское стремление выказать себя актуалистом – это та же гершелевская тяга к отысканию verae causae, изложенная языком геологических понятий. Лайелианец стремится найти и практически применить в жизни причины уже им познанного – эмпирическую программу Гершеля. Более того, мы видим, что лайелевскую теорию климата, которая, безусловно, является актуалистической, поскольку она покоится на таких природных явлениях, как Гольфстрим, Гершель использовал в своей «Философии естествознания» как пример vera causa (1831, с. 146–147). Лайель и сам был счастлив примкнуть к этому движению, ибо он сказал (причем подчеркнуто, видимо, имея в виду Уэвелла), что «многократное повторение небольших конвульсий и изменений – это и есть, смею утверждать, vera causa, та сила и тот образ действий, которые, как нам известно, являются истинными» (Лайель, 1881, 2:3).
Точно так же и гершелевская доктрина vera causa тоже заставила его более осторожно относиться к катастрофам, хотя раньше он с презрением говорил о тех, кто чувствует необходимость отказаться от причин обычных размаха и силы и привлечь на помощь экстраординарные явления, такие как приближение кометы и прочие «причудливые и произвольно принятые гипотезы» (Гершель, 1831, с. 285). Вспомним, как хвастался Лайель, что его теория климата напрочь отмела эту потребность в кометах. Более того, соглашаясь с тем, что теория климата Лайеля – это, безусловно, vera causa, Гершель (1831, с. 285) обращает внимание не на актуализм этой теории, а на ее униформизм (в узком смысле), заметив, что нам не следует полагать, что климат раньше был теплее по причине катастроф, то есть из-за обилия действующих вулканов.
И наконец, хотя мы знаем, что именно Гершель снабдил сторонников дирекционализма важным аргументом и что он всячески поддерживал последовательность палеонтологической летописи, все же методологически он считал, что геолог обязан принять – если не к исполнению, то хотя бы к сведению – гипотезу о неизменяемости геологических процессов (Гершель, 1831, с. 282–283). Более того, Гершель выдвинул свое собственное предположение о причинах таких природных явлений, как поднятие суши и осаждение пород. Без сомнения, это предположение оказало существенное влияние на размышления Дарвина, да и сам Гершель искренне считал, что оно удовлетворяет критерию vera causa. «Положите тяжесть на поверхность клейкой массы. Масса продавится и обхватит этот предмет со всех сторон. Если же клей высохнет и его поверхность будет твердой, она расколется под давлением предмета» (Кэннон, 1961а, с. 307). Как раз это, добавляет Гершель, и происходит с земной поверхностью: опускание в одном месте приводит к поднятию в другом.
Из сказанного ясно, что гершелевская философия существенно повлияла на его отношение к лайелевской геологии. И наоборот, не менее ясно и то, что Уэвелл не мог не напасть на позицию Лайеля и напал на нее, отстаивая причины неизвестных качества, размаха и силы (так же как и направления), именно под влиянием своей философии, в частности под влиянием своей версии доктрины vera causa. Уэвелл считал философской ошибкой заранее исключать возможность причин катастроф. Я не хочу этим сказать, что у него были какие-то весомые идеи относительно природы причин, вызывавших, по его мнению, катастрофы; таких идей у него не было, и он, разумеется, не высказал никаких предположений, которые бы эти катастрофы объясняли. Но взгляды Уэвелла на verae causae требовали непредубежденного отношения, а взгляды Гершеля этого не допускали. Глядя на такие явления, зафиксированные в геологической летописи, как вспученные и перевернутые пласты земли, Уэвелл не был настроен философски объяснять их с позиции ныне действующих причин. Напротив, когда он видел перед собой то, что воспринималось им как подъем суши на значительную высоту, его мысль поневоле устремлялась к более веским причинам, ибо, считал он, только с их помощью можно было бы адекватно объяснить эти явления.
Теперь давайте снова вернемся к Дарвину. Я уже объяснил, что, учитывая его образование, полученное в кругу катастрофистов, кажется немного загадочным то обстоятельство, что Дарвин сделался столь страстным лайелианцем. Мы рассмотрели те геологические свидетельства, которые теребили и пробуждали его научную мысль, и не приходится сомневаться, что за долгие месяцы, проведенные им на корабле «Бигль», с увлекательной книгой Лайеля под рукой и вдалеке от своих наставников, что-то должно было случиться. Этим чем-то стало его обращение в лайелизм. Но страсть, с которой Дарвин отдался лайелизму, наводит на мысль о следующей причине, и философия как раз дает нам ключ к этой загадке. Мы знаем, что Дарвин прочел «Философию естествознания» Гершеля в начале 1831 года и пришел от нее в дикий восторг. Свой восторг он выразил в письме к своему кузену У. Дарвину-Фоксу (неопубликованное письмо от 5 февраля 1831 года, отправленное к колледж Христа, Кембридж), настоятельно рекомендуя ему прочесть эту книгу, да и в последующие годы жизни он не раз отзывался о ней как об одной из двух книг, которые направили его на научную стезю (Дарвин, 1969; «Путешествие» Гумбольдта и другие). Короче говоря, даже в те дни, когда он только начал заниматься геологией, уже тогда он находился под влиянием человека, который отстаивал идеи Лайеля, считая, что они отражают истинный взгляд на геологию. Поэтому неудивительно, что когда Дарвин сам прочитал этот труд, он подпал под его чары. (В работе, посвященной долине Глен Рой, Дарвин упоминает о действии воды как причине, приведшей к образованию песчаных отмелей, то есть как о чем-то известном, позволяющем ему прибегать к аналогиям, а стало быть, являющемся vera causa.)
Мы знаем также, что, несмотря на все их различие, философии Гершеля и Уэвелла пересекались и даже совпадали по многим направлениям. Действительно, в весеннем выпуске журнала Quaterly Review (1831) Уэвелл очень тепло отозвался о «Естественной философии» Гершеля (Уэвелл, 1831b), и, возможно, именно он рекомендовал эту книгу Дарвину. Поскольку такие пересечения действительно имели место и поскольку Дарвин, как известно, был близко связан с Уэвеллом и почитал его как одного из лучших собеседников «на тему о грубых предметах, которых я когда-либо выслушивал» (Дарвин, 1969, с. 66), поневоле напрашивается вопрос: нельзя ли в работах Дарвина найти и другие философские элементы (менее очевидные у Лайеля) – элементы, равно отстаиваемые и Гершелем, и Уэвеллом? Например, уделял ли Дарвин должное внимание гипотетико-дедуктивным системам и совпадениям? Ведь должно же быть какое-то доказательство того, что, невзирая на свой лайелизм, Дарвин как геолог стремился блюсти каноны указанных философов. Действительно, такое доказательство есть, и когда мы перейдем к рассмотрению Дарвина как биолога, я предъявлю его в подтверждение моих слов, что эти элементы существенны.
Рассмотрим проведенный Дарвином анализ коралловых рифов. (См. Гизелин, 1969; я согласен с большинством выводов Гизелина, хотя он отстаивает ту идею, что дарвиновская философия по своей природе самостоятельна, тогда как я придерживаюсь той мысли, что очень многие положения для своей философии он заимствовал у других.) Дарвин, разумеется, не набрасывал на свои соображения плотную дедуктивную сеть законов. Но, однажды вынеся на обсуждение главную идею, что рифы образовались в результате осаждения и напластования кораллов, он показывает, что из этого предположения вытекает множество следствий, во многом так же, как это делает физик, показывающий, как, отталкиваясь от причинных аксиом, можно прийти к выводу о природе явлений. И Дарвин заявляет, что если эти следствия окажутся правильными, мы получим подтверждение его гипотезы. Здесь интересно и существенно то, что Дарвин интерпретирует эти следствия как «дедукции» (Дарвин, 1910, с. 88) и удивляется (или, по крайней мере, делает вид), что некоторые из них кажутся ему прямо-таки поразительными (1910, с. 105). Дарвин указывает, например, что поскольку атоллы и барьерные рифы, на его взгляд, возникли путем осаждения кораллов, путем их наслаивания друг на друга и врастания один в другой, то, как он и ожидал, они всегда группируются все вместе. И он был рад отметить это на карте. И точно так же, поскольку окаймляющие рифы возникли не путем осаждения, а образовались за счет поднятия морского дна, то не следует искать их среди других разновидностей рифов. И опять же, он был рад отметить на карте и эту особенность. Короче говоря, Дарвин представил свою теорию (и доказательства в пользу ее) так, как этого и следовало ожидать от геолога, который, работая в области этой науки довольно неформальным образом, был склонен к философствованию в том же духе, что Гершель и Уэвелл. И последний момент: поскольку в дальнейшем этот вопрос окажется самым важным, я должен подчеркнуть, что Дарвин, вероятнее всего (каким бы радикальным геологом-лайелианцем он ни был), серьезно отнесся к идее непротиворечивости, даже несмотря на то, что она является центральной в интерпретации vera causa, которую Уэвелл противопоставлял Лайелю. Гершель предполагал также наличие и эмпирической vera causa, и это сближало его с лайелизмом; и все же он всегда поддерживал тезис непротиворечивости и даже был согласен с Уэвеллом в том, что они многого достигли в области выработки наиболее приемлемых теорий. Принимая во внимание свободомыслие и широкие взгляды Гершеля, его влияние на Дарвина, а также независимое влияние на Дарвина со стороны Уэвелла, приходишь к выводу, что подобный эклектизм скорее можно было бы ожидать от Дарвина. Но фактор времени, видимо, тоже играет свою роль. Гершель и Дарвин стали лайелианцами, а затем пришел черед Уэвелла: под влиянием волновой теории света он признал, что тезис непротиворечивости более необходим и желателен для науки, чем все предшествующие измышления. Каковы бы ни были личные убеждения Дарвина, но для него было бы большой удачей с точки зрения тактики (хотя это и отдает цинизмом), если бы он обогатил свои представления, взяв на вооружение (там, где это возможно) методологию Уэвелла. Но это один из тех моментов, которые показывают, что Дарвин (в чем я нисколько не сомневаюсь) никогда не был лицемером.
Религиозные убеждения
Я уже говорил выше, что рассматриваемые нами ученые мужи из британского научного сообщества были, безусловно, христианами, причем христианами протестантского толка, членами государственной церкви – англиканской. Но нам важно понять, что именно это подразумевает и с чем сопряжено. Как и следует ожидать от подобного общества, любое честное признание своего неверия в Бога закрывало человеку путь к социальному и прочему успеху. Как мы знаем, всякому выпускнику Оксфорда или Кембриджа надлежало быть членом англиканской церкви, а кроме того, ему, как правило, предписывалось быть членом университетского братства, каковым он и оставался даже после выпуска. Но, хотя члены британского научного общества и были англиканцами, это, однако, не означает, что все они были безупречными христианами. Однако какими бы христианами они ни были, безупречными или нет, британская социальная и образовательная система побуждала их уделять должное время налаживанию связей между наукой и религией, защищать науку от оскорбительных нападок и по возможности доносить до общественности мысль, что наука – один из столпов религии. Ламарк и Кювье могли не думать о научно-религиозных связях, ибо занимали должность профессоров в государственных, светских учебных заведениях. Но британцев – и в силу воспитания, и в силу идеологических требований, если не голой корысти – такое отношение не устраивало. И практически каждого английского профессора геологии волновало, будет ли он духовным лицом или будет (как в случае с Лайелем) подвергнут проверке на благонадежность архиепископом Кентерберийским в паре с Лондонским и Лландафским епископами (Лайель, 1881, 1:316).
Действительно, искренность христианской веры у священников из британского научного сообщества, казалось бы, не подлежит сомнению. В то время было обычным делить церковь на три течения, или разновидности: высокую церковь (к ней принадлежали те, кто, подобно Джону Генри Ньюману, рассматривал англиканскую церковь в качестве квазикатолической организации (без папы, разумеется)); низкую, или евангелическую, церковь (к ней относились те, кто ратовал за ее обновление на основе методистских принципов); и широкую церковь (к ней относились «середняки», те, кто не принадлежал ни к низкой, ни к высокой церкви). Неудивительно, что большинство мужей из нашего сообщества относились именно к этой категории (Кэннон, 1964b). Лиц, не имеющих духовного звания, очень трудно выделить в какую-либо категорию, тем более что христианские доктрины воспринимались ими гораздо проще, чем их духовными братьями, и не накладывали на них столь явственного отпечатка. Лайель, например, симпатизировал унитарианцам и в конце жизни даже посещал их молитвенные собрания. Однако из этого не следует делать вывод, что эти люди не были верующими. Даже среди старших членов нашего сообщества такие люди, как Лайель, Гершель и Бэббидж, были, каждый на свой лад, такими же верующими, как и все прочие.
Для более полного понимания того, каких именно религиозных убеждений придерживались наши ученые, позвольте мне ввести в повествование два важных термина: «богооткровенная религия» и «естественная религия». Под богооткровенной религией, или теологией, я понимаю тот религиозный аспект, который составляют христианские откровения, вера и догматы, например, что Библия есть Слово Божье, что Иисус Христос есть Сын Божий и что человеку обещана надежда на бессмертие. Под естественной религией я подразумеваю знание о Боге, полученное за счет разума и чувств, говорящих, что в мире наличествуют прямые свидетельства божественного присутствия. Не претендуя на то, что нам удастся не смешивать эти два аспекта между собой и четко рассматривать их каждый по отдельности, давайте подвергнем более детальному анализу религиозные убеждения наших ученых героев.
Богооткровенная религия
До этого момента мы имели дело лишь с идеями, геологическими и философскими, ответственными за которые были ученые рассматриваемого нами круга. Да, они были геологами, они были в какой-то мере философами, но они не были теологами; по крайней мере, никто из них не претендовал на богооткровенную теологию. Поэтому мы должны рассмотреть этот момент в более широкой перспективе, чтобы понять, какого рода богооткровенные религиозные убеждения, вероятнее всего, были характерны для их среды и окружения. С той, правда, оговоркой, что хотя некоторые из светских ученых не выказывали особого интереса к богооткровенной религии, но даже они не могли избегнуть ортодоксального религиозного образования, а потому мыслили о богооткровенной религии в том же ключе, что и прочие верующие христиане.
Тот сегмент общества, с которым мы имеем дело (правда, в ограниченных пределах), относился к библейским истинам (и тем, что заключены в Ветхом Завете, и тем, что заключены в Новом Завете) очень и очень серьезно. Библия – это Слово Божье, сказанное человеку; она рассказывает ему о прошлом, о его особых отношениях с Богом, о том, как человек согрешил и как он может спастись через веру в жертву, принесенную Христом, и с помощью собственных моральных усилий. Именно в этом сегменте общества пользовалась наибольшим спросом книга (учебник, как сказали бы мы сегодня), написанная архидиаконом Пейли в начале XIX века, где он разъяснял христианские догматы и доказывал, почему предпочтительней быть именно христианином. «Обзор христианских свидетельств» (именно так называлась эта книга) рассматривался в описываемое время как основная и обязательная часть университетского образования. Дарвин, например, мог бы и не изучать в Кембридже формальную науку, ему бы никто не вменил это в вину; но избежать изучения «Свидетельств» он при всем желании не мог, и к тому времени, когда он завершил учебу, он мог бы, по словам самого Дарвина, «переписать безукоризненно правильно все страницы “Свидетельств”» (Дарвин, 1969, с. 59).
Доводы, которыми пользовался Пейли, были весьма простыми, хотя современному читателю они, пожалуй, показались бы непродуманными. Знак истинного откровения, заявлял он, – это чудо, то есть некое явление, не укладывающееся в обычный свод законов природы. Если Иисус Христос действительно был Сыном Божьим, Он должен был совершать чудеса. А поскольку, как утверждает Библия, Он их действительно совершал, то проблема лишь в том, чтобы удостоверить их подлинность. А как их удостоверить? Лучше всего посредством тех 12 человек, учеников Христа, о которых известно, что они были реальными людьми и не только видели все творимые Им чудеса, но страдали и умирали за веру, не пожелав от нее отказаться. «Если бы я, – писал Пейли (1819а, 3:9), – сам их увидел, одного за другим, и видел бы, как они предпочли, чтобы их пытали, сжигали на кострах или душили, нежели бы отказались от правдивости своих слов», в этом случае подлинность чудес не подлежала бы никакому сомнению. Обозначив таким образом проблему, Пейли со всем присущим ему рвением приступил к ее решению. И на основе таких свидетельств, как сведения об учениках Христа и их страданиях, полученных из прочих (неиудейских) источников, пришел к выводу, что апостолы реально существовали, что чудеса, о которых они сообщают, были подлинными и что Иисус Христос в силу этого действительно Сын Божий. Короче говоря, христианство ни в чем не противоречит здравому смыслу.
Разумеется, на самом деле все не так просто и однолинейно, как это изложено в учебниках. Ведь уже к 1830 году в Британии стало сказываться пагубное влияние Германии, затронувшее, в частности, и присущую британцам веру в богооткровенную религию. В начале XIX века германской религиозной мысли был свойственен так называемый «высший критицизм» – попытка понять Библию с позиции природных законов, а не просто воспринимать ее как летопись вымышленных событий. Но волна этого движения докатилась до британского побережья только в середине столетия, хотя первые предвестия этой волны появились уже в 1830 году, в частности в виде работы «История евреев», написанной преподобным Генри Хартом Милманом и вышедшей в свет в этом году. В этой работе, издававшейся (в расчете на молодого читателя) в виде серийных выпусков, Милман без зазрения совести представляет Авраама арабским шейхом, в ходе подробного антропологического разбора его жизни и деяний доказывая, что супружеские отношения между ним и Сарой были нормальны для родовой жизни тех мест и той эпохи (тем самым устраняя сверхъестественный аспект их союза), и размышляя над тем, в силу каких естественных причин и явлений жена Лота могла превратиться в соляной столб.
Не нужно большого воображения, чтобы понять, каким образом подобный подход угрожает христианству, которое Пейли в своих «Свидетельствах» и так уже низвел до уровня простого учебника. Сегодня – Авраам, завтра – христианство. Но хотя Милман в своей работе показывает, что кое-кто из британских религиозных мыслителей выходит за рамки грубого библейского либерализма (причем независимо от прочих движений, вроде научных, учрежденных по другим соображениям), и хотя высшему критицизму тоже суждено будет сыграть свою роль в дарвиновской революции, тем не менее в 1830 году это течение было не более чем крошечным береговым плацдармом. Действительно, труд Милмана оказался настолько спорным, что издатель благоразумно отказался продолжать серию. Среди рецензентов, откликнувшихся на этот труд, наиболее резкими нападками выделялся Ньюман (1830), так и не простивший Милману того, что он превратил Авраама в арабского шейха.








































